Текст книги "Старые друзья"
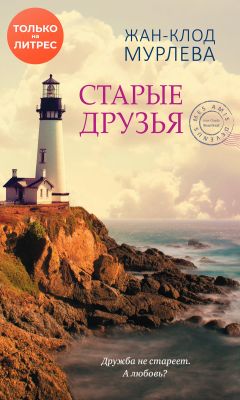
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
20
Слишком медленная езда. Золототысячник. Теория руки. Сожаления
В восемь утра я вышел на кухню и обнаружил, что Люс и Лурс разгружают посудомоечную машину. Лурс был босиком и в шортах, как накануне, Люс – в пижаме. Лурс держал в руках две тарелки, Люс – чашки. Они стояли не двигаясь и разговаривали тихими голосами, как люди, чья непринужденная беседа неожиданно приняла серьезный оборот. Я пожал Лурсу руку и обнял Люс.
– Лурс только что сказал мне, – сообщила она, – что у него три дочери, но старшая покончила с собой. Ты про это знал?
Я не знал – ни про число дочерей, ни про самоубийство одной из них. Я вообще ничего не знал о жизни Лурса. Тот молча кивнул и повернулся к шкафу, чтобы убрать тарелки. Я сказал, что всей душой ему сочувствую.
– А можно я расскажу Сильверу про права? – спросила у него Люс.
Лурс снова кивнул. Она объяснила, что его дочери Валентине было всего восемнадцать и что у нее развилась депрессия из-за того, что она провалила экзамен на получение водительских прав.
Я предложил Лурсу съездить вместе со мной на велосипедах в Ламполь за хлебом, и он согласился. Я оделся потеплее – в этот час на улице еще свежо, а он как был, так и остался в шортах и рубашке. Такой уж у него организм – ему никогда не бывает холодно. Мы молча крутили педали, когда он вдруг заговорил о своей дочери:
– Он заявил ей, что она водит слишком медленно.
– Что, прости?
– Экзаменатор. Он отказал ей в правах только потому, что она ехала недостаточно быстро. Она не нарушила ни одного правила, не сделала ни одной ошибки. Просто ехала медленно.
Я не стал уточнять, как именно она свела счеты с жизнью: бросилась с какого-нибудь местного того моста или повесилась. Я не испытывал ни малейшего желания хранить в мозгу образ Лурса, держащего холодное тело своей дочери, пока кто-то другой перерезает веревку или развязывает узел. Я просто спросил, как он это пережил. Он ответил, что никак. Люди ошибаются, если думают, что подобные испытания делают тебя сильнее. Это неправда. Они делают тебя слабее. Тогда я спросил, не считает ли он, что это у них наследственное, ведь и его мать…
– Конечно, наследственное, – перебил он меня. – Мать, сестра, дочка…
– Сестра? – изумился я. – Разве она тоже?…
– Да. – И он еще раз повторил: – Мать, сестра, дочка…
У них в роду, поведал он, все женщины находятся под властью какого-то проклятия, лишающего их вкуса к жизни. С этим ничего не поделаешь – хорошо еще, две другие его дочери свободны от этого проклятия и с ними все в порядке. Одна из них – фармацевт, вторая работает в мэрии Нанта. Потом он спросил меня про моих детей. Чем они занимаются? Я ответил коротко и машинально, не вникая в собственные слова. У меня из головы не шла картинка, на которой Лурс вынимает из петли свою дочь. До самой булочной в Ламполе мы молчали. Когда мы слезали с велосипедов, я неожиданно для себя самого спросил:
– Как погибла твоя дочь?
– Она повесилась, – ответил он. – В гараже. Я ее нашел.
– Ты был один?
– Нет, жена сразу прибежала. Я держал Валентину, а она перерезала веревку. Но было уже слишком поздно. – Он грустно улыбнулся и добавил: – Вижу, к чему ты клонишь.
Я уставился на него непонимающе.
– Ты, наверное, думаешь, что я – настоящий эксперт по женским самоубийствам. Сначала мать, потом дочка…
Я так изумился, что не нашелся с ответом.
Когда мы возвратились с хлебом и круассанами, все уже встали. Мара была в ажурном бледно-зеленом свитере и узких джинсах; про остальных не знаю – не обратил на них внимания. Я тайком осмотрел ее и решил, что она выглядит очень соблазнительно.
По всей видимости, Люс рассказала им про дочку Лурса; во всяком случае, все казались слегка пришибленными. Впрочем, не исключено, что они просто не выспались. За завтраком к нам вернулось хорошее настроение; мы заговорили о Лурсе и карате. Он признался, что очень рассчитывал на свои первые соревнования в Нанте, чтобы – после оплеухи, полученной в Германии, – показать нам, на что он способен. В результате ему пришлось во второй раз перед нами опозориться, а ведь мы с Жаном проделали из Клермон-Феррана 500 километров в видавшей виды «симке», лишь бы стать свидетелями его триумфа.
– Знаете, сколько длился бой? – спросил он и сам же ответил на свой вопрос: – Семнадцать секунд!
Когда утих общий смех, он рассказал, что впоследствии все-таки получил свой черный пояс и выиграл несколько турниров, но больше не осмеливался нас приглашать, потому что боялся, что в нашем присутствии снова сработает его злой рок и он у нас на глазах продует в первом же раунде.
Ближе к полудню мы выбрались на долгую прогулку и побережьем добрались до маяка Креак, намереваясь вернуться по северной дороге. Сначала я шел рядом с Люс, и мы говорили о путешествиях. Они с подругой объездили полмира, выбирая не слишком популярные направления, например, побывали в Парагвае, Бутане и Черногории. Люс рассказала, что подготовкой очередного вояжа они занимаются не до, а после него, иначе говоря, вообще к нему не готовятся. И бывают вознаграждены всевозможными сюрпризами. Люс убеждена, что можно поехать в любую точку мира и обнаружить там массу прекрасных вещей и свести знакомство с множеством прекрасных людей. По ее мнению, успех или неудача путешествия зависят не от направления, а от путешественника. Я не стал с ней спорить, но заметил, что между Венецией и коммуной Вьерзон в департаменте Шер, как ни крути, есть некоторая разница… Люс борется за права женщин, и все ее документальные фильмы посвящены этой теме, но она не собиралась читать мне мораль. Вообще она была очень веселой и остроумно шутила. Еще она сказала, что в машине, по пути сюда, говорила с Марой и подозревает, что в ней есть непознанные слои.
– Непознанные слои?
– Да.
– Что ты имеешь в виду?
– Как бы это выразиться… Я никак не могу понять, то ли в ней слишком много невысказанного, то ли ей просто нечего сказать…
В эту секунду Мара, шагавшая впереди с Лурсом, остановилась, чтобы нас подождать. Когда мы приблизились, она наклонилась и показала нам на желтый цветок, который рос на обочине.
– Взгляните, это золототысячник, – сказала она и прикоснулась кончиками пальцев к лепесткам.
– Красивое название, – отозвался я, а про себя подумал, что по-настоящему красивой мне кажется общая картина: склоненный силуэт Мары, ее черные волосы, колеблемые ветром, бледно-зеленый ландшафт, бело-голубое небо, спокойная гладь лежащего внизу моря и царящая вокруг безмятежная тишина. Мы втроем начали по очереди называть самые красивые имена цветов и птиц. Мара вспомнила славку и пассифлору, Люс – пеночку и венерин башмачок. Я, как ни напрягался, смог выдать только сороку-белобоку. Шагая по острову Уэссан в окружении двух женщин, с улыбкой произносящих все новые удивительные названия, я вдруг ощутил несказанную благодать. Похоже, Люс посетило похожее чувство, потому что, дождавшись, когда мы догоним двух наших друзей, она, обращаясь к Жану, сказала, что находит его затею ге-ни-аль-ной. Мы встретили ее замечание дружными аплодисментами. Жан скромно потупился и признал, что да, затея неплоха.
Вечером Лурс предложил приготовить на всех налимьи щечки. Все необходимое он купил еще утром и пообещал, что сам почистит рыбу, сам ее запечет и сам нам подаст. Мы в это время можем – если нам угодно – пить аперитив. Нам было угодно. Мы плюхнулись, кто в кресла, кто на диван, и предоставили ему спокойно трудиться. Мне показалось, или Мара слишком часто прикладывалась к стакану? Сама себе она не подливала, но не отказывалась, если ей подливал кто-нибудь другой. Люс – единственная, кто в нашей компании курил, – время от времени выходила на крыльцо, куда она заранее отнесла пепельницу в виде жабы.
Жан, потягивая виски с колой, изложил нам свою теорию руки. Она осенила его прошлой ночью, и ему не терпелось с нами поделиться. Правда, он предупредил нас, чтобы мы не относились к его идее чересчур серьезно, и был готов выслушать возражения. Итак: Лурс, по мысли Жана, это средний палец. Большой и сильный, он занимает центральное место, возвышаясь над остальными, как дерево. Мне немедленно вспомнилась сцена в муниципальном парке Лувера, когда Мара, обеими руками держась за его воротник, прижималась головой к его груди, и я почувствовал укол ревности, от которого у меня, как сорок лет назад, судорогой свело внутренности. Люс – безымянный палец. Свободный электрон, своего рода элемент дестабилизации. Она громко рассмеялась, но спорить не стала. Мара – мизинец. Грациозный, гармоничный, находящийся под защитой остальных. Мара недоуменно покачала головой и скептически фыркнула. Себя Жан сравнил с указательным пальцем – почему, он сам не знал. Мне досталась роль большого пальца, который может выстраиваться в один ряд с остальными и с равным успехом противопоставлять себя им, чтобы за ними наблюдать. Лично мне эта метафора очень понравилась. Я обратил внимание друзей, что в последней позиции предстаю перед ними своей самой мягкой и уязвимой частью, лишенной ногтя, – очевидно, потому, что не считаю нужным их опасаться. Кроме того, мне понравилось, что Жан расположил нас с ним рядом.
Лурс накрывал на стол со старанием влюбленного, чем привел нас в умиление. Он полностью сосредоточился на своей роли кулинара и вложил в нее всю душу. Он не позволил нам ему помочь и сам наполнил наши тарелки налимьими щечками, которые полил коньяком и поджег. Блюдо получилось сногсшибательно вкусным, особенно в сопровождении мюскаде, бутылку которого он привез с собой и все это время держал в холодильнике.
Ужин протекал не так бурно, как накануне; мы говорили о своих пищевых пристрастиях и о здоровье; выяснилось, что каждый из нас придерживается относительно здорового образа жизни: Люс занимается плаванием, Жан – ходьбой, Мара, Лурс и я – велосипедным спортом. Потом мы перешли к обсуждению вопроса о том, где лучше жить – в большом городе или за городом. Мы поговорили о том, кто в какие театры ходит, какие фильмы смотрит, – при этом мы намеренно избегали упоминания о своих супругах. Еще в июне, созваниваясь по поводу предстоящей поездки, мы как будто заключили между собой негласное соглашение и твердо его соблюдали. Мне удалось узнать немногое: что жена Лурса работает секретарем большого начальника, подруга Люс преподает в учебном заведении для слепых, а муж Мары – государственный чиновник. Подробности меня не интересовали. Политику мы оставили в стороне и могли лишь догадываться, кто за кого голосует на выборах. Люс, несомненно, за левых – о том свидетельствовало все ее поведение; мы с Жаном – тоже, скорее по привычке и несмотря на многочисленные разочарования. Я вполне допускал, что Лурс и Мара склоняются к правым, но это нисколько меня не смущало.
Постепенно разговор выдохся, и каждый почувствовал скуку. Ради чего мы здесь собрались? Мы явно заслуживали большего. Как ни странно, возмутительницей спокойствия выступила не Люс, а Мара. Пока Люс с Лурсом негодовали из-за вечных опозданий скоростных поездов, которыми оба часто пользовались, Мара вдруг холодно произнесла:
– Вам что, больше не о чем поговорить?
Всем стало неловко.
Мы смотрели на нее растерянно, удивленные ее жестким тоном. До сих пор мы вели себя друг с другом предельно доброжелательно. Еще больше нас поразило, что она как будто сознательно противопоставила себя остальным. Но она и не думала сдаваться:
– Я так понимаю, еще чуть-чуть, и вы начнете сравнивать свои машины.
Общая неловкость стала прямо-таки осязаемой.
Первым отреагировал Жан.
– Ты права, – кивнул он. – О чем ты хотела бы поговорить?
Она подлила себе белого вина, залпом осушила полбокала, улыбнулась и невозмутимо сказала:
– О любви, конечно, о чем же еще? А ну поднимите руки, кто из вас влюблен!
Люс подняла руку, даже не дослушав Мару:
– Я влюблена! – И она изобразила свою подругу, поливающую себя из садового шланга.
Мы трое – Жан, Лурс и я – молчали.
Наконец Жан сказал:
– Я влюблен. Просто не успел поднять руку. Я влюблен в свою жену. Тебя это устраивает, Мара?
Лурс поставил на стол блюдо сыра.
– Я тоже, – бросил он.
Настала тишина. Люс предложила выпить за наших любимых. Мара сидела опустив глаза. Казалось, она еле сдерживает слезы.
– Простите меня, – пробормотала она. – Я идиотка. Я не имела права вас об этом спрашивать. Слишком много выпила. Вы вообще заметили, что я много пью?
– Ты имеешь право делать что хочешь, – успокоил ее Жан. – Мы не собираемся никого осуждать. Мы же друзья, правда?
Мы дружно закивали.
После этого эпизода мы некоторое время пребывали в замешательстве; никто не решался прервать молчание. Наконец я не выдержал и сказал, что лично у меня стиральная машина марки Brandt и что я ею чрезвычайно доволен. Моя плоская хозяйственно-бытовая шутка не имела большого успеха – засмеялся только Жан, наверняка из чувства солидарности.
– Вы о чем-нибудь жалеете? – спросила Мара. – Я имею в виду, о том, что сделали, и о том, чего не сделали? Сейчас вы и рады бы все изменить, но уже слишком поздно… – Ее голос не звучал насмешливо – скорее жалобно. Она повертела в руке бокал. Казалось, в ней что-то сломалось. Будь я посмелее, встал бы и обнял ее. Люс нисколько не ошибалась на ее счет. Из всей нашей пятерки именно Мара выглядела самой несчастной.
Мне не хотелось, чтобы ее вопрос повис в воздухе, и я заговорил первым:
– Я – да. Я жалею о двух вещах.
Все повернули ко мне головы, и мне волей-неволей пришлось продолжать:
– Я жалею, что так и не сводил свою мать в оперу. Она перед смертью призналась мне, что мечтала об этом всю жизнь. Я мог бы сделать это сто раз. У меня были деньги и свободное время. Нет мне прощения. А сейчас уже ничего не исправишь.
Я понял, что сам себя загнал в ловушку. Мне не следовало забывать, что с годами я становлюсь все более сентиментальным. Горло сдавило – еще чуть-чуть, и я разревусь.
– Точно! – Это Жан бросился мне на выручку. – Мать Сильвера была настоящим музыкальным экспертом. Про оперу – и про оперетту – она знала все! – И он принялся в деталях излагать эпопею викторины «Пан или пропал». Изредка он косился на меня, ища одобрения, но это было ни к чему: он знал эту историю не хуже меня, и в его устах она звучала даже забавнее, чем в моих. Он спросил, можно ли раскрыть тайну одиннадцати вопросов, и я разрешил. Он разыграл сцену в лицах, перепробовав все роли: Заппи Макса – очарованного и ошеломленного; мою маму Сюзанну, без запинки отвечающую на каждый новый вопрос; мою маму Сюзанну, перед смертью открывающую мне секрет, который хранила всю жизнь; меня – внимающего умирающей Сюзанне.
Он закончил рассказ, и тогда Люс, отличавшаяся хорошей памятью, спросила, о какой второй вещи я жалею. Я надеялся, что все уже забыли о моих предыдущих словах, но я ошибся. От меня ждали ответа. Тогда я сказал:
– На самом деле нет. Нет второй вещи. На самом деле я жалею только об этом.
Лурс жалел, что накануне самоубийства Валентины наорал на нее. Она вернулась домой поздно, и от нее пахло вином. Они жутко поругались. В какой-то момент он крикнул ей: «Замолчи!» Она пыталась ему что-то объяснить, но он еще раз крикнул: «Замолчи!» Очень грубо. И она замолчала. Да, она его рассердила; он устал и плохо себя чувствовал; он из-за нее перенервничал – все так, но…
– Ты правильно сказала, Мара. Это нельзя исправить. Я велел ей замолчать, понимаете? Это были последние слова, которые я сказал своей старшей дочери, последние слова, которые она услышала от своего отца, последние слова, с которыми она ушла из жизни. «Замолчи»…
Он провел кончиком ножа по дну тарелки, где собрались остатки соуса. Мы не пытались его утешить – это было невозможно, – но все-таки мы сказали: «Ты не виноват, Лурс». Он прижал ко лбу ладонь и заплакал. Вид всхлипывающего Лурса перевернул нам душу; у нас на глаза навернулись слезы. Люс встала, обошла Лурса сзади, обняла его за плечи и сказала:
– Все в порядке, Лурс, ты ни в чем не виноват.
Он вытер глаза салфеткой и спросил, готовы ли мы перейти к десерту. Сорбе он поставил в морозилку.
Жан жалел о том, что не стал врачом. Он слишком поздно понял, что в этом заключалось его истинное призвание, но поступать в медицинский в двадцать шесть лет, чтобы получить диплом в тридцать два года, – нет, он счел, что это невозможно. Сложись все иначе, из него мог бы выйти прекрасный деревенский доктор, а вместо этого он стал обычным городским учителем и потратил жизнь на исправление чужих ошибок. Еще он жалел, что у него всего один ребенок; ему казалось, что его сыну выпало скучное детство, особенно в подростковом возрасте. Про медицинский я знал и раньше, но про огорчение насчет единственного сына, которому приходился крестным, услышал в первый раз. Я даже немного на него рассердился: почему Жан скрыл от меня, что так себя винит?
Люс не жалела ни о чем. Она честно пыталась что-нибудь придумать, но на ум приходила всякая ерунда, например, тот факт, что она не выучилась музыке. Впрочем, это упущение вовсе не было необратимым – что ей мешало хоть завтра приступить к осуществлению своей мечты? Она тут же пообещала, что сразу по возвращении начнет брать уроки игры на аккордеоне. Правда, потом она вспомнила, что в ранней юности иногда испытывала одно сожаление: одно-единственное, зато какое! Она жалела, что родилась на свет. В тот год, когда она наголо обрила себе голову, она вполне могла сотворить с собой что-нибудь похуже.
– Я ненавидела себя. Я думала, что никогда не найду себе места в этом мире. Я могла сделать то же, что сделала твоя дочь, Лурс.
Мы доели сорбе и достали чашки – кто для кофе, кто для чая. Оставалась только Мара. О чем жалела она?
Она опустила глаза и тихим голосом сказала:
– Я жалею, что не вышла замуж за Сильвера Бенуа.
Так завершился второй день нашей встречи.
21
Дождь. Конверт. Баранина. Дождь
Погода испортилась. Ночью западный ветер принес с океана сырость. Сосед успокоил нас, что сегодня дождя не будет, и мы ему поверили: он же был местный. Поэтому мы взяли напрокат еще два велосипеда и решили проехаться до восточной части острова. Жан сказал, что останется дома, потому что у него болит коленка и вообще ему нехорошо. Он опустился на диван и мрачно простонал:
– Чертова батарейка села… Двигайте без меня, ребята… Из-за меня застрянете…
Я слышал от него подобные речи сотни раз, но остальные встретили их дружным хохотом. Лурс предложил ему посмотреть колено и сделать массаж, но Жан отказался.
Утро выдалось прекрасное. Мы катили то шеренгой, то цепочкой, и чувствовали себя свободными, счастливыми и еще полными сил, пока ближе к полудню вдруг не хлынул дождь. Прежде чем обнаружить открытое – о, чудо! – кафе возле Стиффа, мы вымокли до нитки. Судя по всему, месье Пак намеренно подшутил над парижанами. Меня так и подмывало поскорее вернуться домой, пойти к нему, выжать ему на голову свой свитер и сказать: «Ваш сад похож на помойку, вы конченый дебил, и от вас воняет!» Похоже, я начинал его ненавидеть.
Ночью мне удалось поспать всего пару часов, уже под утро. Признание Мары внесло раздор в нашу дружную компанию, а в моей душе поселило смятение. Разумеется, она попыталась сдать назад, воскликнув: «Я пошутила!» Разумеется, мы встретили ее слова смехом и продолжили игру, на ходу изобретая брачные союзы, в том числе между мужчинами. Но что сказано, то сказано. Если это шутка, почему ее объектом не стали Жан или Лурс? Почему она выбрала меня? Ни от кого из нас не укрылось, с каким чувством и с какой искренностью она произнесла эту фразу: «Я жалею, что не вышла замуж за Сильвера Бенуа». Мы все слышали, как звучал ее голос. Она как будто забыла, что она в комнате не одна; она как будто говорила сама с собой. Обо мне она говорила так, будто я умер или куда-то исчез. Но я был здесь, живой и здоровый, я сидел в двух метрах от нее, вооруженный парой глаз, чтобы на нее смотреть, и парой рук, чтобы до нее дотрагиваться. Всех нас посетила одна и та же мысль: либо она искусная притворщица, чего мы за ней не знали, либо она только что вывернула перед нами душу наизнанку. В обоих случаях, как выразилась бы Люс, в ней открылись непознанные слои.
Мне очень хотелось спросить у нее, что она думает на самом деле, но о том, чтобы сделать это у всех на виду, не могло идти и речи.
Хозяин кафе подал нам обжигающе горячий чай и оставил нас одних. Мы уселись за столиком, повесив на спинки стульев мокрую одежду. Разговаривать вчетвером было проще, чем впятером, – беседа не так уходила в сторону. Мы заговорили о Жане, раз уж его с нами не было, и пришли к общему мнению, что он – самый надежный товарищ, какого только можно себе вообразить, и с ним всегда приятно иметь дело. Я не собирался этого отрицать, поскольку тесно общался с ним на протяжении последних пятидесяти лет: мы вместе воевали против Мазена, вместе ездили в Клермон-Ферран для посещения злачных мест, делили одну комнату в студенческом общежитии, я был свидетелем у него на свадьбе, а он – свидетелем на моей, я крестил его сына, а он – мою старшую дочь, мы годами вместе ездили семьями в отпуск, я присутствовал на похоронах его матери, а он – на похоронах моей. Мы ни разу не ссорились. Я признался ребятам, что одним весенним днем он спас меня от серьезной опасности. Дело было в Монреале. Они захотели, чтобы я рассказал об этом подробнее. Особенно настаивала Люс, отличавшаяся повышенным уровнем любопытства.
Случилось это осенью 2001 года. Последние десять лет я жил с сознанием, отравленным сомнением, которое поселила во мне бабка: чей же я все-таки сын. Я поделился им с Розиной, и от изумления она чуть не хлопнулась в обморок. Неделю спустя она позвонила мне. Моя история ее потрясла, и она спросила меня, чего я хочу: узнать правду или продолжать жить в неведении. Я честно ответил, что меня бросает из крайности в крайность – то я сгораю от желания навести полную ясность, то даже боюсь об этом думать. Тогда она объяснила мне, что во Франции тест на отцовство посредством анализа ДНК проводится только по постановлению суда, зато в Канаде это очень простая процедура: достаточно представить в лабораторию образцы и заплатить нужную сумму. Так вышло, что я как раз собирался по делам в Монреаль. Розина взяла у нашего отца немного слюны (якобы по просьбе лечащего врача) и собрала у него с пиджака немного волос; я проделал то же самое со своей слюной и своими волосами. Мы отправили образцы бандеролью по почте, а на следующей неделе я вылетел в Америку.
В самолете, летящем над океаном, я сидел среди дремлющих пассажиров и думал не о предстоящей лекции и не об ответах на возможные вопросы читателей. Думал я совсем о другом. Вскоре я пересеку Атлантику и все-таки узнаю, кто именно сентябрьским днем 1951 года, то есть больше полувека тому назад, в постели или на заднем сиденье машины, на лугу или на лесной поляне, днем или глубокой ночью, нежно или грубо, торопливо или терпеливо, с разговором или молча, посеял в утробе восемнадцатилетней Жанны Рош семечко, которому предстояло стать мной. После откровений бабки я пытался прощупать на этот счет отца, но все мои усилия пошли прахом. Информацию из него приходилось выжимать по капле, да и та отличалась крайней неопределенностью. В конце концов моя назойливость ему надоедала и он говорил: «Прости, но твой дядька был не очень интересным человеком. Мы с ним плохо ладили». Когда в Монреале у меня выдался свободный день, вернее, полдня, я отправился в лабораторию, расположенную на улице Шербрук. Там тщательно проверили мою личность и вручили мне конверт с результатами теста. Я сунул конверт во внутренний карман пиджака, ближе к сердцу, и вернулся в отель.
Еще никогда я не переживал подобного смятения. Не меньше часа я просидел в кресле гостиничного номера, не в силах принять решение. Весь мой предыдущий опыт, все мои знания, весь мой ум оказались бесполезны перед поиском ответа на простой вопрос: должен ли я вскрыть конверт. Чем больше я взвешивал все за и против, тем ярче разгорались в моей душе сомнения. Что, если выяснится, что моим отцом был этот отвратительный тип, мой дядька? С другой стороны, оставался радужный шанс убедиться, что я – подлинный сын Жака Бенуа, человека, которого я глубоко любил, со всеми его достоинствами и недостатками. На меня навалилось чувство вселенского одиночества. И тогда меня осенило – надо позвонить Жану.
Я его разбудил. С учетом разницы во времени во Франции было два часа ночи. До меня донесся сонный голос его жены: «Кто это?» – «Сильвер, из Монреаля, – ответил он. – Спи». Мне пришлось подождать, пока он не перейдет в гостиную. Я объяснил ему, что происходит, и пожаловался, что не знаю, как поступить. Он спросил, вскрыл ли я конверт. Я его не вскрывал – он лежал передо мной на журнальном столике, словно начиненная динамитом шашка. Жан не раздумывал ни секунды: «Выкинь его немедленно! Ты меня понял, Сильвер?» Он говорил резко, даже грубо. Я еще ни разу не слышал, чтобы он разговаривал таким тоном. Я повесил трубку, спустился на улицу и двинулся вперед. Я шел, пока не наткнулся на мусорный контейнер достаточно большого размера, из которого ничего не смог бы достать – разве что нырнул бы в него с головой – и выбросил конверт, предварительно порвав его на восемь частей. Я испытал такое облегчение, что на обратном пути в отель заплакал. Меня охватило чувство, что я только что избежал страшного несчастья, которое навсегда сделало бы меня ушибленным страдальцем. Зато сейчас я освободился от тяжкого бремени, давившего на плечи и сжимавшего сердце. На следующий день я отправил отцу открытку с видами горы Мон-Руаяль во всем ее осеннем великолепии. Обычно в конце я ставил: «Целую, Сильвер». На сей раз я изменил формулировку на: «Целую, твой сын Сильвер». С тех пор я всегда подписываю свои послания ему только так.
Мара слушала меня с особенно пристальным вниманием.
– А я вот никогда не узнаю, кем были мои родители, – сказала она. – Но мне приятно думать, что человек, имеющий возможность получить такие сведения, сам от нее отказался. Спасибо тебе, Сильвер.
Мне подобные мысли не приходили в голову, но я признал, что в ее словах был свой резон.
Жан приготовил нам сюрприз, заказав фирменное местное блюдо – баранье рагу в горшке, запеченное на вересковых углях. Он накрыл на стол, в центре которого красовался закопченный чугунный горшок, словно извлеченный из-под обломков после пожара. После велосипедной прогулки мы здорово оголодали и выскребли горшок дочиста, обильно запивая его содержимое красным сухим вином. За столом царила та же атмосфера непринужденного веселья, что и в первый день. Люс была в ударе и устроила нам настоящий спектакль, показывая, как за ней ухлестывал безнадежно влюбленный поклонник. Жан подхватил ее тон и рассказал об одной мамаше ученика, преследовавшей его с упорством, достойным лучшего применения. Почему-то в его изложении эта история выглядела умопомрачительно смешной – возможно, потому, что Жан отнюдь не был писаным красавцем, и нам стоило немалого труда вообразить его в роли предмета страстного вожделения.
Конец вечера прошел более спокойно. Мы перешли в гостиную и, слово за слово, заговорили о наименее значительных периодах своей жизни – тех периодах, в которые не случается ровным счетом ничего, и ты сам не понимаешь, на что потратил целые недели, месяцы и годы, целые сотни и тысячи часов. Мы с искренним недоумением вспоминали забытые места, встречи с людьми, чьи имена стерлись из памяти, и собственные поступки, словно совершенные кем-то другим. Мара сидела в кресле, подобрав под себя ноги и опустив голову на полусогнутую руку, покоящуюся на подлокотнике. Иногда она закрывала глаза. На ней была черная юбка и розовый свитер. Как были одеты остальные, я не помню – не обратил внимания.
– Да… – тихим полусонным голосом произнесла она. – В этом есть какая-то бестактность… Как будто шпионишь за кем-то… Тайком подглядываешь… Пока не поймешь, что подглядываешь за собой…
Я вздрогнул – она сказала точно те слова, которые вертелись у меня на языке. В тот миг меня охватило то же чувство невероятного единения, которое я испытывал, когда мы с ней сидели у нее в комнате и нам было по шестнадцать лет. Ничего не изменилось.
Несмотря на усталость, мы снова засиделись допоздна. Все же мы не виделись сорок лет и не знали, когда увидимся в следующий раз, – да и будет ли он, этот следующий раз? Нам не хотелось расставаться друг с другом. Жан уснул на диване. Мы не стали его будить и просто накрыли пледом, рассудив, что если он проснется среди ночи, то переберется к себе в спальню.
Как и накануне, Мара первой воспользовалась ванной комнатой и вскоре постучала ко мне: «Путь свободен». Эта близость меня смущала. Я в свою очередь отправился умываться. Когда я выходил из ванной, из ее комнаты раздалось легкое постукивание. То ли она выдвигала ящик ночного столика, то ли переставляла на нем какие-то предметы. Я прислушался: не донесется ли до меня шорох сминаемой ткани или шелест книжных страниц. Но было тихо. Только дождь шлепал по окнам второго этажа, и каждое «кап-кап» эхом отдавалось у меня в сердце. Я с минуту постоял у нее под дверью в ожидании неизвестно чего, а потом пошел к себе.
Так завершился третий день нашей встречи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































