Текст книги "Старые друзья"
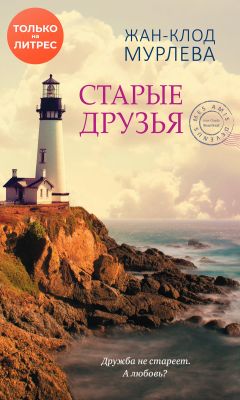
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
12
Тот мост. Отсутствие предосторожностей
Идею стреляться, сунув в рот дуло ружья, я отмел с порога, понимая, что взорам тех, кто меня найдет, предстанет крайне неприятная и очень грязная картина. Самоубийство через повешение я тоже исключил, посчитав, что этот способ больше подходит какому-нибудь фермеру-холостяку. Я отказался травиться газом, опасаясь ненароком взорвать дом со всеми его обитателями, – они-то собирались жить дальше. Оставался прыжок с высоты, имевший в моих глазах сразу четыре преимущества: во-первых, он практически сводил к нулю риск неудачи – главное, выбрать подходящую площадку; во-вторых, он выглядел красиво и торжественно, даже если не изображать из себя парящего ангела (в отсутствие зрителей это было бессмысленно); в-третьих, для осуществления замысла не требовалось никакого снаряжения; в-четвертых, можно было не бояться, что твое хладное тело первым обнаружит кто-нибудь из родных.
Я вспомнил про мост над речкой, с которого давным-давно, еще до моего рождения, сиганул один парень, который в самый день свадьбы узнал, что невеста ему изменила. Эту историю любили пересказывать у нас в деревне, и меня она всегда притягивала; всякий раз, приближаясь к мосту, я про нее думал. Мать была в курсе всех ее подробностей и охотно делилась ими со мной; что изумило меня больше всего, так это то, что новобрачная сбежала из-под венца не с кем иным, как с отцом жениха. Обманутый новобрачный неделю просидел взаперти, не показывая носу, а потом дождался ночи, пошел к мосту и прыгнул вниз, решив таким образом смыть с себя бесчестье.
Прежде чем перейти к осуществлению своего плана, я хотел съездить в Клермон, на могилу мамы Жанны, но побоялся, что моя инициатива вызовет у домашних подозрения. Поэтому я удовлетворился тем, что долго рассматривал ее фотографию, которую хранил у себя в комнате, в ящике письменного стола, – ту, где она снята по колени. Я попросил ее не ругать меня за то, что присоединюсь к ней раньше положенного. «Сильвер, тебе всего семнадцать! – возразила она. – Не рановато? Ты уверен, что другого выхода нет?» Я объяснил ей, что меня гложет тоска и жить мне больше не хочется. «Ладно, – вздохнула она, – делай как знаешь. Только не рассчитывай ни на какие чудеса. Здесь, честно говоря, скука смертная. Вообще ничего не происходит». Я сказал, что как раз это меня и устраивает.
Теперь надо было написать записку родным. Тут я столкнулся с той же трудностью, что и после гибели Бобе. У меня ничего не выходило: записка получалась то слишком длинной, то слишком короткой, то слишком легковесной, то чересчур драматичной. И даже с сестрой не посоветуешься! В конце концов я нацарапал на тетрадном листке в клетку следующее: «Папа, мама, Розина! Я вас люблю, но мне не хватает мужества дальше жить. Простите меня. Сильвер». Листок я спрятал под подушку.
Днем в воскресенье отец починил мне мопед. Дело было не в свече – просто забился жиклер, как это часто случается с моделями «пежо». Достаточно хорошенько его продуть, но делать это надо умеючи, не то надуешь в мотор лишнего. Ладно, не важно. Главное, что я вновь обрел свободу передвижения, а значит, тем же вечером мог отправиться туда, где собирался проститься с жизнью. Я запланировал прыжок в пустоту сразу после ужина, сочтя, что вечерний сумрак как нельзя лучше соответствует мрачным обстоятельствам моей судьбы. Последнее семейное застолье показалось мне таким обыденным и нормальным, что я даже засомневался: неужели через несколько часов мне и правда предстоит умереть? Мать приготовила крок-месье – горячие бутерброды с ветчиной и сыром, – не пожалев соуса бешамель, как любили мы с сестрой, и я слопал аж три штуки. Тем не менее я каждую секунду твердил себе: «Ты в последний раз смотришь, как смеется твоя сестра; в последний раз ловишь на лету салфетку, которую тебе с улыбкой бросает мать; в последний раз слышишь щелчок, с каким отец после ужина складывает свой нож; для тебя все – в последний раз».
Дождавшись полуночи, когда все уснули, я выскользнул из дома. Докатил мопед до перекрестка, до того самого места, где Бобе… – ну, это вы уже знаете. Оседлал машину и поехал к безымянному мосту. Его называли просто «тот мост» и махали рукой в нужную сторону, так что все сразу понимали, о чем идет речь. Река под мостом прорыла себе углубление, так что высота от парапета до поверхности воды составляла не меньше восьми метров – вполне достаточно, чтобы тело в свободном падении набрало необходимую скорость, прежде чем ударится о дно; откровенно говоря, в нашей речушке камней было больше, чем воды.
Я поставил мопед на боковую подставку и огляделся. Стояла почти полная луна, и пейзаж, выдержанный в серо-белых холодных тонах, полностью соответствовал моему настроению. Правда, меня немного задело абсолютное безразличие окружающей природы, которой явно было плевать на то, что я затеял. Я понимал, что нельзя требовать особого сочувствия от шеренги ясеней или овечьей загородки, но все же…
Усевшись на металлический парапет, я сказал себе, что медлить нечего и нечего давать себе время на раздумья. Надо действовать быстро и технично. Я широко раскрыл руки, завел их за спину и наклонился вперед, чтобы избежать приземления на ноги, что помешало бы реализации моего замысла. Я намеревался превратиться в труп, а не в паралитика. У меня в ушах раздался оглушительный звук, как будто рядом ударили в гонг с такой силой, что завибрировал, скручиваясь вихрем, воздух. Пока я летел, – удивительно долго – мне хотелось вспомнить на прощание улыбку Мары, но вместо нее передо мной всплыли лица родных – отца, матери, сестры. От ужаса они только беззвучно разевали рты, и лишь Розина нашла в себе силы крикнуть: «Сильвер, нет!» Прибежал даже Бобе; он стоял, свесив набок башку, и таращился на меня с недоумением, словно никак не мог понять, за каким чертом я поднялся в воздух на восемь метров над землей, хотя я вроде не муха и не птица. В последний миг я успел подумать: «Зря я это сделал. Может, все еще как-нибудь устроилось бы».
Удар тела о камни, как ни странно, не имел ничего общего с самим падением – во всяком случае, в моем сознании. Как будто этот удар произошел с кем-то другим, а не со мной. Я не почувствовал никакой боли. Просто не успел.
Что было потом? Ничего. Даже понимания того, что ничего нет. Я всегда подозревал, что после смерти не бывает ничего, но чтобы до такой степени!
Нет, конечно, никуда я не прыгнул.
Мне помешало донесшееся издалека настойчивое дребезжанье другого мопеда. На слух я определил: едет мопед на пятьдесят кубов, в точности как мой, то есть способный не столько быстро мчаться, сколько громко тарахтеть. Короче говоря, звук намного опережал картинку. Я шустро перекинул ноги назад через парапет и стал ждать. Водитель изо всех сил жал на газ, но прошла целая вечность, прежде чем он добрался до моста и затормозил около меня. Когда он снял шлем, выяснилось, что это Полька.
– Привет, Сильвер.
– Полька, ты? Откуда ты здесь?
– Еду с работы.
– Ты что, работаешь по воскресеньям?
– Ага, мою посуду в Шармиле.
– В Шармиле? А как ты тут оказалась? Ты же должна была ехать по другой дороге.
– Ну да. Но там дорогу ремонтируют, вот я и свернула. О-ля-ля!
Она здорово изменилась. Похудела. В ней прибавилось женственности. Она пригладила волосы, разлохматившиеся под шлемом, и сказала:
– А помнишь, там, в амбаре? Хорошо было, а?
Еще бы я не помнил! С тех пор прошло больше двух лет, но разве такое забудешь?
На сей раз мы нашли себе укрытие под мостом. Похоже, мы с Полькой были обречены на встречи в экстремальных условиях: то под раскаленной крышей амбара, пропахшего перезрелыми яблоками, и вот теперь, октябрьской ночью, – на ледяном каменистом берегу речки, – но что остановит влюбленную парочку? Кстати сказать, мы не предприняли никаких мер предосторожности, что было особенно глупо потому, что я последние несколько месяцев таскал с собой совершенно бесполезный презерватив, купленный вместе с Фредом еще в мае. Прежде чем заполучить требуемое, мы обошли в Лувера три аптеки. В первую я сунулся один, обнаружил, что за прилавком стоит молоденькая блондинка с короткой стрижкой (вижу ее, как сейчас), застеснялся и купил упаковку аспирина. Фред поднял меня на смех, но его посещение второй аптеки завершилось приобретением отхаркивающей микстуры от сухого кашля. Зато в третьей я добился успеха. В пачке было шесть презервативов, и мы честно поделили их на двоих – по три штуки каждому. Две из них я потратил на эксперименты, помня совет многомудрого Робера: «Резинка – она как колесная цепь для машины. Когда тебя застанет пурга, поздно учиться ее ставить. Так что запрись в гараже и потренируйся. Скажи, Полька?» Я тогда ничего не понял, но в том и состоит талант великих педагогов, что они просвещают нас незаметно: поначалу их слова кажутся мутными и лишенными логики, и лишь позже до тебя доходит их глубокий смысл.
Короче говоря, мы не предохранялись, но, согласитесь, странно ожидать от человека, собирающегося совершить акт самоубийства, чтобы он прихватил с собой презерватив. Этот аксессуар не входит в обязательный набор отчаявшейся души. На протяжении нескольких следующих недель я без конца размышлял о том, каким может быть ребенок, родившийся от меня, Сильвера Бенуа, и Полы Перу: какими будут его внешность и интеллект. Я не исключал, что он вырастет здоровяком, беспрестанно повторяющим «О-ля-ля!» и заманивающим легковерных простушек в амбар. С другой стороны, это вполне могла быть хрупкая нежная девочка, правда появившаяся на свет с мотоциклетным шлемом на голове. Я со дня на день ждал, что к нам домой заявится вся семья Польки – она впереди, с уже округлившимся животом, – и ее дед возмущенно воскликнет: «Хорошенькое дело! Нет, скажите на милость, хорошенькое дело!» Но ничего похожего не случилось.
На сей раз мы не торопились и после всего даже выкурили по сигарете, как в кино. Разговаривать с Полькой мне было особенно не о чем, но сразу расходиться нам не хотелось. И тут я сдуру спросил у нее, не приходилось ли ей когда-нибудь заниматься этим с Робером. Все последние годы он без конца ее подкалывал и отпускал в ее адрес такие прозрачные намеки, что мое предположение казалось мне более чем правдоподобным. Как же я просчитался! Она жутко оскорбилась и, стукнув меня по руке, крикнула: «С Робером? Ты что, никогда! Я никогда не была в него влюблена!» Поинтересоваться, влюблена ли она в меня, я не посмел. Вскоре холод и сырость прогнали нас из-под моста.
Вернувшись, я заметил, что на кухне горит свет. Я заглушил мотор мопеда и, толкая его перед собой, постарался бесшумно загнать во двор. Но эти драндулеты обладают особенностью издавать сипы даже с неработающим двигателем. Мать их услышала и вышла мне навстречу. Часы показывали без чего-то два.
– Что ты делал на улице, Сильвер?
– Не мог заснуть. Вот, вышел прогуляться.
– С тобой все в порядке?
– Конечно. А ты почему не спишь?
– Да я спала. Встала попить, слышу, твой мопед тарахтит. С тобой точно все в порядке? Ты ведь меня не обманываешь?
Я повторил, что со мной все в полном порядке. Вряд ли имело смысл объяснять ей, что я решил покончить с собой, но случайно встретил Полу Перу, и мы трахались под тем мостом.
13
Люс. Английский нож. Битва при Маренго
Я упоминал, что той послереволюционной осенью у нас в классе появилось двое новичков. Про Лурса я уже рассказал: без него я, разумеется, легко обошелся бы – ведь именно он увел у меня девушку, в которую я был безумно влюблен. Вторым, вернее, второй была Люс, переведенная к нам из параллельного класса – школьное начальство решило, что ее следует разлучить с двумя закадычными подружками. Столь суровое наказание было на них наложено, так сказать, по совокупности «заслуг»; последней каплей стала акция, в рамках которой все три девчонки явились в школу обритыми наголо. Они сделали это вовсе не потому, что жаждали покарать сами себя за коллаборационизм с неведомым врагом, а потому, что им хотелось разозлить взрослых и обратить на себя внимание. Своей цели они достигли – еще как! На дворе стоял июнь 1968 года, и после событий весны мир в достаточной мере свихнулся, чтобы уже ничему – или почти ничему – не удивляться. Тем не менее вид трех белых черепов, превративших знакомые лица в совершенно чужие, потряс воображение и учеников, и учителей. К началу следующего учебного года одну из бунтарок перевели в другую школу, возможно надеясь, что в новой обстановке волосы у нее отрастут быстрее. Второй родители категорически запретили даже здороваться с Люс. Ну а третьей была сама Люс.
Признаюсь, что ее репутация возмутительницы спокойствия произвела на нас сильное впечатление. Даже разлученная с подельницами, она внушала нам некоторый страх, так что ей далеко не сразу удалось стать в классе своей. Волосы у нее немного отросли, превратившись в короткий ежик, благодаря чему на лице особенно ярко выделялись глаза. Именно они больше всего в ней и поражали, вернее, их взгляд, пристальный и как будто пронизывающий тебя насквозь. Разумеется, обрив голову, она выставила себя напоказ, но мы довольно скоро сообразили, что мнение о ней других людей интересует ее гораздо меньше, чем сами люди.
Следующие несколько недель она к нам присматривалась и наконец сблизилась с четырьмя одноклассниками: двое из них – Клод Лурсе, он же Лурс, и Мара Хинц – учились на так называемом полупансионе, а еще двое – Жан Монтеле и Сильвер Бенуа, то есть я, – жили в интернате.
В первый раз я побывал у нее в конце октября, вскоре после своего неудачного прыжка с моста и удачной встречи под мостом. Она рассказала обо мне родителям, назвав меня гением, потому что я получал отличные оценки по французскому; в результате они стали просить, чтобы я занялся с ней этим и другими предметами, которые вызывали у нее трудности. Платить мне как настоящему репетитору они не могли и предложили треть обычной ставки, но мои мать с отцом сказали, чтобы я не смел брать у них ни гроша. «Если захотят сделать тебе скромный подарок, пусть, но никаких денег!» Они рассудили совершенно правильно, во-первых, потому, что я вовсе не был гением, а во-вторых, потому, что Люс оказалась гораздо способнее, чем об этом говорили ее бесконечные двойки. На самом деле из всех наших одноклассников именно Люс отличалась самым богатым воображением и самым быстрым умом, но она наотрез отказывалась подчиняться требованиям учителей и следовала только собственным правилам. Например, когда я попытался объяснить ей, что сочинение по французскому надо писать по плану: вступление, основная часть, заключение, – она ответила, что это невозможно, так как она дала своим подругам клятву. «Какую клятву?» – спросил я. «Никогда не писать сочинение по плану, вплоть до выпускного экзамена». На самом экзамене они выпендриваться не собирались, потому что самоубийцами не были, но до того намеревались твердо держать слово. Они не просто поклялись друг другу – они заключили нечто вроде священного пакта, по существу бессмысленного, но для них настолько важного, что они не отступились бы от своего ни за что на свете, даже когда судьба их разлучила. И спорить с ними было бесполезно. Еще пример. Английское слово knife – нож – они упорно писали «найф», а произносили «книф». Короче говоря, учить ее мне было особенно нечему, и очень скоро мы перестали даже делать вид, что занимаемся. При этом я до самого Рождества продолжал по субботам ходить к ней; мы болтали и слушали музыку. После Нового года эти регулярные визиты прекратились, но наша дружба не прервалась.
Если дома у Мары я испытал культурный шок, то дома у Люс меня ждало еще одно потрясение, хоть и совсем другого рода. Она жила в дешевом многоквартирном доме в Лувера вместе с родителями, братом и двумя сестрами. Семейство Маллар существовало, если можно так выразиться, в зоне высокого напряжения. Разговаривая между собой, они выдавали реплики типа: «Заткнись!», «Отвали!», «Пошел в жопу, засранец!» – но буквально через минуту раздавалось: «Ты моя прелесть!», «Я тебя обожаю!», «Иди сюда, я тебя поцелую!». Все это напомнило мне одну тетку, над которой мы с Розиной немало потешались: она, не меняя интонации, говорила своему псу: «Дай лапку, пшел вон, дай лапку, пшел вон…» Если честно, потешался в основном я, потому что Розина переживала за бедную собаку, обреченную на тяжелый невроз. Отец Люс работал на заводе, и я видел его всего один раз, когда он болел; он сидел в кресле, обложившись книгами по истории Наполеоновской эпохи, в которой считал себя экспертом. Мать суетилась вокруг без заметных результатов. Младшие сестры или плакали, или хохотали; лично я ни разу не застал их в промежуточном состоянии. Лексикон младшего братишки, за развитием которого я следил на протяжении двух лет, в основном сводился к ору; при желании в его воплях можно было разобрать нечто похожее на «чего-чего?». «Не „чего“, а „что“!» – поправляла его одна сестра. «Не „что“, а „пожалуйста!“» – не соглашалась вторая. «А ну заткнитесь!» – подводила итог спорам мать. И помещение вновь оглашал ослиный рев младшего члена семейства.
Каким образом Люс удалось стать в этом дурдоме тем, кем она стала, для меня оставалось загадкой. Во всяком случае, за одно это она заслуживала всеобщего восхищения. Кроме того, мне нравилось, что в наших с ней отношениях не было и следа двусмысленности. Тощая и плоская, она совершенно меня не привлекала, как и я ее, что вполне меня устраивало. Как я узнал гораздо позже, если она и могла испытывать нежные чувства к кому-то из нашей компании, то это был не один из трех парней, а… Мара. В общем, в Мару влюбились трое из нас – и это не считая посторонних. Только Жан не попал в ее мягкие коготки – то есть я долго в это верил, пока он – ему тогда уже стукнуло сорок – не признался мне, что тоже поддался ее чарам.
Мы встретились промозглым ноябрьским днем, на похоронах его матери. После кремации мы зашли в деревенское кафе выпить горячего грога, и он ни с того ни с сего выложил мне все, наверное под влиянием эмоционального потрясения: «А ты знаешь, что я тоже был влюблен в Мару? Не так, как ты, но все же…» Потом он спросил, почему я смеюсь, и я ответил, что это просто невероятно: столько лет скрывать от меня такую важную вещь! В тот же самый день я встретился с его отцом – героем нашего бельгийского приключения, грозой «дофинов». Он показался мне печальным, постаревшим, озябшим; вообще он как-то уменьшился в размерах. Но при виде меня он оживился и, пожимая мне руку, приговаривал: «Сильвер! Ну надо же, Сильвер! Я бы тебя не узнал!»
Но вернемся к Люс. Как-то в ноябре, в очередную субботу, я собирался прощаться, когда ее мать задержала меня чуть ли не на пороге:
– Ты куда, Сильвер? Оставайся с нами ужинать!
Я попытался отвертеться, дескать, меня ждут дома, да и вообще, не хотелось возвращаться в темноте – фары у моего мопеда включались через раз. Но она не дала мне ни малейшего шанса:
– Нет-нет! Ты остаешься, и точка!
И тут же позвонила моим родителям – предупредить, что я ужинаю у них. По всей вероятности, это и был тот подарок, которым меня следовало отблагодарить за занятия с их дочкой.
В своей жизни я побывал на многих свадьбах и банкетах, но ни одно из этих шумных мероприятий не шло ни в какое сравнение с гамом и суетой, царившими за столом семейства Люс. Сама она молчала, но остальные пятеро домочадцев самовыражались кто во что горазд. Все они говорили одновременно, неуклонно наращивая громкость звука, и не существовало кнопки, нажав на которую можно было хоть чуть-чуть ее понизить. Временами интенсивность ора достигала степени истерических воплей.
– У нас что, макароны с сыром?
– Да, макароны с сыром! Ты что, ослепла?
– Иди в жопу!
– Макароны с сыром! Ура! Обожаю!
– Спасибо!
– Кому «спасибо»?
– Передай хлеб!
– Чего?
– Хлеб передай, балда!
– А вы знаете, что Наполеон очень любил раков, и после битвы при Маренго…
– Да насрать!
– Как ты разговариваешь с отцом?
– Задолбал уже со своим Наполеоном!
– Так кому «спасибо»? Собаке, что ли?
– Ага, собаке! Тяв-тяв!
– Она у меня пластинку сперла, зараза!
– Чего?
– Ты у меня пластинку сперла!
– Ничего я у тебя не перла!
– Нет, сперла!
– Нет, не сперла!
– Это ты сперла пластинку, Пат?
– Чего-чего?
– Я спрашиваю, это ты сперла мою пластинку?
– Сильвер, а как по-английски будет «вилка»?
– Чего? Да заткнитесь вы, ничего же не слышно! Как-как, Сильвер?
– Еще раз скажи слово «насрать», и вылетишь из-за стола!
– Эй, посмотри на кота! Кажись, он сейчас блеванет!
– Точно, щас блеванет!
– Ты мне передашь хлеб, черт тебя дери?
– Нужна мне твоя пластинка!
– После битвы при Маренго он…
– Вот тебе твой хлеб!
– А я больше не хочу!
– Кому еще макарон? Сильвер! Ты такой тощий, возьми добавки!
– Отвяжись от него!
– От кого?
– От Сильвера, блин, от кого еще?
– Чего-чего?
– Мам, не наступи смотри!
– А ты возьми лучше да убери, чем советы давать!
– Сильвер, а как по-английски будет «форк»?
– Ну ты дубина! Надо говорить: «Как по-английски будет „вилка“, а никакой не „форк“»!
– Чего?
– Да заткнитесь вы все, чтоб вам!
– Ха, а я тебя предупреждала! Смотреть надо было!
– Куда смотреть?
– «Слова, слова, опять слова, одни слова-а…»
– Сколько раз тебе повторять, что за столом не поют?
– Чего-чего?
– Вроде горелым воняет?
– Точно.
– Да нет!
– Да!
– Нет!
– Да!
– А ну заткнитесь! Из-за вас я не слышу, пахнет или нет!
– А сыр еще есть?
– Кстати, о сыре. Наполеон…
– Хватит!!!
После йогурта Люс проводила меня в прихожую, и там я увидел, что она чуть не плачет.
– Извини. Зря я позволила тебе остаться.
Я вспомнил тот день, когда Мара застала меня в курятнике, вспомнил, какой стыд испытал, и мне стало жалко Люс. Я сказал ей, что не стоит брать в голову, что я прекрасно ее понимаю, и даже попытался сказать пару слов в защиту ее семейки. Но она не дала мне договорить:
– Перестань. Они полные уроды. Я жду не дождусь, когда свалю отсюда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































