Текст книги "Старые друзья"
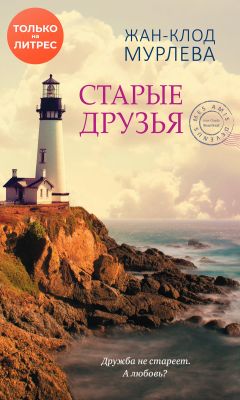
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Она проводила меня до двора, где я оставил свой мопед.
– Спасибо, что подвез.
– Не за что. Ну пока. Завтра в «Глобусе»?
– Договорились.
– Ну пока.
– Пока.
Так могло продолжаться до бесконечности, и тогда я наклонился и легонько поцеловал ее в губы. Она очень удивилась, но не отпрянула и тоже меня поцеловала.
– Пока.
– Пока.
– До завтра.
– До завтра.
На обратном пути я гнал во всю мочь, иначе говоря, на скорости 35 километров в час. Я с грохотом пролетел через Лувера, даже не притормозив на светофоре (единственном в городке), и возле испещренного охотничьей дробью дорожного щита, за которым начиналась деревня, взлетел в воздух.
Раньше я еще никогда не летал, и это было потрясающее чувство. В свете закатного солнца я смотрел сверху на желтые черепичные крыши, ручей, в котором учился плавать, прямую дорогу, обсаженную платанами, деревню в окружении пастельной мозаики полей, холм и лес и орал во всю глотку: «We skipped the light fandango-o-o». Будущее представлялось мне лучезарным: наша революция явно побеждала; скоро к власти придут люди, наделенные воображением, – лично меня это устраивало на все сто; мы покончили с банкирами, милитаристами и занудами всех мастей, мешающими нам жить; наступала эра свободы; народы мира вот-вот со мкнутся в братском объятии, невзирая на расы и цвет кожи, примером чему – восхитительно юным примером – служили мы с Марой, потому что наш поцелуй знаменовал лишь начало, за ним последуют другие, более страстные; я буду раздевать ее, прижиматься к ней всем телом, сколько угодно любить ее и ласкать; у нас родятся прелестные дети, которые будут цепляться нам за ноги и походить на нас как две капли воды.
Когда мы с мопедом вновь обрели контакт с земной твердью – на пересечении нашей дороги с шоссе, в том самом месте, где под колесами убийцы из Алье погиб Бобе, – мой восторг нисколько не угас, но к нему примешалось легкое чувство страха. А что, если я окажусь не на высоте того, что со мной происходит?
Мара Хинц. Это имя, столь разительно отличавшееся от привычных местных имен, звучало завораживающе. В нем экзотика и темная чувственная глубина – Мара – сливались с современным немецким прагматизмом ее приемных родителей – Хинц. Само это удивительное сочетание доказывало, что Мара Хинц – создание во всех смыслах необыкновенное. Чтобы дотянуться до нее, мне, Сильверу Бенуа, родившемуся в Лувера и никогда не выбиравшемуся из этой дыры, следовало сделать многое: освободиться от своих корней, забыть о них, замести под ковер, которого у нас отродясь не водилось, ферму, цесарок и манеры моих родителей. Манеры матери, которая, несмотря на свою покладистость, доброту и странный вкус к опере, все же оставалась до ужаса здешней, но главное – манеры отца, выдававшие в нем заскорузлого деревенщину. Непростая задача.
10
Дверь. Курятник. Письма
Поцелуи – да, поцелуи были. Мы целовались, стоило нам остаться наедине, пока не начинали неметь губы и язык. Еще мы обнимались. Я трогал ее под майкой или рубашкой, оглаживал ее бедра, но доступ к другим частям ее тела был мне запрещен: с севера его перекрывал ремень ее брюк, с юга – если на ней была юбка – мои атаки натыкались на тесно сжатые колени. Ключевым словом наших разговоров в те полтора летних месяца оставалось короткое «нет». Это не было жесткое приказное «нет», исполненное скрытого упрека; это было нежное и пропитанное сожалением «нет», в котором мне слышалось: «Не сейчас». Словарь «Робер», со свойственной ему прямотой, сказал бы мне: «Балда! Если девчонка говорит „нет“, это означает „да“! Не будь дураком!» Но я-то знал, что ее тихое и робкое «нет» на самом деле означает «нет», и даже мой любимый суровый наставник не смог бы его проигнорировать. Опыт с Полькой в данном случае был совершенно бесполезен, поскольку я быстро понял, до какой степени она уникальна – то, что прокатывало с ней, с нормальными людьми не работало.
Когда мне – очень редко – удавалось избавиться от своего наваждения, мы проводили восхитительно долгие часы в ее комнате, дверь которой она оставляла приоткрытой, чтобы кто-нибудь из родителей мог в любой момент к нам войти. Никогда и ни с кем – за исключением Жана – я не получал такого удовольствия от разговоров. До переезда к нам она жила неподалеку от Парижа; она признавалась мне, что мечтает о младшей сестренке, как у меня, или о младшем братишке, потому что одной очень скучно. Она предлагала встречаться и у меня дома тоже, уверенная, что моя сестра – прелесть, мои родители – замечательные, а цесарки – потешные. Но я не спешил приглашать ее к нам. Профессия моего отца вовсе не казалась мне престижной, особенно по сравнению с ее родителем, который был инженером-геологом. Еще ей хотелось познакомиться с моей бабкой, но тут у меня включился сигнал тревоги, и я ответил, что это подождет. Будь жив дед, способный ляпнуть что угодно, он без всякой злобы отпустил бы какую-нибудь шуточку насчет цвета кожи моей подруги, но бабка наверняка разразилась бы чудовищной расистской тирадой, настоятельно советуя Маре убираться назад, в свой Казаманс.
С каждой новой встречей нам все больше открывалось, до чего сходно мы мыслим. Я никогда не поверил бы, что такое возможно с кем-нибудь, кроме Жана, и вот – о, чудо! – это случилось, и с кем! С самой красивой в мире девчонкой! Мы соглашались по любому вопросу, от самых важных, как, например, убийство в апреле того года Мартина Лютера Кинга, до самых пустяковых.
– А с тобой такое бывает? Вроде бы уже засыпаешь, и как будто краем сознания понимаешь, что вот сейчас вырубишься…
– Точно! Что-то вроде головокружения…
– Именно.
– Ну да. А у тебя не бывает, что посреди дня ни с того ни с сего вдруг слезы подступают? Хотя все нормально?
– Бывает…
– А как ты думаешь, к животному можно привязаться как к человеку?
– Не знаю.
– А я думаю, что можно. У меня был пес, Бобе… Эти взаимные признания приводили меня в невероятное чувственное волнение; мы как будто обнажались друг перед другом, и каждый раз, когда между нами возникало это ощущение близости, в котором перемешивались нежность и желание, я, не в силах сдержаться, набрасывался на нее. Она позволяла целовать себя и гладить, но потом звучало фатальное «нет», означавшее, что я должен убрать руки и не пытаться закрыть дверь.
Я пересказывал Жану свои эротические сны, героиней которых была Мара. Они снились мне всю жизнь, и часто начинались с того, что она наконец решалась закрыть эту дверь. Будь я американским писателем, я бы написал: «эту чертову дверь».
Жан в своих письмах издевался и надо мной, и над дверью. «Но Мара хотя бы кипит?» – спрашивал он. Я отвечал, что нет, зато киплю я и сам себе напоминаю скороварку.
В этих играх мы дожили до лета. В конце июля Мара уезжала на океан с родителями и кучей двоюродных братьев. Я знать их не знал, но немедленно наделил всеми мыслимыми пороками. Моя ревность превратила их всех в полуграмотных тупиц и уродов. Ничего, думал я, пусть с ними покрутится, поймет, кого она в моем лице потеряла!
День накануне ее отъезда стал кошмаром моей жизни. К моему изумлению, она прикатила на велосипеде к нам, чтобы со мной попрощаться. Отец подрядил меня чистить курятник, где она меня и нашла – в сапогах, покрытого потом, окутанного смрадным облаком птичьего помета.
Я был до того грязен, что мы даже не прикоснулись друг к другу. Я просто вышел с ней поговорить. Разумеется, ветер дул в нужную сторону – иначе говоря, принося с собой густую вонь с соседней навозной кучи; на мой взгляд, символ деревенского быта и моего личного позора.
– Ты зачем пришла? Мы же договаривались встретиться в Лувера.
– Ну, договаривались. Но я решила прийти. Ты что, недоволен?
– Нет, но я предпочел бы, чтобы ты меня предупредила.
На самом деле я был не просто недоволен – я был смертельно оскорблен. К ней подбежал палевого окраса щенок, заместивший Бобе, но она не оценила его дружелюбия и даже замахала на него руками. Улыбка исчезла с ее лица.
– Ладно, если ты мне не рад, я пошла.
Поскольку я не делал попытки ее удержать, она развернулась и бросила мне через плечо:
– Но хоть вечером-то увидимся? В «Глобусе»?
До сих пор не знаю, что на меня нашло, но я ляпнул:
– Нет, я не приду. Мне надо помочь отцу.
– Тогда до конца каникул?
– Угу. До конца каникул.
Она села на велосипед, послала мне вежливый воздушный поцелуй и укатила, ни разу не оглянувшись. Щенок бежал за ней до самого перекрестка.
Вечером я лежал в постели и ревел в подушку. Я вспоминал книги по искусству, которые видел у нее дома, и пианино с нотами на подставке и никак не мог понять, что меня больше мучит – гнев или стыд. Но, наверное, самым сильным чувством был страх – страх потерять ее. Мне хотелось вскочить на мопед и прямо сейчас, среди ночи, мчаться к ней; я брошу ей в окно камешек; она тайком спустится ко мне, и мы обо всем поговорим; мы исправим то, что напортили, и все опять станет как прежде. Но я утратил веру в себя. Допустим, я вымоюсь, переоденусь, надушусь и внешне буду выглядеть прилично, но в глазах Мары мне суждено навсегда остаться деревенским парнем из курятника.
В своей первой открытке (вид на остров Груа сверху и синий крестик, отмечающий расположение их дома) она писала: «Добрались нормально. Дом большой, до пляжа 200 метров. Кузены симпатичные ребята, и их местные друзья тоже, но… скучаю по тебе».
Чем я занимался в те августовские дни и ночи без нее? Про ночи более или менее понятно, а про дни – не помню. Наверное, написал ей с дюжину писем, каждое на нескольких страницах, в стихах и в прозе, наверное, плавал в речке, ловил пескарей, катался на мопеде и играл с двумя-тремя приятелями в футбол, благо поле в Лувера пустовало. Водил Розину смотреть «Оскара» с Луи де Фюнесом – к нам в деревню на один вечер приезжала кинопередвижка. Как-то ночью, опять-таки с приятелями, мы пошли на кладбище и попытались (тщетно) войти в контакт с мертвецами; правда, должен добавить, что я категорически запретил ребятам курить на могиле моего деда.
Перед началом учебного года меня ждала абсолютно неожиданная и радостная весть: я узнал, что Жан Монтеле возвращается! Сам он не намекнул мне об этом ни словом. Его мать так и не сумела привыкнуть к жизни в департаменте Эндр-и-Луара, постоянно ныла и в итоге решила вернуться в наши края. Я увидел Жана из глубины двора; он изобразил передо мной глубокий театральный поклон, выпрямился, постоял немного, повернулся сначала одним профилем, потом другим и, наконец, весело рассмеялся. Он здорово вырос, уже брился (я еще нет) и по-прежнему высоко поднимал воротник. Наша встреча прошла легко и гладко; у обоих было ощущение, что мы и не расставались. А вот встреча с Марой, напротив, обернулась крайне печальным сюрпризом.
Она не то чтобы меня избегала, но явно не спешила со мной увидеться. Неужели кто-то другой трогал ее во время отдыха на острове Груа? Если так, они за это дорого заплатят. Я по одному разыщу их, отрублю им пальцы, которыми они смели ее касаться, и засуну им в задницу. Я выколю им глаза, которыми они на нее пялились, и с корнем вырву язык, который они совали ей в рот.
Как-то днем я подкараулил ее после окончания основных уроков, когда из школы уходили домой экстерны и те, кто учился на полупансионе. Мы стояли в гуще двигавшейся толпы, нас толкали и пихали и слева, и справа, но молчать я больше не м о г.
– Что случилось? Ты больше не хочешь меня видеть?
Она молчала.
– У тебя появился кто-то другой? Да?
– Нет. Никто у меня не появился.
– Тогда в чем дело?
– Какое дело?
– Почему ты больше не хочешь со мной встречаться?
Молчание.
– Я тебя обидел?
– Нет. Ты меня не обижал. Просто…
– Что просто?
– Мне кажется, мы с тобой по-разному воспринимаем друг друга.
– В каком смысле?
– Извини, мне надо идти…
Она не лгала. Никто меня не оттеснял. Просто моя подружка была влюблена в меня не так, как я в нее, во всяком случае, не так страстно. Мне понадобилась не одна неделя, чтобы примириться с этой обескураживающей истиной: она относилась ко мне с большой теплотой и даже нежностью и видела во мне брата, которого у нее никогда не было, или доверенного друга. Вот только в братьев и доверенных друзей не влюбляются.
Майские события успели кануть в историю, а вместе с ними – и та пьянящая свобода передвижения, которой мы пользовались весной. Теперь наступила осень. В четыре часа пополудни Мара уходила домой, а я оставался в лицее. Видел я ее редко, и только в толпе других школьников; даже когда у нас появлялась возможность хоть мгновение побыть наедине, она ухитрялась сделать так, чтобы этого избежать. Я пытался встретиться с ней в выходные, но у меня ничего не получалось. Я перестал спать по ночам, курил одну за другой ментоловые сигареты и сочинял изумительно депрессивные стихи. Меня постоянно грызла изнутри тоска, смягчить которую не смог бы никто – и ничто. Единственный человек, с которым я делился своей болью, – Жан – сказал мне: «Не бери в голову. Знаешь, надо дойти до дна, чтобы потом подняться». На что я ему возразил: «Когда дойдешь до дна, не исключено, что оно под тобой провалится».
Однажды днем мне удалось поговорить с Марой с глазу на глаз. Я подкараулил ее после уроков возле школы. Я точно знал, что собираюсь ей сказать, и готовился сделать это, не теряя достоинства и не выставляя себя в глупом виде.
– Мара!
– Привет, Сильвер.
– Мне хотелось бы знать, почему ты меня избегаешь.
Она заколебалась, не желая меня обидеть, но затем все же решилась:
– Да, я тебя избегаю, потому что ты меня пугаешь.
– Я тебя пугаю? Я?
– Да… Вернее, нет. Это довольно сложно. Понимаешь, ты слишком на меня давишь… Письма, которые ты писал мне летом… Они, конечно, очень трогательные, но все это как-то слишком… Я плохо себе представляю, как на них ответить. За три с половиной недели ты прислал мне двадцать шесть писем! Двадцать шесть! Надо мной все потешались. Как-то утром мне принесли сразу четыре твоих письма! Ты хоть понимаешь, Сильвер, каково мне пришлось? Да, я испугалась. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Если ты на это согласен, я больше не буду тебя избегать.
Что мне оставалось? Признать, что моя любовная горячка способна внушать страх. У меня не было выбора, и я сказал:
– Хорошо, я постараюсь.
– Обещаешь?
– Обещаю.
Она меня поцеловала:
– Сильвер, я тебя обожаю.
Уходя, она обернулась и посмотрела на меня из-за плеча: ожог, ласка, затопление.
Со следующего дня я начал изо всех сил стараться сдержать свое обещание. Я прилагал героические усилия, чтобы не подходить к ней слишком близко и поменьше на нее смотреть. У меня созрел план: я завоюю ее, действуя постепенно и продвигаясь мелкими шажками. Жан дал мне совет: «Притворись, что она тебя больше не интересует. Если надо, приударь за другой девчонкой. Вот увидишь, через две недели она сама к тебе на коленях приползет и будет умолять, чтобы ты к ней вернулся». Ничего подобного не случилось. Хуже того: ее вполне устраивало, что я так страдаю.
11
Лурс. Дождь и слезы. Задница
Наш предвыпускной класс обогатился двумя новичками. Первым из них был полупансионер по имени Лурсе, которого все моментально перекрестили в Лурса. Здоровяк ростом выше метра восьмидесяти, с курчавыми волосами и невозмутимым характером, он хоть и был наш ровесник, но выглядел старше. На латыни мы сидели с ним за одной партой, и я хорошо помню свои ощущения от этого соседства: он спокойно, как нечто само собой разумеющееся, заполнял собой весь свободный объем пространства. Он прибыл к нам с запада, точнее говоря, из Нанта. Его отца назначили директором расположенного в соседнем городке частного лицея, в котором его мать работала преподавателем, но сына они предпочли отдать в нашу школу.
Одним октябрьским днем мы с Розиной шли по Лувера, направляясь к автобусу, чтобы ехать домой. Мы шагали с рюкзаками за спиной вдоль решетки городского парка, в котором я до лета часто гулял с Марой. Иногда она приносила с собой транзистор. У нас была там своя скамейка, и как-то раз я на ней даже заснул, положив голову ей на колени.
Розина на ходу горячо жаловалась мне, до чего ей противно на уроке биологии резать лягушек.
– Ты только подумай! У нее же сердце бьется! Прямо бьется! Вот скажи мне: какое мы имеем право их убивать? Почему считается, что моя жизнь стоит дороже, чем ее? Представь себе, что тебя распластали на столе, пришпилили тебе руки и ноги булавками, а вокруг толпятся гигантские лягушки в белых халатах, о чем-то между собой переговариваются и явно собираются вскрыть тебе брюхо! А ты даже закричать не можешь!
Я молчал, давая ей излить свое негодование. Откровенно говоря, судьба лягушек занимала меня меньше всего.
Тогда-то я через парковую решетку их и увидел – Лурса и Мару. Они стояли под кленом, в нескольких метрах от нашей скамейки, лицом друг к другу, и не двигались. Она уткнулась лбом ему в грудь и обеими руками держалась за воротник его куртки. Потом она подняла на него глаза, привстала на цыпочки, и они начали целоваться. Я видел, что они влюблены друг в друга. Я видел, как бьются их сердца, и это потрясло меня в сто раз больше, чем рассказ Розины о лягушках. Я сразу заметил разницу между Лурсом и мной. Мара никогда не тянулась ко мне так, как сейчас потянулась к нему, никогда не вела себя так требовательно. Со своей стороны, я никогда не обладал такой статью, как Лурс, и никогда не держался с ней так же уверенно, как он. У меня никогда не было ни его силы, ни его умения внушать окружающим ощущение надежности.
Больше, чем ревность, меня терзало чувство, что меня предали, – в особенности из-за того, что они выбрали для свидания место, которое я считал нашим с Марой. И вот спустя почти полвека я не нашел ничего лучше, чем снять дом в Уэссане и пригласить туда и его, и ее – людей, которые разбили мне сердце. Что, если они прямо у меня на глазах бросятся друг другу в объятия? Неужели я затеял все это только ради того, чтобы заново пережить былой кошмар?
Отменить встречу я был уже не в силах, зато от меня зависело, как именно она пройдет. Может, стоит раз в жизни плюнуть на самоконтроль и поддаться примитивному инстинкту? Я подожду, пока Лурс сойдет с парома, улыбнусь ему как ни в чем не бывало, а когда он ко мне приблизится, сделаю резкий выпад и головой разобью ему нос. И пусть Мара его утешает.
– Вы что, – крикну я, – думали, что каких-то жалких сорока лет достаточно, чтобы унять такую боль? Вы поверили, что я все забыл? На что вы надеялись? Что я отпущу вам ваши грехи? Так вот же вам! Ты, Лурс, свое уже получил! А ты, Мара, радуйся тому, что ты женщина! Ладно, Жан, Люс, пошли, ребята. Будем есть блинчики, запивать их сидром и вспоминать старое доброе время. А вы, Лурс и Мара, катитесь отсюда. Паром отходит через десять минут, так что поспешите. И можете на обратном пути лизаться сколько влезет – если, конечно, у Лурса не слишком опухнет нос.
Да, на какой-то миг мне захотелось превратиться в грубое животное, способное на подлое нападение, но себя не переделаешь. Если я не набил Лурсу морду сорок лет назад, когда моя рана еще кровоточила, с какой стати мне набрасываться на него теперь?
После выходных, прошедших в обстановке взаимной любви и крайнего оптимизма (отец поинтересовался, намерен ли я и дальше продолжать в том же духе или все-таки одумаюсь), в понедельник утром я подловил Мару в школьном коридоре.
– По-моему, нам надо поговорить.
– Хорошо. Только не здесь и не сейчас. Вообще на этой неделе я не могу.
– А когда?
– В будущую субботу? Вечером?
– Годится.
– Может, в «Глобусе»?
– Нет, в «Глобусе» слишком много народу. Я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз.
– Ладно. Тогда, может, «У Танлетты»?
– Договорились.
«У Танлетты» – так называлось маленькое и ничем не примечательное бистро, расположенное на окраине Лувера, которым заправляла сварливая старуха. Зато в нем стоял музыкальный автомат, и можно было надеяться, что нам никто не помешает. В субботу я приехал из школы на автобусе, а ближе к вечеру оседлал мопед и покатил назад, в городок. Сердце у меня колотилось с такой силой, что становилось ясно: я влюблен в нее так же, как накануне наших первых свиданий. Разница состояла в том, что она меня больше не любила.
Перед входом в бистро я увидел велосипед Мары. Она меня уже ждала.
Мы оказались единственными посетителями. Заказали кофе и включили музыку, чтобы Танлетта нас не подслушала. Разумеется, я постарался сделать так, чтобы автомат не заиграл «A Whiter Shade of Pale».
– Я видел тебя с Лурсом.
– Да? И где?
– В парке, на прошлой неделе. Мы шли мимо с Розиной.
– Мне очень жаль тебя, Сильвер.
– Чем я тебя обидел?
– Ничем. Ты самый лучший парень из всех, кого я знаю.
– Да? Приятно слышать. Но все же, наверное, самый лучший после Лурса.
– Ничего подобного.
– То есть?
– Понимаешь…
Затем были сказаны ненужные, бесполезные слова, единственное предназначение которых – рвать на части душу и приносить лишние страдания.
– Ты что же, раньше притворялась?
– С ума сошел! Никогда я не притворялась. Я была с тобой потому, что так хотела. И потому что мне это нравилось.
– Но до определенной степени.
– Да. Если я чего-то не хотела, то не из-за тебя.
– Ах вон оно что. Значит, с Лурсом ты тоже не собираешься?…
– Я этого не говорила. И вообще, ты все смешиваешь в одну кучу.
– Ничего я не смешиваю.
Музыка стихла. Мы с минуту сидели молча. Танлетта торчала за стойкой – явно специально. Она видела, что мешает нам, но нарочно никуда не уходила. Тогда я подошел к музыкальному автомату и наугад поставил композицию номер 103. Это оказалась «Rain and Tears» группы Aphrodite’s Child. «Дождь и слезы»… Фатальный промах с моей стороны. Виниловый диск скользнул на проигрыватель, сверху на него аккуратно опустилась игла. Зазвучала музыка – инструментальное вступление сопровождало меня, пока я возвращался к нашему с Марой столику. Но стоило мне сесть напротив нее – девушки, которая была моей первой любовью, – как раздался душераздирающий голос Демиса Руссоса: «Rain and tea-ea-ea-rs…» Этот голос проник мне в душу, пробуравил сердце, и с того мгновения я больше не произнес ни слова, боясь, что сейчас они прольются, эти самые слезы, допустить чего я ни в коем случае не мог. Я сунул руку в карман и протянул Маре приготовленный для нее подарок. Она разорвала клейкую ленту, развернула упаковочную бумагу и достала ластик. Это ее развеселило. Она положила ластик рядом со своей чашкой и своими гибкими пальцами взяла меня за руки.
– Я хочу, чтобы мы остались друзьями, Сильвер. Не знаю, что у меня получится с Лурсом. Может, ничего. Но я не хочу тебя терять. Прошу тебя. Очень прошу.
У меня в горле как будто застрял булыжник.
– Я тоже этого хочу, – наконец с трудом выговорил я, – но, понимаешь… Я в тебя влюблен. Как ненормальный…
Я чувствовал, что мои слова звучат сентиментально и нелепо, но других в ту минуту не нашел; к тому же они выражали истинную правду. Теперь уже она заплакала и только повторяла:
– Прошу тебя. Ну, пожалуйста. Скажи, что ты согласен.
Она еще раз напомнила, как много я для нее значу и как она мной восхищается. Чтобы ей отказать, надо было иметь каменное сердце, а мое больше напоминало сердцевину артишока. Я кивнул и выдавил нечто похожее на «да».
– А все-таки жалко, – сказала она. – Ужас как жалко.
– Ты считаешь… – пробормотал я.
Тем временем Демис Руссос затянул еще проникновеннее: «Rain and tea-es-ea-rs / A-are the same…» Да что он, нарочно, что ли? Он, гад, своего добился: плотину прорвало.
Теперь слезы текли по щекам у нас обоих. Они заполнили наши чашки и блюдца, пролились нам на руки, на пластиковый стол, на наши колени и на пол. «When you cry / In winter time / You can pretend / It’s nothing but the rain», – продолжал петь Демис, и против него не устояла даже Танлетта, чего мы никак от нее не ожидали. Видимо, наша печаль оказалась заразной. Она начала слегка шмыгать носом и наконец разревелась. Всхлипнув, она вышла из-за стойки и направилась в кладовку за ведром и тряпкой, но, пока она ходила, наводнение успело затопить ее бар и вода поднялась до середины стен. Она бросила бесполезную тряпку и крикнула: «Я не умею плавать!» Мы с Марой без всякого стеснения разделись – ее тело было золотистым, мое – белым – и нырнули. В слезах плавать легче, чем в воде, – благодаря соли. «But in the sun / You’ve got to play the ga-a-a-ame», – настаивал Демис Руссос. Дверь поддалась под напором воды, и поток вырвался наружу, унося с собой столы, стулья, стаканы, соломинки, бутылки мятного сиропа и музыкальный автомат. «Rain and glop… you cry… glop… pretend…» – пробулькал Демис.
Настала тишина. Слышался только тяжелый плеск волн да звуки нашего дыхания. Мы долго плавали в плотной, теплой и соленой влаге наших слез, в сумерках отливавшей серовато-ртутным цветом. Почти с головой погруженные в нее, мы миновали церковь и здание мэрии. Мы были единственными человеческими существами посреди предметов мебели и других вещей, плававших вокруг, как после кораблекрушения. Когда Мара вырывалась вперед, моему взору открывалась ее хорошенькая задница, нырявшая туда-сюда, и темневшая внизу расщелина. Я то и дело догонял ее, чтобы сказать, какая у нее красивая попа. Она меня благодарила. Потом за нашими спинами раздался чей-то голос. Мы оглянулись и увидели Танлетту, барахтавшуюся в волнах. Она что-то нам кричала. «Что она говорит?» – спросила Мара, продолжая грести руками. Я точно не расслышал, вроде бы что-то, оканчивающееся на «-итки». «Верните мне мои пожитки?» Или нет? Или: «Что вы ползете как улитки?» В конце концов я разобрал: «Вы не заплатили за напитки!»
На самом деле мы заплатили за все, что выпили. И наша любовь, судя по всему, тоже была выпита до дна. Мы вышли на улицу. Она села на оставленный возле бистро велосипед. Я смотрел, как она уезжает, и думал, что она едет на свидание с Лурсом.
Разумеется, мой мопед сломался как последняя сволочь, когда я поднимался на холм, примерно в трех километрах от дома. В баке еще оставался бензин. Напрасно я откручивал и продувал свечи, кончиком ножа разводил электроды, пытался, развернув мопед в обратном направлении, скатиться под горку, – ничего не помогало. Мотор не желал заводиться. Он утонул и промок. Тогда я поднатужился и в кромешной тьме принялся толкать мопед вверх по холму, одновременно размышляя о своем положении. Если бы Мара с самого начала не захотела со мной знаться, я бы, конечно, расстроился, но как-нибудь с этим справился бы. Сейчас все обстояло куда хуже. Сначала она вроде бы захотела, но потом вдруг расхотела, что с очевидностью доказывало мою незначительность и ничтожность. Перспектива больше никогда не поймать на себе ее влюбленный взгляд, никогда не поцеловать складочку на ее губах и не прикоснуться к ее груди под блузкой; мысль о том, что именно это – если не что-нибудь похуже – делает с ней сейчас кто-то другой, пока я напрягаю руки и ноги, толкая в гору тяжелый, как дохлый осел, мопед, а также уверенность, что в ближайшие пятьдесят лет у меня нет ни единого шанса разлюбить эту девушку, – все это не прибавляло мне оптимизма.
Короче говоря, я пришел к выводу, что самое разумное в моем положении – покончить с собой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































