Текст книги "Старые друзья"
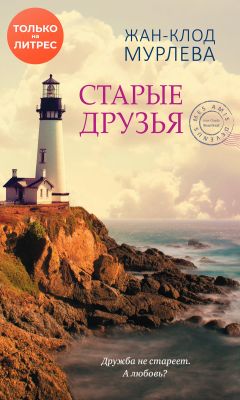
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
14
Лурс. Погремушка. Безрадостная улица
Нетрудно догадаться, что Лурса я ненавидел. Все его хорошие черты – скромность, доброта, благожелательность – вызывали во мне отторжение. На самом деле он не уводил у меня Мару, которая бросила меня раньше, но для меня это ничего не меняло: в моем сознании засело, что он занял мое место. Но я ненавидел бы его еще сильнее, если бы он не вел себя со мной с дружелюбием, которое никогда ему не изменяло. Он отнял у меня даже это – возможность ненавидеть его всеми печенками.
Еще меня смущал его вечно хмурый вид. Я в его положении – имея в виду его отношения с Марой – прыгал бы от счастья, заражая им окружающих, и в душе у меня пел и танцевал бы карнавал, достойный Рио. Меня так и подмывало подойти к нему и сказать: «Ты имеешь право целовать и обнимать Мару, а может, даже, заниматься с ней любовью. Так почему же ты ходишь с такой постной рожей? Интересно посмотреть на тебя, когда ты идешь к зубному».
Я частично понял причину его печали в тот день, когда случайно оказался у него дома. Он пропустил в школе несколько дней, и классный руководитель попросил меня зайти к нему, отнести уроки. Я скрепя сердце согласился, злясь и досадуя на себя за излишнюю сговорчивость. Он жил не в Лувера, а в городке по соседству, в пятнадцати километрах дальше. Его отец работал там директором лицея, расположенного в каменном здании XVIII века; семья занимала служебную квартиру в его крыле – по моим представлениям, в ней могли разместиться еще как минимум две. Мать Лурса преподавала в том же лицее историю и географию. Он встретил меня внизу, бледный, закутанный в огромный шарф.
– Ты на мопеде?
– Ну да. Вот, держи. Здесь все задания.
Я собрался развернуться и уйти, но Лурс сказал, что мать просила меня зайти; вроде бы она хотела меня поблагодарить. Чтобы добраться до комнаты Лурса (мать называла его Клодом, и это звучало чудно), мы поднялись по лестнице и двинулись коридором, шириной напоминавшим главную улицу Лувера, – правда, далеко не такую оживленную. Что до его длины, то я пожалел, что не прихватил с собой чем закусить – устроил бы пикник. Высота потолков вполне позволяла запускать здесь воздушных змеев.
– А в Нанте вы жили в такой же квартире? – спросил я, пока мы шли.
– Да, – ответил он, – только та была больше.
Он даже не улыбнулся, так что я не понял, шутит он или говорит правду. Приглашая нас к полднику, мать Лурса нам позвонила – вернее сказать, тренькнула, – потому что у него над дверью висел бубенчик, шнуром соединенный с кухней, отдаленной от его комнаты на двадцать пять метров. Они разработали эту систему оповещения, чтобы не приходилось каждый раз, когда будет готова еда, отправляться в пеший поход.
Я рассказал об этом Люс и поинтересовался, хотела бы она завести такой же у себя дома. Она сказала, что нет, но, когда я описал ей библиотеку семейства Лурсе – застекленные шкафы со многими сотнями книг, особенно книг по истории, в роскошных переплетах, – она вздохнула: «Вот бы моему отцу такую». Я не меньше дюжины раз сглотнул слюну, но потом все же рискнул: «Кстати, о твоем отце. Ты знаешь, что в битве при Маренго Наполеон…» Я не успел договорить – Люс размахнулась и влепила мне звонкую пощечину, крикнув: «Не смей так говорить!» Она отреагировала на мою шутку импульсивно, не раздумывая. Я извинился, признав, что получил по заслугам. Она замотала головой и запричитала, что сама просит у меня прощения за несдержанность. Она даже предложила мне дать ей сдачи, от чего я отказался – не хватало еще бить женщину.
Полдничали мы с Лурсом на кухне. Его мать – апатичная бледная кобыла – подала нам рис на молоке, подгоревший и совершенно несъедобный. Тем не менее Лурс поблагодарил ее за вкусный полдник. Когда мы вернулись к нему в комнату, он признался мне, что у его матери глубокая депрессия и приготовление этого самого риса на молоке потребовало от нее неимоверных усилий. Чуть позже я узнал, что его сестра – она была старше на двенадцать лет – тоже страдала депрессией. Что до отца, то это был крайне суровый мужчина с явно садистскими наклонностями, от которого в лицее рыдали все учителя. В общем, Лурс, слывший у нас меланхоликом, на фоне своего семейства выглядел отчаянным весельчаком.
Я без труда представлял себе, как в доме Лурсе проходят вечерние трапезы. За столом висит напряженная тишина, нарушаемая только скрипом челюстей. Лурс время от времени нарочно стукает вилкой о тарелку и шумно режет мясо, а наливая себе в стакан воды, поднимает бутылку повыше. Наконец отец не выдерживает:
– Расскажи нам что-нибудь, Клод.
И Клод покорно пересказывает какой-нибудь мелкий эпизод из школьной жизни, по необходимости изобретая его на ходу, лишь бы, до того как в 20:15 все разойдутся по своим комнатам, за столом прозвучало чуть больше трех десятков слов.
Интересно, приглашал ли он к себе Мару? Наблюдала ли она все эти картины? У каждого из нас был свой скелет в шкафу: у меня – мой курятник, у Люс – домашний дурдом, у Лурса – домашнее кладбище.
Мой визит к нему и знакомство с его мрачной семейкой уже слегка поколебали его образ, но весной, когда Мара его бросила, мы стали свидетелями полной его метаморфозы. Нашим глазам предстал совершенно иной Лурс – растерянный, смущенный, расстроенный. Он не скрывал, что они расстались, объясняя причину разрыва в двух словах: «Она расхотела». Хм, мне это кое-что напомнило, и мгновенно возникло желание его утешить. В конце концов, я переболел той же болезнью и хорошо помнил этапы ее протекания: заражение (прелестным микробом), период инкубации, появление симптомов, горячка, приступ нестерпимой боли и почти агония. К сожалению, способа лечения я не знал, поскольку сам далеко еще не исцелился.
Признаюсь, что я на краткий миг воспылал надеждой, что сработает принцип сообщающихся сосудов и Мара вернется ко мне, но любовь не подчиняется законам физики, и мои надежды угасли так же, как загорелись.
Затем случилось это ужасное событие, которое окончательно уравняло нас с Лурсом и положило начало нашей дружбе.
После пасхальных каникул он не пришел в школу. Разнесся слух, что его мать отравилась. Как бы глупо и некрасиво это ни звучало, но я первым делом подумал: уж не рисом ли на молоке? Меня довольно часто посещают мысли, от которых мне делается стыдно, – хорошо еще, что я не позволяю им вырваться наружу. Короче говоря, она воспользовалась отъездом мужа в Нант и отлучкой сына и проглотила две упаковки антидепрессантов. Это вовсе не было мольбой о помощи, потому что она не оставила себе ни единого шанса. Когда Лурс вернулся домой, ему пришлось искать ее по всему дому (воображаю, как много времени это у него заняло!) и тщетно ее звать. Потом ему позвонил из Нанта отец. «Посмотри в классной комнате, – посоветовал он сыну. – В двадцать четвертой аудитории, на третьем этаже». Там он ее и нашел. Слишком поздно.
Мне не составило труда представить себе, как здоровяк Лурс – единственное живое существо в пустынном здании лицея – обходит комнату за комнатой, и его шаги гулко отдаются в каменных коридорах. Вот он заходит в двадцать четвертую аудиторию и обнаруживает безжизненное тело матери. Не менее ясно я видел и дальнейшее: как по вечерам он ужинает в обществе своего бесчувственного отца, произносящего все ту же фразу, ввиду новых обстоятельств лишь слегка измененную, и вместо «Расскажи нам что-нибудь, Клод» говорит: «Расскажи мне что-нибудь, Клод». И колокольчик, оповещающий о том, что пора за стол, больше не звенит.
После похорон, состоявшихся в Нанте, он вернулся в ореоле скорби, ввергая нас в смущение своими опухшими покрасневшими глазами. При первой же возможности я подошел к нему и сказал, как ему сочувствую, вспомнив про рис на молоке, которым меня угощала его мать, – разумеется, не упомянув о том, что он был несъедобным, – и в порыве откровенности добавил, что моя родная мать умерла при моем рождении. Он сказал, что знает об этом от Мары, что они с ней часто говорили обо мне и что она меня обожает. Но только летом, во время нашего путешествия в Германию, в тот вечер, когда мы выпили слишком много пива, он подробно рассказал мне, как нашел тело матери.
– Я стоял перед дверью двадцать четвертой аудитории, – говорил он, – и не мог набраться смелости, чтобы ее открыть. Зубы у меня стучали – от жуткого холода в коридоре и от страха. Если я говорю, что они у меня стучали, не думай, что это фигура речи – они у меня реально выбивали дробь. Я стоял и твердил про себя: «Господи, я же тут один, совсем один, что я смогу сделать, я же, блин, просто мальчишка!» Но когда я вошел и увидел ее, я понял, что именно я, и никто другой, должен быть здесь, что это мое место. Она лежала в углу, скорчившись и прижав руки к животу. На ее лице в кои-то веки застыл покой. Я не стал ее поднимать, оставил на полу и сам лег рядом с ней, обнял ее и начал с ней говорить. Она была уже холодная. Я не сразу поднял тревогу. Мне казалось, я должен был воспользоваться моментом, понимаешь? Когда я встал, то увидел, что на доске, в самом низу, она крошечными буковками написала мелом: «простите». Отец догадался, где ее искать, потому, что однажды она сказала ему, что единственное место, где она чувствует себя хорошо, – это та самая аудитория.
Летнее тепло оголяло девичьи руки, плечи и коленки, а иногда – и ножки: то с помощью ветра, то по инициативе их владелицы, если она, присаживаясь, их скрещивала, и эта картина возбуждала нас в наши шестнадцать-семнадцать лет гораздо сильнее, нежели избрание Жоржа Помпиду президентом республики. Шоколадная кожа Мары, прикрытая легкими одежками зеленого или ярко-желтого цвета, напомнила мне, что я потерял право до нее дотрагиваться, и осознание этой утраты едва не заставило меня снова отправиться на тот мост и на сей раз окончательно и бесповоротно с него прыгнуть. Каждое утро я чмокал ее в щеку, понимая, что больше не могу спуститься на пару сантиметров и коснуться губами ее губ, и это было для меня настоящей пыткой.
Как-то в воскресенье мы с Жаном отправились автостопом в Клермон. Мы долго бродили по улицам под нещадно палившим солнцем, в грязной забегаловке позади вокзала съели по кошмарному сэндвичу, а с наступлением темноты оказались на печально известной улочке, которая и была целью нашей экспедиции, хотя ни он, ни я вслух об этом не заикались. Время нашего возвращения давно миновало, и мы позвонили домой, чтобы предупредить родных, что задержимся. Мой отец жутко разозлился, что случалось с ним редко, и сказал, что приедет за нами на грузовике.
– Где вы? Посмотри, как называется улица! Я выезжаю!
– Не надо, пап. Мы сами доберемся.
Не мог же я сказать ему: «Да, папа, мы стоим на улице Шеваль-Блан, неподалеку от вокзала. Знаешь ее?» И он ответил бы мне: «Ну конечно, знаю. Я сам там бывал, когда служил в армии. А та рыженькая со стеклянным глазом у них все еще работает?» – «Работает, еще как! Она шлет тебе привет и говорит, что в память о ваших встречах сделает мне скидку».
Женщин там было две – и нас тоже было двое, так что мы решили, что это знак судьбы. Сначала мы прошли мимо них, похожие на тех, кем, в сущности, и были, – парой здоровенных сопляков, июньским воскресным вечером робко косящихся на двух усталых профессионалок. Первая – на вид лет сорока – сказала:
– Пошли со мной, мальчики? Со мной не соскучитесь, обещаю!
Мы молчали, и тогда вступила вторая, блондинка чуть постарше первой:
– Можно сразу вдвоем. В компании веселее.
Добредя до угла улицы, мы пришли к согласию, решив, что должны попробовать – просто ради эксперимента. Но, разумеется, не сразу вдвоем – об этом не могло идти и речи.
– Тебе какая больше нравится?
– Темненькая. Как, думаю, и тебе.
– Ну да, она намного лучше. Подбросим монетку.
Мне досталась темненькая. Расставаясь, мы договорились, что будем запоминать все детали происходящего, чтобы потом обменяться впечатлениями. Что лишний раз подтверждало единство наших намерений: нас в первую очередь волновало расширение нашего культурного горизонта. А вы что подумали?
Четверть часа спустя я уже сидел в той самой забегаловке, где днем нас накормили отвратными сэн двичами.
– А второй где? – спросил хозяин заведения.
«Так я тебе и сказал», – вздрогнул я про себя и заказал пепси с большим стаканом воды, потому что умирал от жажды. Примерно через полчаса в дверях возникла сияющая физиономия Жана.
– Черт, где ты пропадал?
– Ну, я не торопился…
– Да? А я наоборот. Она не разрешила себя целовать и даже гладить – только за дополнительную плату. А твоя?
– Ну, как тебе сказать… Но, говорю же, я не стал торопиться.
– И правильно сделал. Молодец.
На самом деле «эксперимент» показался мне омерзительным, и я не раз вспомнил Польку с ее неподдельным желанием. Мне было жалко двадцати франков, составлявших половину моего месячного запаса карманных денег и так бездарно потраченных на сомнительное удовольствие. В тот день я дал себе клятву никогда не заниматься этим с женщиной, не испытывающей ко мне искреннего влечения. Кроме того, мне было досадно видеть, как доволен Жан: его хватило на целых полчаса, а меня – всего на десять минут. Я чувствовал себя униженным – ровно до того момента, когда (мы в полной тьме стояли на обочине шоссе в надежде поймать попутку) он сделал мне признание:
– Она сказала, что сперва сама меня помоет, и… Короче, все кончилось раньше, чем началось. Ее это очень развеселило – в отличие от меня. Но она оказалась довольно симпатичная и предложила – за небольшую дополнительную плату – подождать, пока я снова не буду в форме. Мы поболтали. Она рассказала, что у нее есть собака, которая обожает шоколад.
– Сколько она с тебя взяла?
– Она сказала, что обожает Италию, потому что там самое вкусное мороженое. Во Франции такого нет…
– Сколько она с тебя взяла?
– Еще у нее есть сын, наш ровесник, он учится на строителя мостов и дорог, и, представь себе…
– Жан, сколько она с тебя взяла?
– Шестьдесят франков.
Учебный год завершился громким триумфом Люс, которая на выпускном экзамене по французскому получила за сочинение 19 баллов, хотя раньше ей никогда не ставили больше десяти. На наш вопрос, как ей удалось добиться такого фантастического результата, она ответила: «Вступление, основная часть, заключение. Это беспроигрышная формула. Главное – строго следовать правильному методу, братцы». Мы с Жаном получили по 15 баллов, что было очень и очень неплохо (привет нашему ненаглядному Мазену!); Лурс и Мара справились чуть хуже.
15
Шины. Летнее утро. Драка
Итак, тем летом мы, то есть Жан, Лурс, Люс и я, решили автостопом съездить в Германию. Весь июль мы вкалывали, чтобы заработать деньги на путешествие. Лурс нанялся вожатым в летний лагерь где-то на берегу Атлантического океана; Люс устроилась кладовщицей на завод к своему отцу; Жан мыл посуду в ресторане в Лувера; я нашел место в автомастерской, предлагавшей услуги шиномонтажа.
Мне выдали синий комбинезон, специальную обувь и перчатки. Я снимал шины, демонтировал шины, перетаскивал шины, складировал шины, драил шины, грузил шины, но за весь месяц ни разу не поставил и не накачал ни одной шины, потому что хозяин мастерской полагал, что для выполнения этой работы моих компетенций недостаточно. Кроме того, я подметал полы, убирал инструменты и мыл туалет. Все поручения я выполнял не морщась, вовсе не считая это ниже своего достоинства. Тому, кто хоть раз чистил курятник с цесарками, бояться нечего. Труднее всего было терпеть идиота, который, несмотря на многочисленные поправки, до последнего дня упорно звал меня Сильвестром и разговаривал со мной подчеркнуто недовольным тоном; в каждой его реплике слышалось подспудное: «Господи, что ты опять натворил?» Это был тип, напрочь лишенный воображения; 22 июля 1969 года, узнав о подвиге Нила Армстронга, он ограничился следующим комментарием: «Я заметил, что у лунного модуля нет шин».
Накануне отъезда мы собрались у Жана, чтобы произвести инвентаризацию и проверку походного снаряжения, а заодно решить, каким образом разделимся на две группы: вряд ли стоило ожидать, что какой-нибудь водитель посадит к себе в машину сразу четырех автостопщиков. Мы бросили жребий, и по воле случая я попал в компанию с Люс, что вполне меня устраивало: во-первых, потому, что я испытывал к ней искреннюю симпатию, а во-вторых, потому, что надеялся использовать ее как приманку в ловле попутных машин.
На следующий день, рано утром, отец отвез меня в Лувера, к Люс, и я еще раз убедился, что в семействе Маллар дурдом вступает в свои права с первыми лучами зари. Родичи Люс не нуждались в разминке и брали с места в карьер: «Береги себя, моя сладкая!», «Передавай привет бошам!», «Не забудь привезти мне пивную кружку!», «Поцелуй меня сейчас же!», «Сильвер, не вздумай лапать мою сестру!», «Чего-чего?», «Пришлите открытку!», «Только не присылайте открытки!», «Нет, пришлите!», «Люс, мы все тебя любим!», «Валите уже отсюда!».
На рассвете отец высадил нас на департаментальном шоссе. Мы с Люс остались одни. Мы сняли и поставили на землю свои рюкзаки. Деревня искрилась в каплях росы. Щебетали ранние птицы, за холмом вставало солнце. Нас охватило одно и то же восхитительно-пьянящее чувство счастья. Мы оба, особенно она, впервые в жизни по-настоящему вырвались из клетки. Мы посмотрели друг на друга:
– Скажи, классно?
– Ага, классно.
В тот незабываемый миг наша с Люс дружба обрела законченную форму, и, по-моему, это было здорово. Мы были молоды, полны сил и веры в себя. Но главное, мы были свободны. Свободны.
Мысль о том, что через несколько минут я увижу Лурса и Мару, увижу, как они спускаются с парома и шагают ко мне, меня и воодушевляла, и тревожила, – я не знал, чего от них ждать. Зато перспектива встречи с Люс будила во мне чистую, беспримесную радость и заранее заставляла расплываться в улыбке. Я не сомневался, что мы оба снова испытаем то самое счастливое чувство единения, которое распирало нам грудь, пока мы стояли на обочине шоссе. С того дня прошло сорок лет, но это ничего не меняло.
Между прочим, там, в Германии, мы едва не погибли, и виновата в этом была она, Люс.
Случилось это на берегу озера в горном массиве Шварцвальд. Ее в буквальном смысле слова похитили три мотоциклиста, как и мы, приехавшие из-за границы, но старше нас. Мы не видели, как это произошло, просто в какой-то момент обнаружили, что ее с нами нет. Один взрослый дядька, которого звали Альфонс (в других обстоятельствах это имя сильно нас повеселило бы), усадил нас в свой «жук», подбросил к окрестностям шале и сказал: «Она там». Чуть поодаль стояли, опираясь на подставки, три мотоцикла.
Мы решили штурмовать шале. На крыльце Лурс получил от волосатого типа в зеленых шортах удар шлемом в висок, упал без сознания и больше не двигался. Из дома выскочили еще два неандертальца – по пояс голые, оба с мохнатой мускулистой грудью, в сапогах. У нас с Жаном был выбор – бежать или сражаться. Без малейших колебаний мы бросились в бой. В конце концов, мы же сами решили посвятить лето приобретению нового опыта. Если первый поставленный нами эксперимент отвечал на вопрос: «Как меньше чем за полчаса позволить ободрать себя на 80 франков», то темой второго стало: «Как меньше чем за полминуты позволить расквасить себе физиономию».
Ничто на свете не могло нас остановить. Мы кинулись в атаку, заранее уверенные, что проиграем, но полные энтузиазма и сознающие свой героизм. В тот вечер ради спасения Люс мы не задумываясь отдали бы наши жизни.
Они отпихнули нас и начали лупить.
Мы упали на землю и откатились в траву. Они дубасили нас ногами. Но больше всего досталось Лурсу, который не успел даже принять участие в драке и с большим трудом приходил в себя после полученного нокаута.
На обратном пути нам ужасно не хотелось снова разделяться, но выхода не было. На сей раз судьба определила мне в напарники Лурса, и он признался мне, что хочет пойти учиться карате. Так он и сделал, скорее всего, в тайной надежде еще раз встретиться на крыльце шале с тем доисторическим чудовищем, ловко увернуться от удара шлемом и долбануть противника так, чтобы запомнил на всю оставшуюся жизнь. В действительности ничего подобного не произошло: вспоминать прошлое мы можем сколько угодно, но пережить его заново нам не дано.
Тогда же, по пути домой, – в тот вечер, когда мы выпили слишком много пива, – он и рассказал мне, как нашел тело матери в двадцать четвертой аудитории лицея.
– Я просто вытер ей рот, испачканный рвотой, выбросил носовой платок в мусорную корзину и лег рядом с ней. Я обнимал ее, но не касался ее кожи, потому что она была уже холодная, и это было неприятно. Я хочу сказать, что обнимал ее через одежду, понимаешь? Не помню, что я ей говорил, – слова лились из меня бессвязным потоком… Кажется, я все повторял: «Спи, мама, отдыхай». Я слишком часто видел ее усталой и измученной. Еще я говорил: «Все кончилось, вот и хорошо». Ее лицо разгладилось, и это меня радовало. Исчезла даже ее вечная складка на лбу. Я довольно долго пролежал рядом с ней, наверное, с полчаса, разговаривал с ней и плакал. Я знал, что, как только подниму тревогу, ситуация перестанет от меня зависеть и все пойдет наперекосяк. Взрослые перехватят у меня эстафету, и я больше ничего не смогу для нее сделать. Отец ждал моего звонка. Он так никогда и не понял, в чем была причина этой получасовой задержки. Он и не мог бы понять, что для меня это был самый ужасный момент моей жизни, но в то же время и самый прекрасный. Будешь еще пиво, Сильвер?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































