Текст книги "Старые друзья"
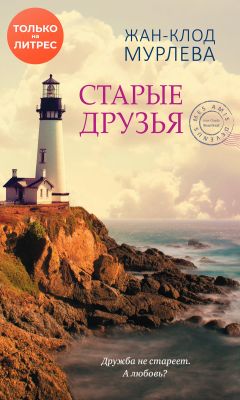
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
22
Скорпион. радость сердца. Матрас на полу
Погода не улучшилась, и мы, одевшись потеплее, на сей раз отправились гулять пешком. Жозеф Пак помахал нам рукой со своего крыльца. Он выглядел точно так же, как в день моего приезда: те же сапоги, те же штаны, та же рубашка. И наверняка тот же запах. Должно быть, ему было скучно и он искал любую возможность поболтать, даже понимая, что ничего хорошего от нас не услышит. Я не стал его разочаровывать.
– Хорошенький совет вы вчера нам дали! Мы вымокли до нитки!
Не вынимая рук из карманов, он пробурчал, что его вины здесь нет – он слышал по радио, что дождя не будет, а сам он не синоптик. Я заметил, что он бесстыдно пялится на Мару, чуть ли не раздевая ее взглядом; наверняка старается запомнить каждую ее черту, чтобы одинокими ночами предаваться самым дерзким фантазиям. Не рекомендовал бы я нашей подруге идти к нему после десяти вечера попросить штопор или одолжить горчицы.
Мы шагали по тропинке вдоль побережья. Море было серым и спокойным. В воздухе – ни ветерка. Когда Жан звонил мне, чтобы соблазнить своей идеей, он предположил, что мы «просто расскажем друг другу, что с нами стало». Но он ошибся. На самом деле все оказалось сложнее и тоньше. Мы не излагали друг другу свои биографии; мы делились некоторыми подробностями, и из этих небольших штрихов постепенно складывалась общая картина.
Так, Мара рассказала мне, как в Атласских горах ее укусил скорпион. Ее три часа несли на спине до ближайшего врача, потому что после укуса скорпиона человеку нельзя шевелиться, чтобы яд не распространился по всей кровеносной системе. Кто ее нес? Муж. Ну, первый муж. Она прожила с ним в Марокко десять лет. Ее рассказ вызвал во мне противоречивые чувства. С одной стороны, ревность. Как кто-то еще, кроме меня, посмел спасать Мару, изображая Индиану Джонса! Это я – ее герой, зря, что ли, я об этом столько мечтал? Я, и больше никто, должен был карабкаться по горам, падать, обдирать руки и ноги, подниматься, выбиваться из сил, но делать для нее то, чего не сделал бы другой. С другой стороны, упоминание о «первом» муже доставило мне удовольствие: значит, этот мерзкий тип ей не подошел. Как и второй – я в этом не сомневался. Наверняка это какая-нибудь старая развалина, зануда и ханжа, помешанный на стрижке английского газона и кроссвордах повышенного уровня сложности. Но кем бы ни были мужчины ее жизни, все они – узурпаторы, бездарные статисты и самозванцы, такие же, как жалкие кузены и их дружки, с которыми она в юности проводила каникулы на Атлантике. И Мара сама отлично это понимает.
Еще я узнал, что Люс и Мара прочитали все – или почти все – написанные мной книги. Люс сделала это за три месяца, после того, как мы созвонились и договорились о встрече. Она сказала, что «наверстывала упущенное, чтобы не выглядеть дурой». Еще она сказала, что сразу узнала меня в моих персонажах, даже когда я заставлял их действовать в самых невероятных ситуациях; по ее выражению, это было записано у меня на «жестком диске». К моему величайшему удивлению, Мара внимательно следила за моими литературными успехами с самого начала. Она вспомнила одну страницу, которая особенно ее тронула: «В последнем романе, помнишь, там, где ты рассуждаешь о ветре?» Она призналась, что переписала эту страницу и выучила ее наизусть. «Хочешь, расскажу?» Я не хотел.
Лурс не читал ничего. Он вообще не читал романов, но пообещал, что исправится. С какого я советую ему начать?
Жан в этой игре не участвовал. Разумеется, он читал все, написанное мной, включая неопубликованные рукописи. С ним у меня одна проблема: ему нравится все, что я пишу, даже если написано плохо. Он всегда любил шутить по поводу моей двойной жизни – реальной и воображаемой. Пару раз он даже предостерегал меня, призывая не путать одну и другую, потому что я рискую не справиться с этой гремучей смесью.
Вечером мы отправились ужинать в ту же блинную, куда я ходил в первый вечер. Хозяйка узнала меня и одарила дружеской улыбкой. Наверное, испытала облегчение, увидев, что я не только жив-здоров, но еще и успел завести компанию.
Дома Люс сообщила нам, что поет в хоре. Она привезла с собой диск с записями. Не желаем ли мы потратить две минуты, чтобы послушать? Конечно, мы желали.
– Там кантаты Баха, – пояснила она. – Одна знакомая записала во время концерта в Безансоне. Не обращайте внимания на посторонние шумы: там то стулья двигают, то кашляют…
Мы устроились в гостиной, и она вставила в проигрыватель диск. Мы ожидали услышать скромное любительское пение, но – вот сюрприз! – были поражены красотой слаженных женских и мужских голосов, мелодичных и мощных. «Erfreut euch, ihr Herzen!» – выводили хористы, что означает: «Возрадуйтесь, сердца!» О да, мы возрадовались, еще как! Мы возрадовались тому, что сидим вместе, в кои-то веки молча, и наслаждаемся волшебной музыкой, возвышающей душу. Аллилуйя!
– Хватит? – спросила Люс, когда мы прослушали две кантаты.
– Нет! – воскликнули мы в четыре голоса. – Оставь! Это великолепно!
Мы дослушали запись до конца – она длилась почти час. Мы встречались взглядами, воспаряли в эмпиреи и возвращались на землю. Иногда мы улыбались. Жан уснул в кресле, и мы тихо посмеялись – он спал с открытым ртом. Мара сидела в той же позе, что накануне. Теперь она была в джинсах и молочно-белом свитере.
Это был наш последний вечер.
Среди ночи я проснулся и пошел в туалет. Я старался производить как можно меньше шума, но, когда вышел из ванной, увидел в коридорчике неподвижно стоящую Мару. Она была в пижаме – бежевых шортах и майке в тон. Черные волосы рассыпались у нее по плечам. Она походила на воительницу, готовую защищать родовое гнездо. Ноги у нее были по-прежнему очень красивые, разве что над коленками появились чуть заметные складочки.
– Это ты ко мне стучал? – спросила она.
– Нет, я к тебе не стучал.
Она нахмурила брови:
– Странно. Я слышала, как кто-то три раза постучал ко мне в дверь.
– Клянусь тебе, это не я.
Я был в трусах и футболке. Она покосилась на меня с подозрительностью – похоже, решила, что я вру, и вру крайне неубедительно.
– Ладно, спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Я с полсекунды изучал ее босые ноги на кафельной плитке, после чего медленно поднял глаза на ее взлохмаченную шевелюру, по пути скользнув взглядом по слегка выпирающему животу и груди, угадывающейся под тканью пижамы.
– Не желаешь посмотреть, как я устроилась? – явно забавляясь моим смущением, спросила она.
– Посмотреть, как ты устроилась? С удовольствием.
Я пошел за ней в ее спальню.
– Вот шкаф, – голосом экскурсовода сказала она.
Я с подчеркнутым вниманием уставился на шкаф.
– А это стол.
Я воззрился на указанный ею предмет мебели: вот чудеса, это действительно стол. И признался, что это открытие заставило меня о-стол-бенеть. Я был горд собой: даже Жан не сказал бы лучше.
– А это стул.
Не найдя слов возражения, я просто кивнул.
– А это, полагаю, окно?
– Именно, – согласилась она. – Тонко подмечено.
Мы немного помолчали.
– А это что такое? Видимо, ночник?
– Он самый. Я накрыла его полотенцем, потому что в нем слишком яркая лампочка.
– Ловко, ловко… А это? Случайно, не кровать?
– Да, Сильвер, это кровать. Но она слишком мягкая, и я сняла матрас. Вот он, на полу.
Мы снова помолчали. Потом я сделал к ней два шага, обнял ее, но не слишком крепко, и вдохнул аромат ее волос. Она положила ладони мне на спину, на лопатки, и мы на какое-то время замерли в этой позе. Я старался сполна насладиться своими ощущениями, в первую очередь обонятельными и осязательными, сконцентрироваться на них, оставаясь спокойным. Она прижалась ко мне грудью.
Я слегка отстранился и поцеловал ее в губы, в вертикальные складочки, делящие их пополам.
– Я не поцеловал тебя там, на пристани. Из-за ребят.
Она засмеялась.
– Ты не изменилась, – сказал я.
– Перестань, – сказала она, опустила голову мне на плечо и тоже меня поцеловала. И тут произошло событие, про которое я всегда думал, что оно принадлежит сфере воображаемого, чистой фантазии; я не сомневался, что умру, но этого никогда не случится, а именно: я, Сильвер Бенуа, мужского пола, нахожусь в спальне Мары Хинц, женского пола (и еще какого!); мы только что обменялись поцелуем; она нежно отстранилась от меня и… закрыла дверь. Она закрыла эту чертову дверь!
Законные супруги занимаются любовью попросту, в своей постели, в отличие от любовников, готовых уединяться в поезде, в лесу, под мостом, в любом месте, включая брошенный на пол матрас. Мы опустились на него – постель еще хранила ее тепло, – и я спросил Мару, уверена ли она, что мы поступаем правильно. Она ответила, что не знает.
– Подожди, – добавила она. – Я приготовила для тебя маленький подарок.
Она встала и достала что-то из одной из двух своих сумок. Это был диск в простом конверте без всякой надписи. Она сунула его в проигрыватель, стоящий тут же, на полу. Снова легла рядом со мной, протянула руку и нажала кнопку. Некоторое время было тихо, но вскоре раздались звуки фортепиано, вслед за которым вступили ударные и голос Гари Брукера запел: «We skipped the light fandango-o-o…» Как будто невидимая рука сжала мне внутренности. Я понял, что машина времени существует: нескольких аккордов хватило, чтобы перенести нас на сорок лет назад. Это не было просто воспоминанием – мы на самом деле вернулись в то давнее состояние. Мы снова очутились в комнате Мары в доме Хинцев в Лувера, на их большой ферме без единой цесарки. Нам по шестнадцать лет, мы – две неприкаянных души, мы ищем и находим друг друга. Наши тела сражаются с собой между да и нет. Впоследствии я часто слушал эту песню и каждый раз испытывал ровно те же чувства, но сейчас, когда Мара была рядом и я держал ее руки в своих руках, сожаления усилились десятикратно. Мы тихо подпевали – слова мы знали наизусть: «…turned cartwheels ‘cross the floor… I was feeling kind of seasick…» – пока песня не кончилась. В глазах у нас стояли слезы.
– Если бы остальные нас видели!
– Остальные спят. Забудь о них.
На том же диске у нее были записаны и другие композиции: «Nights in White Satin» группы Moody Blues, битловская «All You Need Is Love», «Days of Pearly Spenser» Дэвида Макуильямса и кое-что еще. Они сменяли одна другую, и мы пели вместе с исполнителями. Мы помнили все тексты, каждую ноту каждой мелодии, каждую паузу. В нашей памяти ожило все – почти каждое слово, сказанное друг другу в тот или иной день, в том или ином месте, в тех или иных обстоятельствах: в школьном коридоре, во дворе, в «Глобусе»… Мы заново переживали все, что тогда делали и что чувствовали.
– Помнишь, ты как-то приехала ко мне на велосипеде…
– Ты работал в курятнике.
– Да. Ты застала меня врасплох, и мне было ужасно стыдно.
– Знаю. Я поняла.
– Ты ведь из-за этого перестала со мной встречаться?
Она помотала головой:
– Нет, Сильвер. Я перестала с тобой встречаться потому, что я тебя боялась. Я тогда сказала тебе правду. Я от тебя сбежала.
– А Лурс? Его ты не боялась?
– Нет. По сравнению с тобой он был совсем не страшный.
Она засмеялась. Я заставил себя улыбнуться. Часы показывали четыре утра. Из-под прикрытого полотенцем ночника на нас падал слабый свет. Мне стало холодно, и я пошел к себе взять свитер.
Когда я вернулся, меня встретил исполненный отчаяния стон Демиса Руссоса: «Rain and tea-ea-ea-rs». Мы с Марой расхохотались. Я огляделся – нет ли поблизости барной стойки, за которой торчит вечная Танлетта. Нет, мы были одни. «I need an answer of love oooohhh…» Мы продолжали смеяться, но нас захлестнуло волной ностальгии.
– Если б ты только знала, Мара, как я тебя любил.
– Я знала, Сильвер. Ты же мне говорил. В тот последний день ты сказал мне: «Я влюблен в тебя как ненормальный». Я этого не забыла. И должна признаться, что…
Она заплакала. Ее прекрасное лицо исказила гримаса, и она спрятала его в ладонях. Я нежно их погладил. Прошло несколько минут, и она отняла руки от лица и улыбнулась мне:
– Прости. – Глаза у нее припухли и покраснели. Сейчас они не столько обжигали, сколько грозили затоплением. – Я должна тебе признаться… – она подхватила собственную незаконченную фразу, – что потом никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Тогда я этого не понимала. Я думала, что это – обычное дело, чтобы тебе говорили такие вещи. Но это совсем не обычное дело. Я слишком поздно это поняла. Никто никогда не говорил мне: «Я влюблен в тебя как ненормальный». Это самые лучшие слова, какие я слышала в своей жизни, Сильвер. Я всю жизнь ждала, что кто-нибудь мне их скажет. Мне многое говорили, но никогда ничего подобного. Никогда и никто не говорил, что влюблен в меня как ненормальный. Никогда.
– А Лурс?
– Лурс вообще ничего не говорил. Лурс – это гора. А горы не умеют разговаривать. Когда я его бросила, он сказал только, что «немного расстроен».
Мы засмеялись. Она сунула руку под подушку, достала носовой платок, высморкалась и еще всплакнула. Я спросил ее, счастлива ли она. Она сказала, что не понимает вопроса.
– А то, что ты сказала позавчера? Ты просто так это ляпнула? На самом деле ты не жалеешь, что не вышла замуж на меня?
– Ну да, просто ляпнула. Вернее, отчасти ляпнула. Возможно, мне действительно надо было выйти замуж за тебя. Я не знаю. Откуда мне знать? Мы понятия не имеем, как сложилась бы наша жизнь. Зато сейчас все хорошо. Все прекрасно. Ты согласен?
Я не слишком убедительно кивнул и попросил еще раз поставить «Rain and Tears».
– Но ты хоть немножко меня любила?
– Да. Но по сравнению с тобой… В тебе бушевала настоящая буря. Не представляю себе, что ты во мне находил.
– Что нахожу.
– Что?
– Не «находил», а «нахожу».
– Перестань, Сильвер. Мне шестьдесят два года.
– Мадам, вам ни за что не дашь ваших лет.
– Перестань, ну пожалуйста.
Я объяснил ей, что причиной всему были ее глаза, и напомнил ей тот день, когда она попросила у меня ластик, смертельно ранив меня своим прямым взглядом. У меня в жизни, сказал я, было два события: первое случилось, когда я родился, а второе – когда на уроке математики она повернулась ко мне и пронзила меня взглядом своих черных глаз. В этом я ей поклялся. И добавил, что любил ее безумной любовью. Она снова заплакала, а потом выключила лампу и сказала: «Иди ко мне».
Я прикасался к ее сегодняшней коже, ища в ней память о том, какой она была раньше; я прислушивался к ее сегодняшнему дыханию, угадывая в нем ее прежнее дыхание; я находил ее и снова терял… То же самое происходило с ней. Мы исследовали друг друга, ласкали друг друга, сливались друг с другом, и нас почти не смущало, что наши тела стали немного дряблыми и кое-где покрылись складками и морщинами. Наши руки не чувствовали никаких ограничений – мы вообще не чувствовали никаких ограничений. Иногда на несколько волшебных мгновений мы становились собой прежними, наше прошлое оживало в настоящем, и время теряло над нами власть.
Я вернулся к себе незадолго до рассвета. Мне меньше всего хотелось, чтобы остальные увидели, как я выхожу из комнаты Мары. Дом спал. В узком коридорчике между двумя нашими спальнями стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь стуком дождевых капель по оконным карнизам второго этажа, но и он звучал все глуше, пока не смолк совсем.
Так завершился четвертый день нашей встречи.
23
Плакат. Трубный глас. Жан. Диетический ужин
Восхитительная неловкость: вы сидите за завтраком в компании, и среди ваших сотрапезников есть женщина, с которой вы провели последнюю ночь, но это должно остаться тайной.
Меня не покидало ощущение, что, несмотря на все наши усилия, мы с Марой выглядим так, словно держим перед собой шестиметровый плакат с надписью «Мы только что переспали». Стоило нам встретиться взглядом, и у нас над головами как будто раздавался трубный глас. Как только остальные ничего не замечали?
Лурс, Люс и Мара уезжали сегодня, на пятичасовом пароме. Жан согласился остаться со мной до завтра. Я собирался задержаться еще на день, до субботы.
Трое отъезжающих навели порядок у себя в спальнях, сложили вещи и для очистки совести даже приняли участие в уборке на кухне и в гостиной. Потом мы сели на велосипеды и покатили в Ламполь, сдать два велика, взятые напрокат. Вернулись мы пешком. Во время этой долгой прогулки мы чувствовали себя как наутро после бурной вечеринки: что-то вроде похмелья, хотя пьянки не было. Что-то неуловимо изменилось: возбуждение утихло, появилась усталость, окрашенная легкой грустью. В разговорах все чаще повисали паузы. Мара шла впереди рядом с Лурсом; они толкали один велосипед. Я видел их только со спины. О чем они болтали? Я шагал сзади, между Жаном и Люс – единственной из нас, кто сохранил живость и компанейский дух. Она рассказывала нам, как они с подругой ремонтировали свою ферму, когда у них прохудилась крыша. Она с таким правдоподобием изобразила симфонию капель и струек воды, падавших в пустые и в полные ведра сначала звонко, а потом со все более глухим и низким звуком, что мы как будто перенеслись в их дом и вместе с ними слушали эту ночную музыку. Мне очень понравилась эта история, и я испытал к Люс теплую благодарность, потому что самому мне сказать было нечего. Мне вообще не терпелось остаться наедине с Жаном – я знал, что с ним можно молчать часами, не чувствуя ни малейшей неловкости.
В полдень мы доели остатки, выпили последнюю бутылку красного вина и в последний раз сварили себе кофе. Люс с Марой вышли на террасу покурить. В два часа приехало такси. Мы загрузили в машину багаж, пристроив сверху велосипед, на котором я намеревался вернуться домой. Жан сказал, что не поедет провожать ребят в порт, потому что не любит прощаний. Он по очереди коротко обнял Мару и Люс и чуть дольше сжимал в объятиях Лурса. Все наперебой говорили, что надо снова увидеться – раньше, чем через еще сорок лет. Мы сели в такси. Длинноногий Лурс занял место рядом с водителем, я устроился сзади вместе с Люс и Марой. Мы обернулись, чтобы помахать Жану, и обнаружили, что он уже ушел в дом.
Я вернулся час спустя. Жан, накрывшись пледом, спал на том самом диване, на котором я в первый вечер мысленно путешествовал в прошлое и пытался вообразить, как пройдет наша встреча. Вот она и прошла – или почти прошла. Я принялся убирать со стола, стараясь не шуметь, когда раздался голос Жана:
– Уехали?
– Я думал, ты спишь.
– Я дремал.
– Да, уехали. Просили еще раз сказать тебе спасибо. Люс расплакалась. Видел бы ты, какое представление они мне устроили! Выстроились на палубе, Лурс посередке, девочки по бокам, и долго-долго мне махали…
Я прошел в гостиную, чтобы показать ему, как они мне махали. Он, не поднимая головы, взглянул на меня и через силу улыбнулся. Я вернулся на кухню.
– Я тоже хочу сказать тебе спасибо, Жан. Надо было намного раньше это организовать. Хотя… Может, как раз наоборот… Может, оно и к лучшему, что мы встретились только сейчас. Особенно хорошо, что ни один из них меня не разочаровал. Честно говоря, я побаивался, что кто-нибудь все испортит.
– Кто именно?
– Не знаю. Вдруг Лурс стал бы слишком респектабельным? Вдруг оказалось бы, что Мара омещанилась, а Люс окончательно свихнулась? Но все они были на высоте. Они превзошли самые смелые мои ожидания. Красивая история! Все герои положительные, никаких предательств, никакого сведения счетов, никаких конфликтов! В романе такой сюжет не прокатил бы. Ты меня слушаешь?
– Слушаю, слушаю.
– Мне кажется, что Лурс больше всех изменился к лучшему. Не такой неуязвимый, не такой неприступный… Наверное, в юности я воспринимал его слишком серьезно. А Люс вообще супер! Я думаю, она доживет до ста лет и умрет молодой. И какая веселая! Мне страшно понравилось, как она изображала, как вода капает в ведро.
– А Мара?
– Что – Мара?
– Как она тебе показалась?
– Она показалась мне прекрасной.
– Подойди.
– Что?
– Подойди ко мне.
Я вытер руки кухонным полотенцем и приблизился к нему. Я был уверен, что ночью он видел нас – или слышал, – и приготовился защищаться. Разумеется, то, что мы сделали, было не совсем по-товарищески по отношению к остальным, это я признавал – и радовался, что все случилось в последнюю ночь, иначе наша встреча обернулась бы полным провалом.
– Сядь.
Я плюхнулся в кресло – то самое, в котором по вечерам сидела Мара.
– Можешь поставить диск, который оставила Люс? Он должен быть в проигрывателе.
Я встал, включил музыку, убавил звук и вернулся в кресло. Я собирался объяснить ему, что у нас с Марой все произошло неожиданно, что ночью мы случайно столкнулись в коридоре и дальнейшее от нас уже не зависело. Мы повели себя как два юнца на каникулах за границей. Понимаешь, Жан? Как два юнца, которые встретились в три часа ночи, опьяненные сознанием полной свободы. Кто способен побороть в себе это чувство? Еще я собирался сказать ему, что мечтал об этом больше сорока лет. Не две недели, а сорок с лишним лет! Если бы мне пришлось ждать еще сорок лет, я стал бы столетним старцем. Конечно, я выгляжу моложаво и вообще в хорошей форме, но…
– Я болен.
– Что?
– Я болен.
Стоило ему произнести эти два слова, как я испытал секундное головокружение, нечто вроде легкого помутнения сознания, какое возникает при получении некоторых известий. За всю жизнь мы получаем их всего три или четыре раза, но забыть их невозможно. Мы помним, кто их нам принес, где, при каких обстоятельствах, в котором часу. Мы помним звуки голоса, сообщившего нам: «С вашим сыном случилось несчастье», «Я от тебя ухожу», «Ваша мать скончалась»… Я с первого дня знал, что Жан болен. Не заметить этого было нельзя. Он похудел, стал быстро уставать, его волосы потеряли блеск, а в лице появилась землистая бледность. Я ни о чем его не спрашивал, потому что боялся, что мой вопрос столкнет меня с реальностью. Трое остальных не видели Жана много лет и не могли заметить разницы. Если подумать, его плохое состояние бросалось в глаза: он пять раз засыпал на диване в гостиной, дважды отказался идти с нами на прогулку, хотя никакое колено у него не болело. Наверняка в ящике ночного столика у него припрятано с килограмм таблеток, которые он глотал втихаря, чтобы нас не тревожить.
– Что за болезнь?
– Серьезная болезнь. Гадская.
– То есть?
– У меня рак поджелудочной.
– Давно?
– Неизвестно. Но это он и есть.
– Будет операция?
– Нет. Резать поздно. Мне назначили химиотерапию. Сейчас как раз перерыв между двумя курсами. Вот я и решил воспользоваться моментом. – Он показал мне на небольшой бугорок у себя под рубашкой. – Я хожу с катетером под ключицей.
– А в июле, когда ты мне звонил, ты уже знал?
– Знал. Мне захотелось со всеми повидаться. Прощальное турне. Последний выход…
– Жан, черт тебя дери, прекрати!
У меня из глаз хлынули слезы, чего я никак не ожидал. Ночью я спал не больше двух часов, потом провожал друзей в порт – вот нервишки и сдали. К тому же в памяти всплыла картина: вот мы с Жаном сидим на ступеньках школьного крыльца, это наш первый день в интернате, мы оба в серых блузах, оба растеряны, одиноки и несчастны, нам страшно и очень хочется, чтобы рядом оказался друг. Я словно наяву увидел, как он подвигается, освобождая мне место. Я его занял – на всю оставшуюся жизнь. Проклятье, нам же было по одиннадцать лет! А сейчас он лежит передо мной на диване и говорит, что у него рак. Я вытер глаза рукавом и попросил у него прощения. Он и бровью не шевельнул. Наверное, за последние месяцы он успел закалиться, свыкнуться с этой ужасной мыслью, и его так просто не выведешь из себя.
– Почему ты ничего не сказал остальным?
– А зачем? Отравить им праздник? Нет, хорошо, что все так вышло. Все равно они скоро узнают. Кстати, у вас будет повод еще раз встретиться. На моих похоронах.
– Жан, прекрати!
Он меня разозлил. Кто дал ему право испортить то, что так хорошо началось? Когда я говорил, что свадьбам предпочитаю похороны, я валял дурака, неужели не понятно? Изысканная шутка интеллектуала! А истина заключается в том, что с большей частью смертей смириться невозможно, особенно если умирают дети или люди, которых ты любишь. Это горе безутешно, оно заставляет нас вспомнить о собственной судьбе. Кого бы ты ни хоронил, ты в каком-то смысле хоронишь и себя. Зато свадьбы, даже провальные, даже пошлые, даже ужасные, прославляют жизнь – или, во всяком случае, делают такую попытку. Как бы то ни было, американские горки – это замечательно, пока не стукнешься и не разобьешь себе нос. Одним словом, Жан меня разозлил. Я еще раз повторил: «Прекрати!» Мне хотелось сказать ему, что он совершает непростительную глупость, что он не имеет права вот так нас бросать. Но, в конце концов, чего еще ждать от парня, чей отец способен расплющить чужой «дофин» и удрать с места преступления? Меня так и подмывало хорошенько двинуть ему, заставить взять свои слова обратно, освободить меня от кошмара, с которым я не желал мириться.
У меня опять потекли слезы. Я плакал и не мог остановиться. Пошарив по карманам в поисках носового платка и ничего не найдя, я встал, пошел на кухню и принес рулон бумажных полотенец, вызвав у Жана приступ смеха. Я отрывал от рулона лоскут за лоскутом, потому что они мгновенно намокали. Сквозь слезы я потребовал от Жана, чтобы он рассказал мне все с самого начала, во всех подробностях: как и в каких выражениях врач сообщил ему диагноз, с кем он в тот момент был, что они сделали потом, каких еще специалистов он посетил, какое лечение ему назначили, каковы побочные эффекты химиотерапии. Я выпытывал, хорошо ли он спит по ночам или вынужден принимать снотворное, как восприняли страшную весть его жена и сын, знают ли о происходящем его внуки. Потом я спросил, сколько ему дают врачи, и сам поразился тому, с какой легкостью задал этот бестактный вопрос.
– Несколько месяцев. Максимум полгода. Но это вряд ли.
– Черт, Жан!
Диск с записями Люс доиграл до конца. Жан сказал, что немного отдохнул и чувствует себя лучше. Если я не против, можно пойти прогуляться.
– Пешком или на великах?
– Давай на великах. Только помедленнее. Я быстро устаю.
Мы выкатили велосипеды и поехали вглубь острова, куда глаза глядят, по тропинкам, оставшимся неисследованными в предыдущие дни. Мы ехали рядом, с черепашьей скоростью, пытаясь завести разговор о чем-нибудь другом, но любые наши слова звучали настолько фальшиво, что мы неизменно возвращались к теме его болезни. Нам навстречу попалось несколько пешеходов и велосипедистов. Их вежливые «Добрый день» и «Добрый день, месье» доносились до нас как сквозь сон. Меж тем погода наладилась. На оконечности мыса Перн мы слезли с велосипедов, поставили их стоймя, прислонив один к другому, и я их сфотографировал. Мы уселись на землю. Море с шумом билось в скалы, оставляя на них следы белой пены. Домой мы вернулись, когда совсем стемнело.
– Что у нас из еды?
– Спагетти с маслом, остатки кунь-амана[5]5
Кунь-аман – традиционный бретонский слоеный пирог с большим количеством сливочного масла.
[Закрыть] и пиво. Годится?
– Превосходно. Настоящий диетический ужин.
В тот вечер каждый наш жест, каждое слово, каждая бытовая мелочь приобретали особое значение; мы передвигались по кухне, стараясь избегать пауз в разговоре, мы оказывали друг другу мелкие знаки внимания, вообще вели себя с предельной деликатностью.
На втором этаже, в спальне, которую занимал Лурс, стояла большая двуспальная кровать. Я предложил Жану провести эту ночь в одной комнате, в одной постели. Он согласился. Как только мы погасили свет, он положил руку мне на плечо и больше ее не убирал.
Так завершился пятый день нашей встречи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































