Текст книги "Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя"
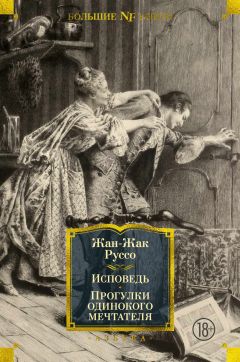
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 60 страниц)
Я хотел жить независимо. Однако надо было добывать средства к существованию. Для этого я придумал очень простой способ: переписку нот за постраничную плату. Если б какое-нибудь другое, более солидное занятие могло привести к той же цели, я взялся бы за него; но, так как это дело было мне по вкусу и было единственным, которое могло без порабощения моей личности давать мне насущный хлеб, я выбрал его. Считая, что мне больше нет необходимости заглядывать в будущее, и заставив умолкнуть тщеславие, я из кассира богатого финансиста превратился в переписчика нот. Я находил, что очень выиграл от этого выбора, и так мало в нем раскаивался, что оставил это ремесло только в силу необходимости, рассчитывая при первой возможности вернуться к нему.
Успех моего первого «Рассуждения» позволил мне осуществить свой замысел. Когда мне была присуждена премия, Дидро взялся его напечатать. В то время я был болен и лежал в постели; он прислал мне записку, извещая о выходе «Рассуждения» в свет и о произведенном впечатлении. «Его превозносят до небес, – сообщал он. – Успех беспримерный!» Эта благосклонность публики, никем заранее не подготовленная, и притом к автору неизвестному, дала мне первую настоящую уверенность в своем таланте, в котором я, несмотря на внутреннее чувство, до тех пор всегда сомневался. Я понял также, что мог извлечь из этого успеха выгоду для выполнения своего намерения: переписчик, сколько-нибудь известный в литературе, надо думать, не останется без работы.
Как только мое решение было окончательно принято, я письменно уведомил об этом г-на де Франкея, чтобы поблагодарить как его, так и г-жу Дюпен за всю их доброту ко мне и попросить у них заказов. Ничего не поняв в этой записке и полагая, что я все еще нахожусь в лихорадочном бреду, Франкей прибежал ко мне. Он увидел, что мое решение твердо, что его не удастся поколебать. Тогда он рассказал г-же Дюпен и всем другим, что я сошел с ума; я предоставил ему говорить что угодно и продолжал идти своим путем. Я начал свое преобразование с внешности; отказался от золотого шитья и белых чулок, надел круглый парик, снял шпагу и продал свои часы, говоря себе с невыразимой радостью: «Хвала небу! Мне больше не понадобится узнавать, который час!» Г-н де Франкей имел учтивость довольно долго ждать, прежде чем распорядиться местом своего казначея. Наконец, видя, что мое решение твердо, он передал кассу д’Алибару, бывшему гувернеру молодого Шенонсо и известному в ботанике своей «Flora parisiensis»3131
Не сомневаюсь, что Франкей и его клевреты теперь рассказывают обо всем этом совсем по-другому; но я основываюсь на том, что он в ту пору и много времени спустя – до самого возникновения заговора – говорил всем; люди здравомыслящие, добросовестные, наверно, помнят это. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть].
Как ни сурова была моя реформа в области трат, я вначале не распространил ее на белье: у меня сохранился обильный запас прекрасного белья, являвшегося остатком от моей экипировки в Венеции, и я им очень дорожил. Заботясь сначала только о чистоте, я постепенно превратил белье в предмет роскоши, обходившийся мне недешево. Кто-то оказал мне добрую услугу, избавив меня от этого рабства. Накануне Рождества, когда мои домоправительницы были у вечерни, а я в духовном концерте, была взломана дверь на чердак, где было развешано все наше белье после стирки. Украли все, в том числе сорок две рубашки великолепного полотна, составлявшие основу моего бельевого гардероба. Соседи описали нам человека, который в тот вечер вышел из нашего дома с узлами, и мы с Терезой заподозрили в краже ее брата, слывшего большим негодяем. Мать горячо отвергла это подозрение, но столько примет подтверждало его, что мы остались при нем, хотя г-жа Левассер сердилась на нас. Я не решился предпринять тщательные розыски, из боязни найти больше, чем желал бы. Этот брат больше не показывался у меня и наконец совсем исчез. Я оплакивал судьбу Терезы и свою, связанную с такой разношерстной семьей, и более чем когда-либо умолял свою подругу сбросить столь опасное ярмо. Это происшествие излечило меня от страсти к хорошему белью, и с тех пор у меня всегда было самое простое белье, более подходящее к остальному моему одеянию.
Завершив таким образом свою реформу, я думал только о том, чтобы сделать ее прочной и длительной; старался вырвать из своего сердца всякую зависимость от людских толков, боязнь осуждения, которая могла отвратить меня от того, что было само по себе хорошим и благоразумным. Благодаря шуму, вызванному моими сочинениями, мое решение переменить жизнь тоже произвело шум и привлекло ко мне заказчиков, так что начало моих занятий перепиской было довольно счастливо. Однако некоторые причины помешали мне достигнуть успеха, какого я мог бы добиться при других обстоятельствах. Прежде всего – мое плохое здоровье. Перенесенный мною приступ не прошел бесследно, и я уже никогда не чувствовал себя таким здоровым, как раньше; думаю, что лечившие меня врачи причинили мне не меньше вреда, чем сама болезнь. Я обращался по очереди к Морану, Дарану, Гельвецию, Малуэну, Тьерри: все они люди очень ученые, все мои друзья, все лечили меня, каждый по-своему, но не принесли мне никакого облегчения и очень меня изнурили. Чем послушнее я выполнял их предписания, тем более становился желтым, худым, слабым. Они запугивали меня, определяя мое состояние по действию своих снадобий, и воображение рисовало мне лишь цепь страданий: уремию, песок, камни и, наконец, смерть. Все, что приносит другим облегченье, – отвары, ванны, кровопусканье – усиливало мои страдания. Убедившись, что одни только зонды Дарана оказывают на меня некоторое действие, я вообразил, будто не могу без них жить, и хотя они приносили мне лишь минутное облегчение, я принялся делать, с большими затратами, громадные запасы зондов, чтобы иметь их при себе всю жизнь, даже в том случае, если Дарана не станет. В течение восьми или десяти лет я постоянно прибегал к ним, – и надо полагать, что со всеми теми зондами, которые у меня еще остались, я накупил их на пятьдесят луидоров. Понятно, что столь дорогое, мучительное, тяжелое лечение не давало мне работать не отвлекаясь и что умирающий не может вкладывать много пыла в свою работу ради насущного хлеба.
Литературные занятия также отвлекали меня и наносили не меньший ущерб моей ежедневной работе. Едва мое «Рассуждение» вышло в свет, как защитники наук обрушились на меня, словно сговорившись. Возмущенный тем, что столько ничтожных господ Жоссов, даже не понимавших сущности вопроса, желают решать его в качестве знатоков, я взялся за перо и обошелся с некоторыми из них так, что насмешники остались не на их стороне.
Некий г-н Готье из Нанси, попавшийся первым мне под перо, получил жестокую трепку в письме к Гримму. Вторым был сам король Станислав, нашедший возможным вступить со мною в бой. Такая честь вынудила меня, отвечая ему, изменить тон. Я взял тон более серьезный, но не менее решительный и, не отказывая в уважении автору, полностью опроверг само сочиненье. Я знал, что один иезуит, отец Мену, приложил к нему руку; я доверился своему чутью, чтобы отличить то, что принадлежало государю, от того, что принадлежало монаху; и, беспощадно обрушиваясь на все фразы иезуита, я вскрыл попутно один анахронизм, который мог исходить – как я полагал – только от его преподобия. Не знаю, почему эта статья вызвала меньше шума, чем другие мои сочинения, но она остается до сих пор произведением, единственным в своем роде. Я ухватился в ней за представившуюся мне возможность показать публике, как частное лицо может выступить на защиту истины даже против коронованной особы. Трудно взять тон одновременно более гордый и более почтительный, чем тот, в каком я отвечал ему. К счастью, я имел дело с противником, к которому питал искреннее почтение и мог без лести засвидетельствовать его; это я и сделал с большим успехом и не роняя своего достоинства. Мои друзья испугались за меня и уже видели меня в Бастилии. Я же ни одной минуты не боялся этого и был прав. Этот добрый государь, прочитав мой ответ, сказал: «Поделом мне, больше не стану соваться». С тех пор я получал от него разные знаки уважения и благосклонности, и о некоторых из них мне придется упомянуть; а мое сочинение спокойно обошло Францию и Европу, причем никто не нашел в нем ничего, достойного порицания.
Немного времени спустя у меня явился новый противник, совсем неожиданный, – тот самый г-н Борд из Лиона, который за десять лет перед тем проявил ко мне большое дружеское расположение и оказал мне несколько услуг. Я не забыл его, но был к нему невнимателен из лености и не послал ему своих сочинений, так как не представлялось удобной оказии. Следовательно, я был виноват перед ним; и вот он выступил против меня, однако сдержанно; я ответил тем же. Он возразил уже в более решительном тоне. На это возражение я дал такой ответ, что он умолк, но сделался с тех пор самым ярым моим врагом; когда для меня наступило время жестоких бедствий, он выпустил против меня отвратительные пасквили и даже совершил путешествие в Лондон исключительно с целью повредить мне там.
Вся эта полемика очень занимала меня; однако, отнимая много времени от моей переписки, она приносила мало пользы торжеству истины и мало прибыли моему кошельку. Писсо, мой тогдашний издатель, всегда давал мне сущую безделицу за мои брошюры, а часто и вовсе ничего не давал; например, за свое первое «Рассуждение» я не получил ни лиара: Дидро отдал его напечатать безвозмездно. А то немногое, что Писсо мне давал, приходилось долго ждать и вытягивать по одному су. Между тем переписка не клеилась. Я занимался двумя ремеслами: это верный способ плохо исполнять оба. Два моих занятия были несовместимы еще и потому, что каждое требовало от меня совершенно противоположного образа жизни. Успех моих первых сочинений сделал меня модным писателем. Я возбуждал любопытство: всем хотелось поглядеть на чудака, который не ищет ни с кем знакомства и заботится только о том, чтобы жить свободно и счастливо на свой лад, – этого было достаточно, чтобы выполнение его планов стало невозможным. В моей комнате вечно толклись люди, приходившие под разными предлогами и отнимавшие у меня время. Женщины пускались на всякие хитрости, чтобы зазвать меня на обед. Чем резче обходился я с людьми, тем они становились настойчивей. Я не мог отказывать всем. Создавая себе тысячи врагов своими отказами, я беспрестанно оказывался рабом собственной снисходительности; и, как я ни старался, у меня никогда не было за весь день свободного часа.
Тут я почувствовал, что быть бедным и независимым не всегда так легко, как это воображают. Я хотел жить своим ремеслом; общество не желало этого. Придумывали тысячу разных способов, чтобы вознаградить меня за потерю времени. Пожалуй, были готовы показывать меня, как Полишинеля, взимая по столько-то с персоны. Не могу себе представить зависимости более унизительной и жестокой, чем эта. Я не видел другого средства избавиться от нее, как отказываться от подарков, крупных и мелких, не делая исключения ни для кого. Все это только привлекало ко мне дарителей, желавших добиться чести победить мое упорство и принудить меня быть им обязанным наперекор самому себе. Иной не дал бы мне одного экю, если б я у него попросил, но не переставал надоедать мне своими приношениями и в отместку за то, что я отвергал их, оценивал мой отказ как надменность и рисовку.
Нетрудно догадаться, что мое решение и принятый мною образ жизни пришлись не по вкусу г-же Левассер. Дочь при всем своем бескорыстии не могла не следовать указаниям матери; и обе мои домоправительницы, как называл их Гофкур, не всегда были так тверды в своих отказах, как я. Хотя от меня многое скрывали, я видел достаточно для того, чтобы понимать, что вижу не все; и меня мучила не столько возможность навлечь на себя подозрение в соучастии, – это легко было предотвратить, – сколько жестокая мысль, что я никогда не могу быть хозяином в своем доме и самому себе. Я просил, заклинал, сердился – все безуспешно; мамаша выставляла меня вечным ворчуном и грубияном; она постоянно шепталась с моими друзьями; все было тайной и загадкой для меня в моем собственном доме; и чтобы не вызывать беспрестанных бурных сцен, я больше не осмеливался осведомляться о том, что там происходит. Чтобы избавиться от всей этой суетни, понадобилась бы твердость, на которую я не был способен. Я умел кричать, но не действовать; мне предоставляли говорить, но поступали по-своему.
Из-за этих постоянных дрязг и повседневных назойливых посетителей мое жилище и Париж опротивели мне. Когда мои недомогания позволяли мне выходить из дому, я шел гулять один; я мечтал о своей великой системе, я набрасывал кое-какие мысли, с ней связанные, на бумагу, пользуясь для этого записной книжкой и карандашом, которые были у меня всегда в кармане. Вот каким образом непредвиденные неприятности, сопряженные с избранным мною образом жизни, окончательно втянули меня в литературу; и вот почему во все свои первые произведения я вносил желчное раздражение, которое заставило меня заняться ими.
Еще одно обстоятельство способствовало этому. Бывая против своего желания в большом свете, я, однако, не был в состоянии ни усвоить его тона, ни подчиниться ему; поэтому я решил обойтись без него и создать себе свой собственный тон. Так как источником моей глупой и угрюмой застенчивости, которую я не мог преодолеть, была боязнь нарушить приличия, я решил, чтобы придать себе смелости, отбросить их. Я сделался циничным и язвительным – от смущения; прикидывался, что презираю вежливость, хотя просто не умел соблюдать ее. Правда, суровость, согласная с моими новыми принципами, облагораживалась в моей душе, приобретала в ней бесстрашие добродетели; и, смею сказать, именно на этой священной основе она удержалась лучше и дольше, чем этого следовало бы ожидать, так как резкость противоречит моей натуре. Несмотря на репутацию мизантропа, которую мой внешний вид и несколько удачно сказанных слов создали мне в свете, нет сомнения, что в своем кругу я плохо выдерживал роль: мои друзья и близкие знакомые водили этого дикого медведя, как ягненка, и, ограничивая свои сарказмы горькими, но общими истинами, я никогда не мог сказать кому бы то ни было ни одного обидного слова.
Мой «Деревенский колдун» окончательно сделал меня модным в свете, и скоро во всем Париже не было человека популярнее меня. История этой пьесы, составившей эпоху, связана с историей моих знакомств в ту пору. Тут я должен войти в подробности, чтобы был понятен мой последующий рассказ.
У меня было довольно много знакомых, но только два избранных друга – Дидро и Гримм. Моей натуре свойственно желание объединять всех, кто мне дорог, и я так любил их обоих, что и они вскоре подружились. Я свел их; они сошлись и стали более близкими друзьями между собой, чем со мной. У Дидро знакомых было без числа; но Гримму, иностранцу и новичку, надо было их приобрести. Я постарался помочь ему в этом. Я познакомил его с Дидро; познакомил с Гофкуром. Я повел его к г-же де Шенонсо, к г-же д’Эпине, к барону Гольбаху, с которым я сошелся почти против своего желания. Все мои друзья стали друзьями Гримма, – это было очень понятно; но никто из его друзей не стал моим другом, – вот что было уже менее понятно. Когда он жил у графа де Фриеза, то часто давал нам обеды у себя; но никогда я не видел никакого проявления дружбы или благосклонности ни от графа де Фриеза, ни от графа Шомбера, его родственника, очень коротко знакомого с Гриммом, ни от других лиц, мужчин или женщин, с которыми Гримм был через них связан. Я исключаю только аббата Рейналя, который, несмотря на то что дружил с ним, выказал себя и моим другом: с редко встречающейся шедростью он предложил мне в одном случае свой кошелек. Но я знал аббата Рейналя задолго до того, как Гримм с ним познакомился, и был очень привязан к нему после одного его поступка, не очень значительного, но полного такой деликатности и благородства в отношении меня, что я никогда этого не забывал.
Аббат Рейналь, несомненно, горячо преданный друг. Я получил доказательство этого почти в то время, о котором говорю, и по отношению к тому же Гримму, с которым он был в тесной дружбе. Гримм, будучи несколько времени в дружеских отношениях с мадемуазель Фель, вдруг безумно в нее влюбился и задумал отбить ее у Кагюзака. Красавица, гордясь своим постоянством, выпроводила нового претендента. Гримм взглянул на дело трагически и решил, что надо умереть. Он внезапно захворал весьма странной болезнью, о которой читателям, быть может, когда-либо приходилось слышать. Он проводил дни и ночи в непрерывной летаргии, с совершенно открытыми глазами, с правильно бьющимся пульсом, но не говоря ни слова, не принимая пищи, не двигаясь, иногда как будто слыша, но ничего не отвечая, даже знаками; не было никаких признаков лихорадки, он не обнаруживал ни волнения, ни боли и лежал как мертвый. Мы с аббатом Рейналем поочередно дежурили у его постели; аббат, человек более крепкий и более здоровый, чем я, проводил возле него ночи, я – дни; мы никогда не пропускали своего дежурства, и ни один из нас никогда не уходил, пока не явится другой. Граф де Фриез встревожился и привел к нему Сенака; тщательно осмотрев его, Сенак сказал, что это пустяки, и ничего не прописал. Страх за моего друга заставил меня внимательно следить за поведением врача, и я заметил, что, выходя, он улыбался. Однако больной еще несколько дней оставался неподвижным, не принимая ни бульона, ни чего бы то ни было, кроме вишневого варенья: время от времени я клал ему ягоды в рот, и он очень охотно их проглатывал. В одно прекрасное утро он встал, оделся и возобновил свой обычный образ жизни, совершенно не подымая разговора ни со мной, ни, насколько я знаю, с аббатом Рейналем, ни с кем бы то ни было о странной своей летаргии и о той заботе, которую мы о нем проявляли, пока длилась его болезнь.
Это происшествие, разумеется, вызвало толки; и действительно, получился чудесный рассказ о том, как жестокость девицы из Оперы чуть не заставила влюбленного в нее человека умереть от отчаяния. Такая красивая страсть сделала Гримма модным; вскоре он прослыл воплощением любви, дружбы и преданности. Эта репутация привела к тому, что в высшем свете стали искать с ним знакомства и чествовать его, и тогда он отдалился от меня, так как я был для него только приятелем на худой конец. Он постепенно все больше ускользал от меня, и я это ясно видел, потому что, без громких слов, искренне питал к нему все те горячие чувства дружбы, которые он лишь выставлял напоказ. Я был очень рад его успеху в свете, однако мне не хотелось, чтобы из-за этого он забывал своего друга. Я сказал ему однажды: «Гримм, вы обращаете на меня мало внимания, но я прощаю вам это. Когда пройдет первое опьянение блестящими успехами и вы почувствуете всю их пустоту, я надеюсь, вы вернетесь ко мне – и вы найдете меня все тем же, а теперь можете не стесняться, я предоставляю вам свободу и жду вас». Он ответил мне, что я прав, повел себя в соответствии с этим и стал так пренебрегать мною, что я больше не видел его иначе, как у наших общих друзей.
Главным местом наших встреч, до того как он близко сошелся с г-жой д’Эпине, был дом барона Гольбаха. Этот барон, сын выскочки, обладал довольно большим состоянием и пользовался им благородно, принимая у себя писателей и людей выдающихся; сам он благодаря своим знаниям и просвещенности был среди них вполне на своем месте. Издавна он был дружен с Дидро и через его посредство искал знакомства со мной, даже прежде чем мое имя стало известным. Врожденное отвращение долго мешало мне пойти ему навстречу. Когда он однажды спросил меня о причине, я ответил: «Вы слишком богаты». Он стал упорствовать и победил наконец. Величайшим моим несчастьем всегда было неуменье противостоять ласке: я уступал ей, и это всегда кончалось для меня плохо.
Другое знакомство, превратившееся в дружбу, как только я получил право претендовать на нее, было знакомство с Дюкло. За несколько лет до того я в первый раз встретил его в Шевретте, у г-жи д’Эпине, с которой он был в очень хороших отношениях. Мы только пообедали вместе; он уехал в тот же день; но мы беседовали несколько минут после обеда. Г-жа д’Эпине говорила ему обо мне и о моей опере «Галантные музы». Дюкло, сам одаренный большими талантами, любил людей одаренных; почувствовав ко мне симпатию, он пригласил меня к себе. Несмотря на мое давнее расположение к нему, подкрепленное знакомством, застенчивость и леность удерживали меня до тех пор, пока я думал, что он приглашает меня только из вежливости; но, ободренный своим первым успехом и его похвалами, дошедшими до меня, я посетил его, и он отдал мне визит. Так начались между нами отношения, благодаря которым он всегда будет мне дорог: именно в силу этих отношений и свидетельства моего собственного сердца я знаю, что прямота и честность могут иногда сочетаться с занятиями литературой.
Я не упоминаю здесь о многих других знакомствах – тех, что были следствием моих первых успехов и длились до тех пор, пока не было удовлетворено любопытство. Я был человеком, на которого стремились посмотреть, а на другой день не находили в нем ничего нового. Впрочем, одна женщина, искавшая знакомства со мной в то время, поддерживала его дольше, чем все другие. Это была маркиза де Креки, племянница судьи де Фруле, посланника в Мальте, брат которого был предшественником графа де Монтэгю на посту французского посла в Венеции и которого я посетил по своем возвращении оттуда. Г-жа де Креки написала мне; я пошел к ней, и она приняла меня дружески. Я обедал у нее иногда; я встретил там нескольких писателей и, между прочим, г-на Сорена, автора «Спартака», «Барневельдта» и других пьес, ставшего впоследствии моим жесточайшим врагом, чему я не могу придумать другой причины, кроме той, что я ношу имя человека, которого его отец самым недостойным образом преследовал.
Читателю ясно, что от ремесла переписчика, обязанного скрипеть пером с утра до вечера, меня отвлекало очень многое, а поэтому оно было для меня не особенно прибыльным, ибо я не мог выполнять заказы внимательно и больше половины времени, остававшегося у меня для работы, терял на то, чтобы подчищать и выскабливать свои ошибки или переписывать лист сызнова. Из-за такой докучной обстановки Париж день ото дня становился для меня все несноснее, и я горячо стремился в деревню.
Не раз проводил я по нескольку дней в Маркусси, где у г-жи Левассер был знакомый викарий, у которого мы все устраивались так, чтобы ему не было от этого неудобств. Один раз Гримм ездил туда с нами3232
Так как я упустил рассказать здесь об одном маленьком, но памятном происшествии, которое было у меня там с этим самым Гриммом, когда мы собирались обедать у фонтана Сен-Вандрилль, то не стану возвращаться к нему; но, раздумывая о нем впоследствии, я пришел к заключению, что Гримм уже в то время замышлял в глубине своего сердца заговор, осуществленный им впоследствии с таким необычайным успехом. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть]. У викария был хороший голос, он недурно пел и, хотя не знал нот, мог разучить партию с большой легкостью и точностью. Мы проводили время в пении моих трио, написанных в Шенонсо. Я сочинил там еще два или три новых, на слова, которые кое-как состряпали Гримм и викарий. Не могу удержаться, чтобы не пожалеть об этих трио, написанных и петых в минуты самой чистой радости и оставшихся вместе со всеми моими нотами в Утоне. Возможно, мадемуазель Девенпорт уже сделала из них папильотки; но они были написаны по большей части хорошим контрапунктом, и, право, стоило их сохранить. После одного из этих маленьких путешествий, во время которого я имел удовольствие видеть Терезу довольной и веселой и сам тоже очень веселился, я написал викарию, очень быстро и очень плохо, послание в стихах, которое найдут среди моих бумаг.
У меня было, поближе к Парижу, другое пристанище, чрезвычайно приятное для меня, – у г-на Мюссара, моего соотечественника, родственника и друга, устроившего себе в Пасси очаровательный уголок, где я провел много безмятежных часов. Мюссар был ювелир и человек рассудительный. Честно нажив на своем деле порядочное состояние и выдав свою единственную дочь замуж за дворецкого короля – г-на де Вальмалета, сына биржевого маклера, он принял мудрое решение оставить на старости лет торговлю и дела, чтобы в промежуток времени, оставшийся ему перед смертью, отдохнуть от треволнений жизни и насладиться мирными радостями. Добряк Мюссар, настоящий философ в жизни, жил без забот в очень уютном собственном доме посреди красивого сада, который насадил собственными руками. Разрыхляя землю в этом саду, расположенном уступами, он нашел ископаемые раковины – и в таком количестве, что его экзальтированное воображение стало видеть одни лишь раковины во всей природе, и он наконец в самом деле поверил, что вселенная состоит только из раковин, из обломков раковин, и что вся земля не что иное, как ракушечный известняк. Беспрестанно занятый этим предметом и своими странными открытиями, он так воспламенился этими идеями, что они превратились бы в его голове в целую систему, то есть в безумную манию, если бы, к счастью для его разума, но к большому несчастью для его друзей, которым он был дорог и которые находили у него самое приятное убежище, смерть не похитила его у них путем самой странной и жестокой болезни: это была опухоль в желудке, которая, все разрастаясь, мешала ему есть и привела наконец к тому, что после нескольких лет страданий он умер от голода. Я не могу вспомнить без боли в сердце о последних днях этого несчастного и достойного человека; Ленье и я оказались единственными друзьями, посещавшими его до последнего часа, – остальных отпугивало зрелище его страданий; он пожирал глазами угощение, которое подавали нам по его приказанию, а сам почти не имел возможности проглотить несколько капель жидкого чая, чтобы через минуту желудок не выбросил их обратно. Но до этого скорбного времени сколько я провел у него приятных часов среди его избранных друзей! Во главе их я ставлю аббата Прево, очень любезного и очень простого человека, сердце которого одушевляло его достойные бессмертия творения; ни в его нраве, ни в обращении не было следа того мрачного колорита, который он сообщал своим произведениям; назову еще доктора по фамилии Прокоп, маленького Эзопа, имевшего успех у женщин; Буланже, знаменитого после своей смерти автора «Восточного деспотизма», распространявшего, кажется, взгляды Мюссара на вопрос о продолжительности мирозданья; из женщин – г-жу Дени, племянницу Вольтера, – в то время просто добрую особу, еще не претендовавшую на остроумие; г-жу Ванлоо, не красавицу, конечно, но женщину очаровательную и певшую, как ангел; самое г-жу де Вальмалет, которая тоже пела и, хотя отличалась худобой, была бы очень привлекательна, если б только меньше прилагала к тому стараний. Таково в основном было общество, собиравшееся у г-на Мюссара, и оно очень нравилось мне, но беседы с хозяином дома наедине и его конхилиомания нравились мне больше; и могу сказать, что более шести месяцев я работал в его кабинете с таким же удовольствием, как и он сам.

Он уже давно утверждал, что при моем состоянии здоровья воды Пасси будут спасительны для меня, и заклинал приехать и пользоваться ими у него. Чтобы вырваться хоть ненадолго из городской сутолоки, я сдался наконец и провел в Пасси недели полторы, которые принесли мне много пользы, – больше потому, что я жил в деревне, чем потому, что пользовался водами. Мюссар играл на виолончели и страстно любил итальянскую музыку. Однажды вечером мы много говорили о ней перед сном, особенно о комических операх; мы оба видели их в Италии и были от них в восторге. Ночью мне не спалось, я принялся мечтать, как можно было бы для постановки во Франции сочинить пьесу в таком жанре, потому что комедия «Увлечение Рагунды» была совсем не похожа на них. Утром, гуляя и принимая воды, я наспех сочинил некоторое подобие стихов и подобрал к ним напевы, пришедшие мне в голову. Я набросал все это под сводами павильона, стоявшего в верхней части сада. За чаем я не утерпел, чтобы не показать этих арий Мюссару и мадемуазель Дювернуа, его экономке, которая поистине была очень добрая и милая девица.
Три сделанных мною наброска содержали первый монолог: «Увы, слуга потерян мной», арию колдуна: «С тревогою любовь растет» и последний дуэт: «Хочу с тобой, Колен, я быть» и т. д. Я так мало считал это достойным продолжения, что, если б не аплодисменты и одобрения обоих моих слушателей, бросил бы свои листки в огонь и не думал о них больше, как делал столько раз с вещами, по меньшей мере такими же хорошими; но тут меня так разгорячили, что в шесть дней моя пьеса была готова почти до последнего стиха, набросана вся музыка; в Париже мне пришлось сделать только несколько речитативов и дополнений; я окончил все с такой быстротой, что в три недели мои сцены были отделаны и годны к постановке. В них не хватало только дивертисмента, который я написал много позже.
Возбужденный сочинением этой пьесы, я страстно желал услышать ее и отдал бы все на свете, чтобы ее поставили по моему вкусу и при закрытых дверях, как, говорят, однажды сделал это Люлли, заставив сыграть свою «Армиду» для себя одного. Однако у меня не было возможности испытать это удовольствие иначе как при публике, и, чтобы насладиться своей пьесой, мне необходимо было провести ее в Опере. К несчастью, она была в совершенно новом жанре, к которому уши парижан совсем не привыкли; и к тому же слабый успех «Галантных муз» заставлял меня предвидеть такой же прием и для «Колдуна», если я представлю его под своим именем. Дюкло вывел меня из затруднения и взялся добиться пробной репетиции, сохранив в тайне имя автора. Чтобы не выдать себя, я на этой репетиции не присутствовал, и «маленькие скрипачи»3333
Так называли Ребеля и Франкера, в юности известных тем, что они всегда вместе ходили играть на скрипке по домам. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть], дирижировавшие ею, сами не знали, кто ее автор, пока всеобщее одобрение не засвидетельствовало качество пьесы. Все, кто ее слышал, были от нее в восторге, и уже на другой день во всех домах не говорили ни о чем другом. Распорядитель дворцовых увеселений г-н де Кюри, присутствовавший на репетиции, попросил пьесу для постановки при дворе. Дюкло, зная мои намерения и полагая, что я буду меньше хозяином своей пьесы при дворе, чем в Париже, отказал ему. Кюри потребовал ее официально. Дюкло не уступал, и спор между ними стал таким горячим, что однажды в Опере они готовы были вызвать друг друга на дуэль и их едва примирили. Попробовали обратиться ко мне; я отослал за разрешением вопроса к Дюкло. Пришлось опять вести с ним переговоры. Герцог д’Омон вмешался в этот спор. Дюкло счел наконец необходимым уступить власти, и пьеса была отдана для представления в Фонтенбло.
Частью, которой я больше всего дорожил и где я более всего удалялся от обычного пути, был речитатив. Мой речитатив был отмечен совершенно новой выразительностью и согласовался с произношением слов. Сохранить это ужасное новшество не посмели из боязни, как бы оно не оскорбило ослиных ушей. Я согласился, чтобы Франкей и Желиотт написали другой речитатив, но не стал в это вмешиваться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































