Текст книги "Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя"
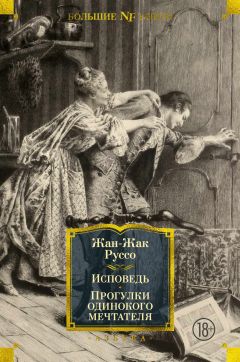
Автор книги: Жан-Жак Руссо
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 60 страниц)
Накануне назначенного дня я знал свою речь наизусть; я повторял ее без ошибки. Всю ночь я перебирал ее у себя в голове – утром я уже ничего не помнил. Я колеблюсь на каждом слове, я уже представляю себя в высоком собрании, я смущаюсь, бормочу, теряю голову; наконец почти в самый момент ухода мужество окончательно покидает меня; я остаюсь дома и решаю написать консистории, приведя наспех причины, меня удержавшие, и ссылаясь на недуги, которые и в самом деле при тогдашнем моем состоянии не позволили бы мне выдержать заседание до конца. Пастор, поставленный в затрудненье моим письмом, отложил вопрос до другого заседания. В промежутке он предпринял сам и через своих клевретов тысячу шагов, чтобы соблазнить тех старейшин, которые, предпочитая следовать внушениям своей совести, а не его наставлениям, держались образа мыслей, неблагоприятного для духовенства и для него самого. Но как ни убедительно должны были действовать на этот сорт людей аргументы, добытые им из винного погреба, ему удалось склонить на свою сторону лишь двух или трех, уже заранее ему преданных и, как говорили, продавших ему свою душу. Представитель короля и полковник Пюри, принявший горячее участие в этом деле, поддержали в остальных сознание их долга, а когда Монмолен заговорил об отлучении, консистория большинством голосов воспротивилась. Тогда он обратился к последнему средству: решил взбунтовать чернь. Он открыто приступил к делу вместе со своими клевретами и некоторыми другими лицами и действовал с таким успехом, что, несмотря на многократные и строгие рескрипты короля, несмотря на все приказы Государственного совета, я оказался в конце концов вынужденным покинуть эту страну, чтобы не подвергать представителя государя опасности самому быть убитому, защищая меня. У меня осталось такое смутное воспоминание обо всем этом деле, что я не в состоянии внести какой бы то ни было порядок, какую бы то ни было связь в мысли, возникающие у меня по поводу него, и могу только передавать события в том разбросанном и разрозненном виде, в каком они всплывают в моем уме. Помню, что с духовенством велись какие-то переговоры, причем посредником был Монмолен. Он заявил, будто существует опасение, как бы мои книги не нарушили спокойствия страны, ибо ей поставят в вину предоставленную мне свободу писать. Он дал мне понять, что, если я обещаю оставить перо, на прошлое будут смотреть сквозь пальцы. Я уже дал такое обещание самому себе и без колебаний дал его духовенству, но только условно и только относительно вопросов религиозных. Монмолен ухитрился получить от меня это обязательство в двух экземплярах, потребовав некоторых изменений в тексте. Так как условие духовенством было отвергнуто, я попросил свое обязательство обратно, Монмолен вернул мне один экземпляр, а второй оставил у себя, заявив, что потерял его. После этого народ, открыто подстрекаемый пасторами, смеясь над рескриптами короля и приказами Государственного совета, закусил удила. Меня громили с церковной кафедры, называли антихристом и преследовали в деревне, как оборотня. Моя армянская одежда служила черни опознавательным знаком; я мучительно чувствовал это неудобство, но снять ее при таких обстоятельствах казалось мне малодушием. Я не мог на это решиться и спокойно расхаживал в своем кафтане и меховой шапке, не боясь гикания сволочи и камней, иногда летевших в меня. Не раз, проходя мимо того или иного дома, я слышал, как находившийся в нем говорил: «Подайте-ка мне ружье, я пущу ему нулю вслед». Я не ускорял шага, и это еще больше приводило их в ярость; но они всегда ограничивались угрозами, по крайней мере по части огнестрельного оружия.
Во время этих волнений мне все же выпало два больших удовольствия, очень мне дорогих. Первое то, что я имел возможность через посредство милорда маршала отблагодарить за одну услугу. Все честные люди в Невшателе, возмущенные оскорблениями, которым я подвергался, и происками, которых я был жертвой, относились к пасторам с омерзением, хорошо понимая, что они подчиняются чужеземному влиянию и являются лишь приспешниками других людей, которые скрываются за ними и заставляют их действовать вместо себя. Возникли опасения, как бы пример со мной не послужил к установлению настоящей инквизиции. Судьи, особенно г-н Мерон, сменивший д’Ивернуа в должности главного прокурора, делали все от них зависящее, чтобы защитить меня. Полковник Пюри, хоть и частное лицо, сделал больше и с лучшим успехом. Это он нашел средство одолеть Монмолена в его консистории, удержав старейшин от нарушения долга. Пользуясь известным влиянием, Пюри употребил его на то, чтобы сдержать мятеж, но авторитету денег и вина он мог противопоставить только авторитет закона, справедливости и разума. Шансы были неравны, и в этом пункте Монмолен восторжествовал над ним. Однако, тронутый его заботами и усердием, я хотел отплатить услугой за услугу и каким-нибудь образом расквитаться с ним. Я знал, что он очень желал получить место государственного советника, но, повредив себе во мнении двора в связи с делом пастора Птипьера, он был в немилости у короля и губернатора. Я все-таки рискнул написать о нем милорду маршалу; я осмелился даже заговорить о должности, которой Пюри желал, и так удачно, что, вопреки всем ожиданиям, она была почти тотчас же пожалована ему королем. Так судьба, всегда ставившая меня одновременно слишком высоко и слишком низко, продолжала кидать меня из одной крайности в другую, и в то время как чернь забрасывала меня грязью, я назначал государственного советника.
Другим большим удовольствием было для меня посещение г-жи де Верделен с дочерью, которую она взяла с собой на воды в Бурбонн. Оттуда она приехала в Мотье и прогостила у меня два-три дня. Своим вниманием и заботами она преодолела наконец мою давнишнюю антипатию, и сердце мое, покоренное ее ласками, заплатило ей дружбой за дружбу, так долго мне выказываемую. Я был тронут этим приездом, особенно при обстоятельствах, в каких находился: для поддержания мужества мне так нужны были утешения дружбы. Я опасался, как бы оскорбления, наносимые мне чернью, не огорчили ее, и хотел скрыть от нее их зрелище, чтобы избавить ее от сердечного сокрушения. Однако это оказалось невозможным: хотя ее присутствие несколько сдерживало наглецов, но во время наших прогулок ей пришлось увидеть достаточно, чтобы иметь представление о том, что происходит в другое время. Случилось даже так, что именно в период ее пребывания начались ночные нападения на меня в моем собственном жилище. Однажды утром ее горничная обнаружила на моем окне множество камней, которые в него бросали ночью. Очень массивная скамья, стоявшая на улице возле моей двери и хорошо прикрепленная, была сорвана, перенесена и прислонена стоймя к двери, так что, если б ее не заметили, первый, кто, выходя, открыл бы наружную дверь, был бы убит на месте. Г-жа де Верделен знала все, что происходит, так как, помимо того, что видела она сама, ее слуга, человек надежный, завел многочисленные знакомства в деревне, со всеми там разговаривал, и его даже видели беседующим с Монмоленом. Однако она как будто не обращала никакого внимания на все, что со мной происходило, не спрашивала меня ни о Монмолене, ни о ком другом и скупо отвечала на то, что я иногда говорил ей об этом. Но, видимо, убежденная, что пребывание в Англии подойдет мне больше всего, она зато много рассказывала мне о Юме, находившемся тогда в Париже, о его расположении ко мне, о его желании быть мне полезным у себя на родине.
Пора сказать несколько слов о г-не Юме. Он получил большую известность во Франции, особенно среди энциклопедистов, своими трактатами о торговле и политике, а в последнее время – своей историей дома Стюартов, единственном его сочинении, из которого я кое-что прочел в переводе аббата Прево. Не читав других его сочинений, я был убежден, на основании рассказов о нем, что у Юма душа подлинного республиканца, несмотря на его чисто английские парадоксы в защиту роскоши. На основании этого я считал всю его апологию Карла I образцом беспристрастия и был такого же высокого мнения о его добродетели, как и о таланте. Желание познакомиться с этим необыкновенным человеком и подружиться с ним сильно увеличивало для меня соблазн отправиться в Англию, поддавшись уговорам г-жи де Буффле, близкой приятельницы Юма. Прибыв в Швейцарию, я получил от него через посредство этой дамы чрезвычайно лестное письмо, в котором он к величайшим похвалам моему таланту присоединял настойчивое приглашение приехать в Англию и обещал воспользоваться всем своим влиянием и влиянием всех своих друзей, чтобы сделать мне пребывание там приятным. Милорд маршал, соотечественник и друг Юма, подтвердил мне все хорошее, что я о нем думал, и даже рассказал о нем случай из литературной жизни, сильно поразивший маршала, так же как меня: Уоллес, выступавший против Юма по вопросу о народонаселении древних стран, был в отсутствии, когда печаталось его сочинение. Юм взял на себя просмотр корректур и наблюдение за изданием. Такой образ действий был в моем духе. Ведь и я распространял – по шесть су за экземпляр – песенку, сложенную против меня. Итак, у меня были всяческие основания относиться к Юму с симпатией, когда г-жа де Верделен начала горячо толковать о его дружбе ко мне и о его готовности оказать мне гостеприимство в Англии, – именно так она выразилась. Она настойчиво уговаривала меня воспользоваться этим расположением и написать г-ну Юму. Так как Англия мне не особенно нравилась и я хотел остановить свой выбор на ней только в крайнем случае, я отказался писать и давать обещания, но предоставил ей делать все, что она найдет уместным, чтобы поддержать доброе отношение ко мне г-на Юма. Покидая Мотье, она оставляла меня в уверенности, после всего сказанного ею об этом знаменитом человеке, что он принадлежит к моим друзьям и что она сама еще больший мой друг.
После ее отъезда Монмолен усилил свои происки, и чернь закусила удила. Я между тем продолжал спокойно прогуливаться среди гиканья, а любовь к ботанике, пробудившаяся у меня в общении с доктором д’Ивернуа, придавала новый интерес моим прогулкам; я бродил по окрестностям, собирая растения, и не волновался из-за криков всей этой сволочи, которую такое хладнокровие только бесило. Более всего удручало меня то обстоятельство, что семьи моих друзей или тех, кто называл себя так, довольно открыто примыкали к союзу преследователей7070
Это несчастье началось с самого начала моего пребывания в Ивердене; когда знаменный владетель Роген через год или два после моего отъезда из этого города умер, старый папаша Роген имел порядочность с горечью сообщить мне, что в бумагах его родственника обнаружены доказательства его участия в заговоре, имевшем целью изгнать меня из Ивердена и государства Берна. Это обстоятельство чрезвычайно ясно доказывает, что заговор этот не был, как это утверждали, делом ханжей, поскольку знаменный владетель Роген не только не был набожен, но доходил в своем материализме и неверии до нетерпимости и фанатизма. Впрочем, никто в Ивердене так не занимался мной, не расточал мне столько ласк, похвал и лести, как означенный знаменный владетель Роген. Он строго следовал замыслу, взлелеянному моими преследователями. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть]. Так поступали, например, семейство д’Ивернуа, не исключая даже отца и брата моей Изабеллы, затем Буа де ла Тур, родственник моей приятельницы, у которой я жил, и г-жа Жирардье, ее невестка. Этот Пьер Буа был такой мужлан, такой тупица и держался так грубо, что, для того чтоб не сердиться, я позволил себе высмеять его и составил в духе «Маленького пророка» брошюру в несколько страниц, озаглавленную «Видение горного отшельника Петра по прозванию Ясновидящий», в которой мне удалось сделать довольно забавный выпад против чудес, составлявших тогда главный повод для моего преследования. Дю Пейру напечатал в Женеве этот пустяк, имевший лишь посредственный успех: невшательцы при всем своем уме не понимают аттической соли и шутки, чуть она потоньше.
Несколько более тщательно написал я другое сочинение, относящееся к тому же времени; рукопись его найдут среди моих бумаг, а о сюжете нужно здесь рассказать.
В самую бурю постановлений и преследований женевцы особенно отличились, крича изо всех сил караул, и среди прочих мой друг Верн с поистине богословским великодушием выбрал как раз это время, чтобы опубликовать против меня письма, в которых утверждал, что я не христианин. Письма эти, написанные в крайне самодовольном тоне, не были от этого лучше, хотя шел слух, что естествоиспытатель Бонне приложил к ним руку: названный Бонне, хоть и материалист, тем не менее обнаруживает чрезвычайно нетерпимое правоверие, как только заходит речь обо мне. Конечно, я не испытывал особого желанья отвечать на это произведение, но, поскольку представился случай сказать о нем два слова в «Письмах с горы», вставил туда довольно пренебрежительный, краткий отзыв, приведший Верна в ярость. Он поднял бешеный крик на всю Женеву, и д’Ивернуа сообщил мне, что он вне себя. Через некоторое время появился анонимный листок, написанный словно водой из Флегетона вместо чернил. В этом послании меня обвиняли в том, что я выбросил своих детей на улицу, что я таскаю за собой солдатскую девку, что я расстроил свое здоровье развратом, что я сгнил от дурной болезни, и в тому подобных прелестях. Мне нетрудно было узнать автора. При чтении этого пасквиля я прежде всего подумал о том, чего стоит так называемое доброе имя и репутация, если можно назвать завсегдатаем борделей человека, ни разу в жизни там не бывавшего, самым большим недостатком которого является робость и застенчивость, как у невинной девушки; и если смеют утверждать, что я гнию от дурной болезни, тогда как я не только никогда не имел болезней этого рода, но медики считали даже, что я по самому своему устройству не могу заразиться ими. Тщательно взвесив все, я нашел, что не сумею лучше опровергнуть эту книжонку, как напечатав ее в том городе, где дольше всего жил, и я послал ее Дюшену, чтобы он издал ее без изменений, с указанием авторства г-на Верна и кое-какими примечаниями для освещения фактов. Не удовлетворившись опубликованием этого листка, я послал его нескольким лицам, в том числе принцу Людовику Вюртембергскому, выказывавшему большую любезность по отношению ко мне и бывшему в то время со мной в переписке. Этот принц, дю Пейру и другие, по-видимому, сомневались, что Верн был автором пасквиля, и порицали меня за то, что я так легкомысленно назвал его. Их доводы заставили меня призадуматься, и я написал Дюшену, чтобы он уничтожил этот листок; Ги сообщил мне, что уничтожил его, но не знаю, сделал ли он это: сколько раз я убеждался, что он лжец, и один лишний его обман не удивил бы меня. С тех пор меня окутала такая глубокая тьма, что мне невозможно сквозь нее различить истину.

Верн перенес это обвинение со сдержанностью, более чем удивительной в человеке, который его не заслуживал, особенно после ярости, проявленной им прежде. Он написал мне два или три очень обдуманных письма, задавшись целью, как мне показалось, выяснить по моим ответам, насколько я осведомлен и нет ли у меня каких-нибудь доказательств против него. Я послал ему два коротких сухих ответа, резких по смыслу, но без невежливых выражений, и он не рассердился. На третье письмо я уже не ответил, видя, что он хочет завязать нечто вроде переписки; он заставил меня говорить через д’Ивернуа. Г-жа Крамер написала дю Пейру, что, по твердому ее убеждению, Верн не писал этого пасквиля. Все это ничуть не поколебало моей уверенности; но, так как я мог ошибаться и в таком случае обязан был дать Верну надлежащее удовлетворение, я передал ему через д’Ивернуа, что сделаю это в желательной для него форме, если он может указать мне настоящего автора книжонки или хоть доказать, что не он написал ее. Я сделал больше: хорошо понимая, что в конце концов, если он не виноват, я не имею права требовать каких-либо доказательств, я решил изложить в достаточно обстоятельной записке основания моей уверенности и представить их на рассмотрение третейского суда, которого Верн не мог бы отвести. Никто не отгадает, кого я выбрал в судьи: Совет Женевы. В конце своей записки я заявлял, что, если, рассмотрев ее и произведя все те расследования, какие Совет найдет необходимым произвести, имея полную возможность это сделать, он решит, что г-н Верн не является автором пасквиля, я тотчас же искренне возьму свои слова обратно, кинусь ему в ноги и буду просить у него прощенья до тех пор, пока не получу его. Смею сказать, что никогда еще моя пламенная жажда справедливости, никогда прямота, великодушие моей натуры, никогда моя вера во врожденную всем любовь к справедливости не проявились полней, очевидней, чем в этой скромной и трогательной записке, где я без колебаний брал самых непримиримых моих врагов в судьи между мной и моим клеветником. Я прочел эту записку дю Пейру; он нашел, что нужно повременить, и я так и сделал. Он посоветовал мне подождать обещанных Верном доказательств; я стал ждать их – и жду до сих пор. Он посоветовал мне пока молчать; я молчал – и буду молчать до конца жизни и терпеть порицания за то, что взвел на Верна тяжкое, ложное и бездоказательное обвиненье, хотя внутренне я остаюсь уверенным и убежденным, как в собственном существовании, в том, что он автор пасквиля. Моя записка находится у дю Пейру. Если она когда-нибудь увидит свет, в ней найдут мои доводы и, надеюсь, тогда узнают душу Жан-Жака, которую мои современники так мало стремились узнать.
Пора перейти к моей катастрофе в Мотье и моему отъезду из Валь-де-Травера, после двух с половиной лет пребыванья там и восьми месяцев самого недостойного обращения со мной, которое я сносил с редкой невозмутимостью. Я не в состоянии отчетливо вспомнить подробности этой неприятной эпохи, но их можно найти в сообщении, опубликованном дю Пейру, о чем мне придется говорить впоследствии.
После отъезда г-жи де Верделен возбуждение усилилось, и, несмотря на повторные рескрипты короля, несмотря на неоднократные приказы Государственного совета, несмотря на усилие королевского судьи повлиять на местных чиновников, народ, считая меня в самом деле антихристом и видя, что все его вопли ни к чему не ведут, пожелал наконец перейти к делу: уже на дорогах камни начали падать подле меня, но их пока еще бросали издалека, и они не попадали в цель. Наконец в ночь под ярмарочный день в Мотье, приходившийся в начале сентября, я подвергся нападению в своем доме, причем жизнь всех его обитателей была в опасности.
В полночь я услыхал сильный шум на галерее, огибающей заднюю часть дома. Град камней, кидаемых в окно и дверь, выходящие на эту галерею, посыпался на нее с таким грохотом, что моя собака, спавшая на галерее и поднявшая было лай, от испуга замолчала, забилась в угол и стала там грызть и царапать доски, стремясь убежать. Я поднимаюсь на шум, хочу выйти из своей комнаты в кухню, как вдруг камень, пущенный сильной рукой, пролетел через кухню, разбив в ней окно, распахнул дверь в мою комнату и упал возле постели, так что, поднимись я одной секундой раньше, он попал бы мне в живот. Я подумал, что шум был поднят, чтобы вызвать меня, а камень бросили, чтоб угостить меня при выходе. Бегу в кухню, вижу Терезу: она тоже поднялась и, вся дрожа, спешила ко мне. Мы прислоняемся к стене, в стороне от окна, чтобы уклониться от камней и обсудить, что нам делать: выйти, чтоб позвать на помощь, значило рисковать быть убитыми. К счастью, служанка одного старика, жившего подо мной, поднялась на шум и побежала к королевскому судье, помещавшемуся рядом с нами. Тот соскакивает с постели, поспешно хватает халат и тотчас является со стражей, совершавшей по случаю ярмарки ночной обход и оказавшейся поблизости. Разгром произвел на королевского судью такое ужасное впечатление, что он побледнел и при виде камней, усеявших галерею, воскликнул: «Господи, да это каменоломня!» При осмотре нижнего этажа было обнаружено, что высажена дверь в один дворик и что имела место попытка проникнуть в дом через галерею. Стали доискиваться, почему стража не заметила беспорядка или не помешала ему; было установлено, что жители Мотье настойчиво желали караулить в эту ночь вне очереди, хотя должна была караулить другая деревня. На другой день королевский судья послал донесение Государственному совету, а тот через два дня приказал расследовать дело, обещав награду и соблюдение тайны тем, кто укажет виновных; он велел также поставить ночью за счет государя стражу к моему дому и к смежному с ним дому королевского судьи. На другой день полковник Пюри, главный прокурор Мерой, королевский судья Мартине, сборщик податей Гьене, казначей д’Ивернуа и его отец – словом, все, что было лучшего в той местности, – пришли ко мне и дружно принялись уговаривать, чтобы я уступил буре и хоть на время выехал из прихода, где мне невозможно жить в покое и почете. Я заметил даже, что королевский судья, испуганный яростью этого одержимого народа и опасаясь, как бы она не направилась и на него, был бы очень доволен, если б я поскорее уехал, чтоб ему не приходилось больше защищать меня и он сам мог бы уехать, – что он и сделал после моего отъезда. Я уступил, и даже довольно легко, так как зрелище народной ненависти нестерпимо раздирало мне сердце.
У меня был выбор убежища. Возвратившись в Париж, г-жа де Верделен в нескольких письмах ко мне упоминала о некоем Уольполе, называя его милордом. Проникнутый, как он уверял, исключительным сочувствием ко мне, он предлагал мне приют в одном из своих имений, который г-жа де Верделен описывала в самых привлекательных красках, причем входила в подробности относительно помещения и питания, доказывавшие, до какой степени означенный милорд Уольполь был занят вместе с ней этим проектом. Милорд маршал постоянно советовал мне уехать в Англию или Шотландию и тоже предлагал приютить меня в одном из своих имений. Но он предлагал мне еще одно убежище, соблазнявшее меня гораздо больше: в Потсдаме, возле него. Он передал мне слова, сказанные ему обо мне королем и представлявшие собой своего рода приглашение приехать туда. Герцогиня Саксен-Готская, рассчитывая на это путешествие, написала мне, усиленно приглашая заехать к ней по дороге и некоторое время погостить у нее. Но я был так привязан к Швейцарии, что не мог решиться покинуть ее до тех пор, пока у меня будет возможность жить там, и я воспользовался этим временем, чтобы привести в исполнение план, занимавший меня уже несколько месяцев: я еще не говорил о нем здесь, чтобы не прерывать нити повествования.
План мой заключался в том, чтобы поселиться на острове Сен-Пьер, составлявшем владение Бернской больницы и находящемся посредине Бьенского озера. Во время путешествия пешком, которое я совершил вместе с дю Пейру предыдущим летом, мы посетили этот остров; я был очарован им и с тех пор не переставал думать, как бы мне там обосноваться. Самое большое препятствие заключалось в том, что остров принадлежал бернцам, которые за три года перед тем подло выгнали меня. Моя гордость страдала при мысли о том, чтобы вернуться к людям, так дурно меня принявшим; кроме того, у меня было основание думать, что и теперь они не оставят меня в покое на этом острове, как в Ивердене. Я посоветовался с милордом маршалом, и он, полагая, как и я, что бернцы будут очень рады видеть меня заключенным на этом острове и держать меня там как заложника, в ожидании произведений, которые мне, может быть, захочется там написать, поручил разведать их намерения на этот счет некоему г-ну Стюрлеру, прежнему своему соседу в Коломбье. Стюрлер обратился к властям; на основании их ответа он уверял милорда маршала, что бернцы, стыдясь прежнего своего поведения, не хотят ничего больше, как видеть меня обосновавшимся на острове Сен-Пьер, и оставят меня там в покое. Из сугубой предосторожности я, прежде чем рискнуть отправиться туда на постоянное жительство, поручил собрать сведения еще полковнику Шайе, и он повторил мне то же самое. После того как сборщик острова получил от своего начальства позволение устроить меня там, я подумал, что ничем не рискую, остановившись у него с молчаливого согласия как властей, так и собственников; не мог же я рассчитывать, чтобы господа из Берна открыто признали причиненную мне несправедливость и, таким образом, погрешили против самого нерушимого правила всех властителей.
Остров Сен-Пьер, называемый в Невшателе островом Ламотта, расположен на Бьенском озере и имеет около полулье в окружности; но на этом небольшом пространстве он дает все главные продукты первой необходимости. Там есть поля, луга, фруктовые сады, леса, виноградники; местность, разнообразная и гористая, имеет тем более приятный вид, что пространство острова открывается не сразу, а постепенно, и кажется обширнее, чем на самом деле. Западная часть острова, обращенная к Глерессе и Бонвилю, представляет очень высокую террасу. На этом выступе устроена длинная аллея, перерезанная посредине большим павильоном, где во время сбора винограда, по воскресеньям, собирается народ из всех окрестностей повеселиться и потанцевать. На острове только один дом, но просторный и удобный, – там живет сборщик; дом расположен в углублении, под защитой от ветра.
В пятистах или шестистах шагах оттуда, к югу, есть другой остров, поменьше, невозделанный и пустынный, словно оторванный когда-то бурями от большого; на его покрытой гравием почве растут только ивы да тысячелистник; но там есть все же высокий холмик, покрытый травой и очень привлекательный. Форма озера – почти правильный овал. Берега его, менее богатые, чем берега Женевского или Невшательского озера, образуют, однако, довольно красивую панораму, особенно в западной части, густо заселенной и окруженной виноградниками, раскинутыми у подножья горной цепи – как в Кот-Роти, – но не дающими такого хорошего вина. В направлении с юга на север находятся округа Сен-Жан, Бонвиль, Бьен и у северной оконечности озера – Нидо, все усеянные очень милыми деревушками.
Таково было намеченное мною убежище, куда я решил переселиться, покинув Валь-де-Травер7171
Может быть, небесполезно будет заметить, что я оставил там личного врага в лице г-на дю Терро, мэра Верьеров, пользующегося в этом краю очень небольшим уважением: но его брат, как говорят, честный человек, служил в канцелярии г-на Сен-Флорантена. Мэр приезжал к нему незадолго до истории со мной. Такого рода маленькие наблюдения, сами по себе ничтожные, могут привести впоследствии к раскрытию многих козней. (Примеч. Руссо.)
[Закрыть]. Выбор этот так отвечал моим мирным вкусам, моей склонности к уединению и лени, что я причисляю его к тем сладким мечтам, которыми сильнее всегo увлекался. Мне казалось, что на этом острове я буду более отрезан от людей, более защищен от их оскорблений, более забыт ими, – словом, буду более погружен в наслаждение бездействием и созерцательной жизнью. Мне хотелось бы замкнуться на этом острове, вовсе не иметь ни с кем общения; и, само собой понятно, я принял все возможные меры, чтобы уклониться от необходимости это общение поддерживать.
Встал вопрос о средствах к существованию; дороговизна съестных припасов, так же как трудность доставки их, сильно удорожает жизнь на этом острове, где к тому же находишься в полной зависимости от сборщика. Это затруднение было устранено сделкой, предложенной мне дю Пейру: он взял на себя издание всех моих сочинений, предпринятое и потом остановленное компанией. Я передал ему все материалы для этого издания, распределил их и привел в порядок. К этому я присоединил обязательство передать ему записки о своей жизни и сделал его хранителем вообще всех моих бумаг, с непременным условием воспользоваться ими только после моей смерти, так как втайне я замыслил спокойно окончить свой жизненный путь, больше не напоминая публике о себе. Пожизненная пенсия, которую он обязался мне выплачивать, оказалась достаточной для моего существования. Милорд маршал, получив обратно все свои имения, также предложил мне пенсию в тысячу двести франков; я принял ее, уменьшив наполовину. Он хотел прислать мне и капитал, но я отказался, не зная, куда его поместить. Тогда он передал этот капитал дю Пейру, в руках которого тот и остался, и последний выплачивает мне пожизненную пенсию на условиях, установленных дарителем. Итак, соединив свой договор с дю Пейру, пенсию милорда маршала, две трети которой должны были выплачиваться Терезе после моей смерти, и ренту в триста франков, получаемую от Дюшена, я мог рассчитывать на приличное существование для себя, а после моей смерти – для Терезы, которой я оставлял семьсот франков ренты из пенсий Рея и милорда маршала. Мне не приходилось больше бояться, что она или я будем нуждаться в куске хлеба. Но так уж было суждено, что чувство чести заставило меня отвергнуть обеспеченность, к которой счастье и мой труд откроют мне доступ, и я умру таким же бедным, как жил. Пусть рассудят, мог ли я, не будучи последним негодяем, оставить в силе соглашения, если их все время старались сделать унизительными и при этом предусмотрительно лишали меня всякого другого источника существования, чтобы я был вынужден примириться с бесчестьем. Разве эти люди могли представить себе, каково будет на самом деле мое решенье при таком выборе? Ведь они всегда судили о моем сердце по своему собственному.
Успокоившись относительно средств к существованию, я больше ни о чем не тревожился. Хотя в свете я очистил поле для своих врагов, однако в благородном энтузиазме, породившем мои произведения, и в постоянной стойкости принципов заключалось свидетельство о моей душе, согласное с тем, что говорило о моем характере все мое поведенье. Я не нуждался в другой защите от клеветников. Они могли рисовать под моим именем образ другого человека, но этим обманывали только тех, кто хотел быть обманутым. Я мог бы отдать им на разбор всю свою жизнь от начала до конца; я уверен, что сквозь мои ошибки и слабости, сквозь мою неспособность нести какое бы то ни было иго всегда будет виден человек справедливый, добрый, без желчи, чуждый ненависти и зависти, всегда готовый признать свою неправоту, еще более готовый забыть чужую, полагающий все свое счастье в тихих и добрых чувствах и во всем доводящий свою искренность до безрассудства, до самого невероятного беспристрастия.
Итак, в известном смысле я расставался со своим веком и современниками, прощался со светом, намереваясь затвориться на этом острове до последних своих дней. Таково было мое решение; там рассчитывал я исполнить наконец великий замысел начать праздную жизнь, осуществлению которого до тех пор напрасно посвящал малую способность к деятельности, дарованную мне небом. Этот остров должен был стать для меня островом Папиманией – блаженным краем, где все спят…
Где больше делают: в бездействии живут.
Это «больше» очень подходило мне, так как я всегда мало жалел о сне: мне достаточно праздности; и при условии, что я могу ничего не делать, я даже предпочитаю грезить наяву, а не в сновиденьях. После того как пора романтических мечтаний прошла и дым тщеславия скорей одурманил меня, чем усладил, у меня осталась только последняя надежда – жить без стеснения, в вечном досуге. Это жизнь блаженных на том свете, и в ней отныне полагал я высшее свое счастье здесь, на земле.
Те, кто упрекает меня в стольких противоречиях, не упустят случая упрекнуть меня еще в одном. Я сказал, что праздность, царящая в гостиных, делает их несносными для меня; а теперь стремился к уединению лишь для того, чтобы предаться праздности. Однако я именно таков; если в этом есть противоречие, то оно лежит в моей природе и не зависит от меня; на самом же деле здесь не только нет противоречия, но именно благодаря этому-то я и остаюсь всегда самим собой. Праздность в гостиных убийственна, потому что она вынужденна; праздность в уединении пленительна, потому что она свободна и добровольна. Ничего не делать в компании мне тягостно, потому что я к этому принужден. Я должен оставаться на месте, словно приклеенный к стулу, или стоять, торча как столб, не двигая ни рукой, ни ногой, не смея ни бегать, ни прыгать, ни петь, ни кричать, ни жестикулировать, когда захочется; не смея даже мечтать, испытывая одновременно всю скуку праздности и всю муку стеснения; вынужденный быть внимательным ко всем глупостям, раздающимся вокруг, ко всем любезностям, которые произносятся, и беспрестанно утомлять свою голову, чтобы не упустить случая в свою очередь ввернуть остроту и ложь. И это вы называете праздностью! Да это каторжная работа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































