Текст книги "Сан-Феличе. Книга вторая"
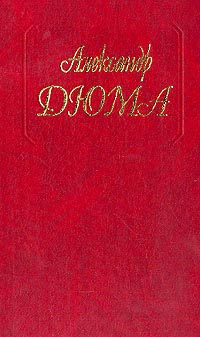
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 72 страниц)
CXLI. СИМОНЕ БЕККЕР ПРОСИТ О МИЛОСТИ
В одной из темниц Кастель Нуово, окно которой, забранное тройной решеткой, было обращено к морю, на своих тюфяках лежали одетыми два человека – одному было лет пятьдесят пять – шестьдесят, другому лет двадцать пять – тридцать – и внимательнее обычного прислушивались к неторопливым однообразным напевам неаполитанских рыбаков, в то время как часовой, чьей задачей было помешать побегу узников, но отнюдь не рыбачьему пению, беспечно прохаживался вдоль крепостной стены по узкой полоске земли, не дававшей арагонским башням рухнуть в море.
Надо думать, что не красота мелодии привлекла столь пристальное внимание узников, даже если они были страстными любителями музыки: нет ничего столь далекого от поэзии, а в особенности столь чуждого гармонии, чем те ритмы, которыми неаполитанский народ пользуется для своих бесконечных импровизаций.
Очевидно, для узников представляли интерес не мелодия, а слова песни, потому что после первого же куплета тот, кто был помоложе, вскочил на постель, ухватился за прутья решетки, на руках подтянулся до окна и устремил пылающий взгляд в ночной сумрак, пытаясь разглядеть певца при слабом колеблющемся свете луны.
– Я узнал голос, – сказал молодой узник, вглядываясь и прислушиваясь. – Это Спронио, наш старший банковский клерк.
– Послушай его, Андреа, – с резким немецким акцентом проговорил старший. – Ты лучше меня понимаешь неаполитанский диалект.
– Тише, отец, – отозвался молодой человек. – Вот он останавливает лодку против нашего окна, будто бы для того, чтобы забросить сеть. Наверное, у него есть для нас какая-нибудь добрая весть.
Узники замолчали, а мнимый рыбак снова завел свою песню.
Наш перевод не сможет передать наивной простоты выражений, но, по крайней мере, передаст смысл.
Как и полагал младший из узников, человек, которого он назвал Спронио, принес им новости.
Вот каков был первый куплет песни – в нем содержался призыв к вниманию тех, кому она предназначалась:
Господь послал нам серафима,
Освобожденье наше в нем.
Его копье непобедимо!
Что враг пред ним? Лишь туча дыма.
Увидим, если доживем!
– Это о кардинале Руффо, – сказал молодой человек, до которого дошел слух об экспедиции, но судьба ее была узникам совершенно неизвестна.
– Слушай, Андреа, слушай, – шепнул отец. Песня продолжалась:
Когда ему сдался Кротоне, Над Альтамурой грянул гром, Вперед идет он непреклонно, И сгинет дьявол разъяренный! Увидим, если доживем!
– Слышишь, отец? – сказал молодой человек. – Кардинал взял Кротоне и Альтамуру!
Певец продолжал:
Вчера он вышел из Ночеры, Ночует в Ноле, а потом Во имя короля и веры Восставшим будет мстить без меры! Увидим, если доживем!
– Слышишь, отец, – радостно прошептал молодой человек. – Он в Ноле.
– Да, я понял, – отвечал старик. – Но от Нолы до Неаполя, пожалуй, так же далеко, как от Нолы до Палермо.
Как бы в ответ на выраженное стариком беспокойство, голос пропел:
Чтоб выполнить свои задачи,
К нам двинется он завтра днем.
В три дня он так или иначе
Неаполь все ж принудит к сдаче!
Увидим, если доживем!5656
Перевод Ю. Денисова
[Закрыть]
Едва отзвучал последний куплет, как молодой человек отпустил решетку и спрыгнул на свою постель; в коридоре послышались шаги – все ближе и ближе к двери камеры.
При тусклом свете подвешенной к потолку лампы отец и сын успели только обменяться взглядом. Обыкновенно в такой час к ним в темницу никто не спускался, а, как известно, узников тревожит каждый непривычный звук.
Дверь камеры отворилась, и пленники увидели в коридоре дюжину вооруженных солдат. Властный голос произнес:
– Вставайте, одевайтесь и следуйте за нами.
– Половина дела уже сделана, – весело откликнулся молодой человек, – вам не придется долго ждать.
Старик поднялся молча. Странно: тот, кто прожил дольше, казалось, больше дорожил жизнью.
– Куда вы нас поведете? – спросил он слегка дрогнувшим голосом.
– В суд, – отвечал офицер.
– Гм! Если так, боюсь, как бы он не опоздал, – сказал Андреа.
– Кто? – спросил офицер, подумавший, что это замечание обращено к нему.
– О, – небрежно бросил молодой человек, – некто, кого вы не знаете, мы с отцом говорили о нем перед вашим приходом.
Суд, перед которым должны были предстать оба обвиняемых, сменил собою тот, что карал за преступления против королевского величества; этот новый суд карал за преступления против нации.
Возглавлял его знаменитый адвокат по имени Винченцо Лупо.
Суд состоял из четырех членов и председателя и заседал на сей раз в Кастель Нуово, чтобы не надо было препровождать обвиняемых в Викариа, рискуя вызвать какие-нибудь беспорядки в городе.
Узники поднялись на третий этаж и были введены в зал суда.
Все пять членов суда, общественный обвинитель и секретарь, а также судебные приставы уже сидели на своих местах.
Две скамьи, вернее, два табурета ждали обвиняемых.
Официально назначенные защитники расположились в креслах, поставленных справа и слева от этих табуретов.
То были два лучших столичных правоведа Марио Пага-но и Франческо Конфорти.
Обвиняемые отвесили правоведам самый почтительный поклон. Этим они признавали, что для их защиты избраны подлинные корифеи юстиции, хоть и придерживающиеся прямо противоположных политических убеждений.
– Граждане Симоне и Андреа Беккер! – обратился к обвиняемым председатель. – Вам дается полчаса для совещания с вашими защитниками.
Андреа поклонился.
– Господа, – сказал он, – примите мою благодарность за то, что вы не только предоставили нам с отцом возможность защиты, но и передали эту защиту в умелые руки. Однако я думаю, что дело не потребует выступления третьих лиц. Впрочем, это отнюдь не умаляет моей признательности господам, соблаговолившим обременить себя столь безнадежной задачей. А теперь вот что. В тюрьму за нами пришли в такой час, когда мы этого меньше всего ожидали, так что ни отец, ни я не успели выработать какого бы то ни было плана защиты. Поэтому я прошу вас вместо получаса для совещания с защитниками дать нам пять минут для разговора друг с другом. В столь серьезном деле нам необходимо посоветоваться.
– Хорошо, гражданин Беккер.
Двое защитников удалились; судьи начали переговариваться вполголоса, повернувшись друг к другу; секретарь и приставы вышли.
Отец и сын обменялись несколькими словами и, прежде чем истекли испрошенные пять минут, обратились к суду.
– Господин председатель, – сказал Андреа, – мы готовы.
Председатель зазвонил в колокольчик, призывая всех сесть на свои места, а секретарю и приставам – вернуться в зал.
К обвиняемым приблизились их защитники. Через несколько секунд был установлен прежний порядок.
Прежде чем опуститься на свой табурет, Симоне Беккер сказал:
– Господа, я уроженец Франкфурта и плохо, с трудом говорю по-итальянски. Поэтому я буду молчать; но мой сын родился в Неаполе, и он будет защищать нас обоих; дела наши одинаковы, так что и судить нас надо одновременно. Нас объединяет одно и то же преступление, если считать, что преступно любить своего короля, и поэтому мы не должны быть разделены и в наказании. Говори, Андреа: что бы ты ни сказал, будет хорошо сказано, что бы ты ни сделал, будет хорошо сделано.
И старик сел на свое место.
Тогда поднялся его сын и заговорил с удивительной простотою.
– Моего отца зовут Якоб Симон, а меня – Иоганн Ан-дреас Беккер; ему пятьдесят девять лет, мне двадцать семь; мы живем в доме номер тридцать два по улице Медина; мы банкиры его величества Фердинанда. Я с детства приучен почитать короля и уважать его власть, и теперь, когда эта власть свергнута, а король отбыл, у меня, как и у моего отца, только одно желание – восстановить королевскую власть и вернуть короля. С этой целью мы устроили заговор, то есть мы хотели ниспровегнуть Республику. Мы прекрасно знали, что рискуем головой, но верили, что таков наш долг. На нас донесли, нас арестовали и отправили в тюрьму. Сегодня вечером нас извлекли из темницы и привели сюда, чтобы допросить. Но допрос не нужен. Я сказал правду.
Ошеломленные судьи, председатель, общественный обвинитель, секретарь, судебные приставы и адвокаты молча слушали молодого человека, а старик с неизъяснимой гордостью смотрел на него и кивал, подтверждая каждое его слово.
– Но, несчастный, – произнес Марио Пагано, – вы делаете всякую защиту невозможной.
– Вы оказали бы мне своей защитой большую честь, господин Пагано, но я не хочу, чтобы меня защищали. Если Республике нужны примеры самоотверженности, то королевской власти нужны примеры верности. Сейчас столкнулись два разных принципа – божественное право и право народное; может быть, им предстоит бороться еще целые столетия, надо, чтобы у них были свои герои и свои мученики.
– Однако же не может быть, что вам нечего сказать в свое оправдание, гражданин Беккер, – настаивал Марио.
– Нечего, сударь, совершенно нечего. Я виновен в полном смысле слова, и у меня нет иных оправданий, кроме одного: король Фердинанд всегда был добр к моему отцу, и мы, отец и я, сохраним преданность ему до самой смерти.
– До самой смерти, – повторил старый Симоне Беккер, все так же кивая и жестами одобряя слова сына.
– Значит, гражданин Андреа, – сказал судья, – вы явились сюда не только в уверенности, что будете осуждены, но и желая быть осужденным?
– Я шел к вам, гражданин председатель, как человек, знающий, что, идя к вам, он делает первый шаг к эшафоту.
– Иными словами, вы пришли с убеждением, что душа й совесть наши повелевают нам присудить вас к смерти?
– Если бы наш заговор удался, мы присудили бы к смерти вас.
– Значит, вы собирались перебить патриотов?
– По меньшей мере, пятьдесят из них должны были погибнуть.
– Но вы не одни совершили бы это злодейство?
– Все роялисты Неаполя, а их больше, нежели вы думаете, присоединились бы к нам.
– Разумеется, бесполезно спрашивать у вас имена этих верных слуг королевской власти?
– Вы нашли предателей, которые выдали нас; найдите предателей, которые выдадут всех остальных. А мы принесли в жертву наши жизни.
– Мы это сделали, – подтвердил старик.
– Тогда нам остается только вынести решение, – проговорил председатель.
– Прошу прощения, – вмешался Марио Пагано, – вам еще надобно выслушать меня.
Андреа с удивлением обернулся к знаменитому правоведу.
– Как же вы станете защищать человека, который не желает защиты и требует заслуженной им меры наказания? – спросил председатель.
– Я не стану защищать обвиняемого, я выступлю против меры наказания.
И Пагано с блестящим красноречием начал доказывать, что должна быть разница между кодексом абсолютной монархии и законодательством свободного народа. Он сказал, что пушки и эшафот – это последние доводы тиранов, тогда как высшая справедливость освобожденных народов не в насилии, а в убеждении; рабы грубой силы, говорил он, испытывают вечную вражду к господам, а те, кого убедили разумными доводами, из врагов становятся приверженцами. Он ссылался то на Филанджери, то на Беккариа, двух недавно угасших светочей мысли, употребивших всю мощь своего гения для борьбы против смертной казни, этой варварской и бессмысленной, по их убеждению, меры. Он напомнил, что Робеспьер, вскормленный книгами этих двух итальянских юристов, ученик женевского философа, требовал у Законодательного собрания отмены смертной казни. Взывая к сердцам судей, Пагано торжественно вопросил: разве была бы Французская революция менее великой, стань она не столь кровавой в случае, если бы предложение Робеспьера было принято? Разве не оставил бы Робеспьер по себе более светлую память, уничтожив смертную казнь, вместо того чтобы ее применять? Оратор нарисовал яркую картину четырехмесячного существования Партенопейской республики, чистой и не запятнанной кровопролитием, тогда как реакция шла в наступление против Республики, усеивая свой путь трупами. Стоило ли ждать последнего часа свободы, чтобы обесчестить свой алтарь человеческой жертвой? Наконец, Пагано использовал все примеры, взятые из мировой истории, в которых могли черпать вдохновение могучее слово и широкая образованность, и завершил свою речь братским призывом – раскрыл объятия Андреа Беккеру, прося обменяться с ним поцелуем мира.
Андреа прижал к сердцу адвоката и сказал:
– Сударь, вы неверно меня поняли, если хоть на минуту могли подумать, будто отец мой и я затеяли свой заговор против определенных личностей. Нет, мы выступили за разделяемый нами принцип. Мы верили, что лишь королевская власть, и только она может составить блаженство народов, подобно тому как вы верите, что их счастье в республике; когда-нибудь между этими принципами начнется великая тяжба, и наши души, следя за нею с небес, рассудят, кто прав; и тогда, надеюсь, все мы забудем, что я еврей, а вы христианин, вы республиканец, а я роялист.
Затем он обратился к отцу и, обняв его за плечи, воскликнул:
– Пойдем, отец, не будем мешать этим господам вести обсуждение, – и, шагнув к своей страже, удалился из зала суда, не дав времени Франческо Конфорти что-нибудь добавить к речи его собрата Марио Пагано.
Долго обсуждать было нечего: преступление было налицо, и виновные, как все слышали, не пытались его отрицать.
Через пять минут обвиняемых вызвали в зал суда: их приговорили к смертной казни.
Когда прозвучали роковые слова, на лице старика проступила легкая бледность, но молодой человек улыбнулся судьям и вежливо им поклонился.
– Вы отказались от защиты, – сказал председатель, – и нам как судьям бесполезно спрашивать, не хотите ли вы что-либо добавить в свое оправдание; но как люди, как граждане, как соотечественники, которым было невыносимо тяжело вынести вам такой ужасный приговор, мы спрашиваем: нет ли у вас какого-нибудь последнего желания или поручения?
– Мой отец хочет просить вас о милости, господа, о милости, которую, как мне кажется, вы можете ему оказать, не роняя вашей чести.
– Мы слушаем вас, гражданин Беккер, – сказал председатель суда.
– Сударь, – начал старик, – банкирский дом Беккер и компания существует более полутора веков, он переместился из Франкфурта в Неаполь по своей доброй воле. Начиная с пятого мая тысяча шестьсот пятьдесят второго года, со дня основания банка моим прапрадедом Фридрихом Беккером, у нас никогда не было недоразумений со вкладчиками или задержки платежей; но вот уже два месяца, как мы под арестом и дело ведется без нас.
Председатель суда жестом показал, что он слушает с самым благосклонным вниманием, и правда, не только он, но и другие члены суда во все глаза глядели на старика. Только Андреа, очевидно знавший, о чем хочет просить отец, опустил глаза и рассеянно похлопывал себя тросточкой по ноге.
Старик продолжал:
– Прошу вот о какой милости.
– Слушаем, слушаем, – вставил председатель, которому не терпелось узнать, о чем речь.
– В случае если вы намерены казнить нас завтра, мы с сыном просим отложить казнь на послезавтра и дать нам день, чтобы провести учет и составить баланс. Если мы произведем эту работу сами, то, я уверен, несмотря на пережитые нами трудные времена, несмотря на денежные услуги, оказанные королю, и расходы, связанные с делом защиты его власти, мы сможем оставить банкирскому дому Беккеров, по меньшей мере, четыре миллиона активов, а так как дом этот закроется по независимым от нас причинам, он произведет почетную ликвидацию. Кроме того, вы понимаете, конечно, господин председатель, что в таком заведении, как наше, в банке с оборотом сто миллионов в год, как бы мы ни доверяли нашим служащим, всегда имеются некоторые секреты, известные только хозяевам. Например, у нас есть более чем на пятьсот тысяч франков анонимных вкладов, доверенных нашей чести и не внесенных в наши регистры: их владельцы не имеют даже расписок. Вы понимаете, какому риску подвергнется наша репутация, если вы откажетесь исполнить нашу просьбу; вот почему, господин председатель, я надеюсь, что вы соблаговолите завтра под надежной охраной препроводить нас в банк, предоставите нам целый день для ликвидации дел и велите расстрелять нас послезавтра.
Старик произнес эту речь с такой простотой и величием, что не только председатель почувствовал волнение, но и весь трибунал был глубоко растроган. Конфорти схватил его руку и пожал ее в порыве, оказавшемся сильнее всех политических разногласий, а Марио Пагано смахнул слезу.
Председатель увидел, что нет надобности совещаться с судом; переглянувшись с присутствующими, он с поклоном ответил старику:
– Будет так, как вы желаете, гражданин Беккер. Мы сожалеем, что не можем сделать для вас большего.
– И не надо! – отозвался Симоне. – Ведь мы ничего больше у вас и не просим.
И, поклонившись трибуналу, словно кружку друзей, которых покидает, старик взял под руку сына, занял место между солдатами и направился вниз по лестнице к своей камере.
Песнь мнимого рыбака умолкла. Андреа Беккер поднялся на цыпочках к окну.
Море было не только тихим, но и пустынным.
CXLII. ЛИКВИДАЦИЯ
На другой день в семь часов утра в камеру к осужденным вошел тюремный привратник. Молодой человек еще спал, но старик сидел с карандашом в руке и, держа на коленях бумагу, покрывал ее какими-то цифрами.
Стража уже ожидала узников, чтобы отвести их на улицу Медина.
Старик бросил взгляд на спящего.
– Вставай, Андреа, пора, – сказал он. – Ты всегда был лентяем, сынок, пора бы тебе исправиться!
– Да, – отозвался Андреа, открывая глаза и кивком приветствуя отца. – Только боюсь, что Господь не даст мне для этого времени.
– Когда ты был маленький, – грустно продолжал старик, – твоя мать, бывало, разбудит тебя, окликнет раза два-три, а ты все не можешь решиться вылезти из постели. Приходилось иногда мне самому силой поднимать тебя по утрам.
– Обещаю вам, отец, – сказал молодой человек, вставая со своего ложа и начиная одеваться, – что если я проснусь послезавтра, то встану в одну минуту.
Старик тоже поднялся на ноги и произнес со вздохом:
– Бедная твоя мать! Правильно она сделала, что умерла! Андреа, не ответив, подошел к отцу и нежно обнял его. Старый Симоне взглянул на сына.
– Такой молодой!.. – прошептал он. – Ну что же поделаешь…
Через десять минут оба узника были одеты. Андреа постучал в дверь камеры; вошел тюремщик.
– А, вы уж готовы? – сказал он. – Пойдемте, стража ждет.
Симоне и Андреа Беккеры вышли из камеры, их окружило человек двенадцать охраны, которым велено было препроводить их в принадлежащий семье Беккеров банкирский дом, расположенный, как уже говорилось, на улице Медина.
От ворот Кастель Нуово туда было рукой подать; лишь несколько любопытных взглядов остановилось на арестованных, и через минуту отец и сын были уже на месте.
Только что пробило восемь часов утра, двери банка были еще на запоре, служащие обыкновенно появлялись не раньше девяти.
Командовавший эскортом сержант позвонил. Дверь отворил лакей старшего Беккера. Завидев хозяина, он вскрикнул и едва не бросился ему на шею. То был старый слуга, немец, подростком последовавший за банкиром в Неаполь из Франкфурта.
– Ах, дорогой мой господин, вы ли это? Я все свои старые глаза проплакал, пока вас не было, неужели им выпало счастье увидеть вас снова?
– Да, славный мой Фриц, да, это я. Все ли у нас в порядке?
– А почему бы без вас не быть такому же порядку, как и при вас? Слава Богу, каждый знает свои обязанности. Ровно в девять все служащие на местах и работают на совесть. Только одному мне, к сожалению, нечего делать, да и то я каждое утро чищу щеткой ваше платье, дважды в неделю пересчитываю белье, каждое воскресенье завожу стенные часы и, как могу, успокаиваю вашего пса Цезаря: с самого вашего отъезда он почти не ест и все время воет.
– Войдем в дом, отец, – сказал Андреа. – Эти господа проявляют нетерпение, да и народ вокруг собирается.
– Войдем, – откликнулся старый Беккер.
У дверей поставили часового, двух других поместили в прихожей, а остальных – в коридоре. Впрочем, как принято в подобного рода домах, окна первого этажа были зарешечены, так что, вернувшись к себе, узники словно бы сменили одну тюрьму на другую.
Андреа Беккер направился к кассе и, поскольку кассир еще не пришел, отпер дверь своим дубликатом ключа, а Симоне Беккер занял обычное место в своем кабинете, пустовавшем со дня его ареста.
У обеих дверей поставили часовых.
Опускаясь в кресло, в котором он просидел целых тридцать пять лет, старый Беккер вздохнул с удовлетворением.
Потом он сказал:
– Фриц, открой створку внутреннего оконца.
Слуга повиновался и отворил ставень в оконце, проделанном в стене между кабинетом и кассой; через это оконце отец и сын могли, не сходя с места, разговаривать между собой и даже видеть друг друга.
Не успел старый Беккер устроиться в кресле поудобнее, как к нему бросилась, влача за собой оборванную цепь, крупная испанская ищейка и с радостным лаем прыгнула к нему на грудь, как будто собиралась его задушить.
Бедное животное почуяло хозяина и, как и Фриц, явилось приветствовать его.
Банкиры начали просматривать корреспонденцию. Все деловые письма были распечатаны главным клерком; все письма с пометкой «лично» отложены в сторону.
Только теперь Беккеры увидели эти письма, поскольку всякое общение с узниками в тюрьме было запрещено.
Большие стенные часы времен Людовика XIV, украшавшие кабинет старшего банкира, пробили девять, и сейчас же, с обычной точностью, появился кассир.
Как и лакей, это был немец; он носил фамилию Клагман.
Не поняв, почему у входных дверей стоит часовой, а в коридоре толпятся солдаты, он начал было их расспрашивать, но те не отвечали, повинуясь полученным указаниям.
Но, поскольку им велено было пропускать в дом и выпускать из дома всех служащих банка, Клагман беспрепятственно проник в кассу.
Каково же было его удивление, когда он застал на обычном месте, в кресле, молодого хозяина и через оконце в перегородке увидел старого Беккера в его кабинете!
Если не считать часовых у дверей, в передней и в коридорах, ничего не изменилось.
Андреа сердечно отвечал на радостные приветствия кассира, сохраняя, впрочем, дистанцию, подобающую в отношениях между хозяином и служащим, а тот поспешил горячо приветствовать старого Симоне.
– Где главный счетовод? – спросил у Клагмана Андреа.
Кассир вытащил из кармана часы.
– Сейчас девять часов пять минут, сударь. Держу пари, что господин Шперлинг в эту минуту поворачивает с улицы Святого Варфоломея. Ваша честь знает, что он всегда приходит между пятью и семью минутами десятого.
И верно, не успел кассир произнести эти слова, как в прихожей послышался голос главного счетовода, тоже пытавшегося выяснить у солдат, что случилось.
– Шперлинг! Шперлинг! – крикнул Андреа, призывая вновь прибывшего. – Идите сюда, друг мой, нам нельзя терять время.
Шперлинг вошел в комнату кассы: голос раздавался оттуда.
– Идите к моему отцу, дорогой Шперлинг, – сказал Андреа.
Все более удивляясь, но не смея задавать вопросы, Шперлинг прошел в кабинет главы банкирского дома. В помещении кассы Клагман стоя ждал распоряжений.
– Дорогой Шперлинг, – обратился Симоне Беккер к главному счетоводу, – я думаю, нет необходимости спрашивать, в порядке ли наши бумаги?
– Они в порядке, дорогой хозяин, – отвечал Шперлинг.
– Значит, вы можете сообщить мне, каково положение дел в нашем банке?
– Вчера в четыре часа я подвел итоги.
– И каковы же они?
– Свободный остаток средств в один миллион сто семьдесят пять тысяч дукатов.
– Слышишь, Андреа? – повернулся Симоне к сыну.
– Слышу, отец: миллион сто семьдесят пять тысяч дукатов. Согласуется ли эта цифра с наличностью в кассе, Клагман?
– Да, господин Андреа, мы вчера проверяли.
– И сегодня проверим снова, если ты не возражаешь, дружок.
– Сию минуту, сударь.
И пока Шперлинг в ожидании проверки кассы тихо переговаривался с Симоне Беккером, Клагман отпер железный шкаф с тройным замком со сложными шифрами и номерами и вытащил портфель, тоже запиравшийся на ключ.
Клагман открыл портфель и положил его перед молодым банкиром.
– Какая сумма содержится в портфеле? – спросил Андреа.
– Шестьсот тридцать пять тысяч четыреста двенадцать дукатов в векселях на Лондон, Вену и Франкфурт.
Андреа проверил и нашел счет правильным.
– Отец, – сказал он, – у меня имеются шестьсот тридцать пять тысяч четыреста двенадцать дукатов в векселях.
Затем он обратился к Клагману:
– А сколько в кассе?
– Четыреста двадцать пять тысяч шестьсот четыре дуката, господин Андреа.
– Слышишь, отец?
– Отлично слышу, сынок. Но у меня перед глазами общий баланс. Вклады кредиторов составляют один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот двенадцать дукатов, а задолженность дебиторов достигает одного миллиона шестисот пятидесяти тысяч дукатов и вместе с вкладами в другие банки, составляющими один миллион шестьдесят пять тысяч восемьдесят семь дукатов, дает нам актив в два миллиона семьсот пятнадцать тысяч восемьдесят семь дукатов. А теперь погляди, каков наш дебет. Пока вы с Клагманом проверяете, я тоже буду проверять вместе со Шперлингом.
Но тут часы начали отбивать одиннадцать ударов; дверь кабинета отворилась, на пороге показался Фриц и с привычной точностью объявил, что господам кушать подано.
– Ты голоден, Андреа? – спросил старый Беккер.
– Не очень, – отвечал тот, – но ведь все равно рано или поздно придется поесть. Поедим сейчас.
Он встал с кресла, встретился в коридоре с отцом, и оба, в сопровождении двух часовых, направились в столовую.
Между девятью и девятью с четвертью все служащие, кроме Спронио, явились в банк.
Они не осмелились войти в помещение кассы или в кабинет, чтобы засвидетельствовать почтение узникам, но ждали их, стоя в дверях своих комнат либо возле столовой.
Уже стало известно, на каких условиях Беккеров отпустили в банк, и на всех лицах была печаль. Двое-трое старых служащих отвернулись, чтобы скрыть слезы.
Задержавшись на минуту перед толпой подчиненных, отец и сын вошли в столовую.
Часовые остались стоять у дверей, но внутри столовой – им было приказано не спускать глаз с арестованных.
Стол был накрыт как обычно; Фриц стоял за стулом старого Симоне.
– Когда мы покончим со счетами, надо не позабыть обо всех старых слугах, – заметил Симоне.
– Не беспокойся, отец, – сказал Андреа. – По счастью, мы достаточно богаты, чтобы не экономить на них, выражая свою благодарность.
Завтрак был недолгим и прошел в молчании. Под конец, по старому немецкому обычаю, Андреа захотел поднять бокал за здоровье отца.
– Фриц, – обратился он к слуге, – спустись в погреб и принеси полбутылку императорского токая тысяча семьсот восемьдесят второго года, то есть самого старого и самого лучшего. Я хочу провозгласить здравицу.
Симоне взглянул на сына.
Фриц повиновался, не ожидая дальнейших объяснений, и вскоре вернулся с полбутылкой заказанного вина.
Андреа налил отцу и себе, потом потребовал еще один стакан и, наполнив его, подал Фрицу.
– Друг, – сказал он, – ведь ты живешь в нашем доме тридцать с лишним лет, значит, ты не слуга, а друг, – выпей с нами бокал королевского вина за здоровье твоего старого хозяина. Пусть, вопреки суду человеческому, Господь Бог дарует ему, за счет моих дней, долгие годы жизни в почете и уважении.
– Что ты говоришь, что ты делаешь, сын мой?! – вскричал старик.
– Исполняю свой сыновний долг, – с улыбкой отвечал Андреа. – Ведь услышал же Бог голос Авраама, молящего за Исаака, быть может, услышит он и голос Исаака, молящего за Авраама.
Дрожащей рукой Симоне поднял бокал, поднес к губам и опорожнил в три глотка.
Андреа твердой рукой взял свой и залпом выпил.
Фриц несколько раз пытался проглотить свое вино, но не мог – в горле у него стоял ком.
Андреа вылил остатки вина из бутылки в свой и отцовский бокалы и подал их часовым:
– И вы тоже выпейте, как сделал я, за здоровье того, кто вам всех дороже.
Солдаты выпили, пробормотав здравицу.
– Пойдем, Андреа, за дело, мой друг, – сказал старик. Затем он обратился к Фрицу:
– Наведи справки относительно Спронио, боюсь, не случилось ли с ним беды.
Арестованные вернулись в контору, и работа продолжалась.
– Мы выяснили, каков наш кредит, не так ли, отец? – спросил Андреа.
– Да, кредит достигает двух миллионов семисот пятнадцати тысяч восьмидесяти семи дукатов, – отвечал старик.
– Ну так вот, – продолжал Андреа, – наш дебет – это один миллион сто двадцать пять тысяч четыреста двенадцать дукатов различных долгов в Лондоне, Вене и Франкфурте.
– Хорошо, записываю.
– Двести семьдесят пять тысяч дукатов – супруге кавалера Сан Феличе. Когда молодой человек произнес это имя, сердце его больно сжалось. Услышав, как дрогнул голос сына, отец вздохнул.
– Записано, – откликнулся он.
– Двадцать семь тысяч дукатов его величеству Фердинанду, храни его Господь, остаток по переводным векселям займа Нельсона.
– Записано.
– Двадцать восемь тысяч двести дукатов без имени.
– Я знаю, кто это. Когда князь ди Тарсиа подвергся преследованиям со стороны фискального прокурора Ванни, он положил ко мне на хранение эту сумму. Он скоропостижно скончался и не успел сказать об этом взносе своей семье. Напиши записку его сыну, а Клагман сегодня же отнесет ему двадцать восемь тысяч двести дукатов.
На минуту воцарилось молчание, Андреа исполнял распоряжение отца.
Написав письмо, он передал его Клагману со словами:
– Отнеси это письмо князю ди Тарсиа, скажи ему, что он может в любое время обратиться в кассу, деньги будут ему выплачены по предъявлении письма.
– Еще что? – спросил Симоне.
– Это все, что мы должны, отец. Можете вывести общую сумму.
Симоне подсчитал. Оказалось, что банкирский дом Беккеров имеет задолженность в 1 455 612 дукатов, то есть 4 922 548 франков во французских деньгах.
На лице старика выразилось явное удовлетворение. После ареста банкира среди кредиторов началась паника, каждый спешил потребовать возврата своего вклада. Менее чем за два месяца было предъявлено счетов на тринадцать с лишним миллионов.
Но то, что сокрушило бы любой другой банкирский дом, не поколебало положения дома Беккеров.
– Дорогой Шперлинг, – обратился Симоне к главному счетоводу, – чтобы покрыть счета кредиторов, немедленно приготовьте переводные векселя на дебиторов нашего банка на такую же сумму. Эти переводные векселя вы передадите Андреа, а он их подпишет, поскольку имеет право подписи.
Главный счетовод вышел, чтобы исполнить приказ.
– Должен ли я отнести письмо князю ди Тарсиа немедленно? – спросил Клагман.
– Да, идите и возвращайтесь как можно скорее. А по дороге постарайтесь разузнать что-нибудь о Спронио.
Отец и сын остались одни: отец в своем кабинете, сын в кассе.
– Я думаю, отец, – сказал Андреа, – что хорошо было бы заготовить циркуляр, оповещающий о ликвидации нашего банка.
– Я как раз собирался сказать тебе это, мой мальчик. Набросай циркуляр. С него снимут столько копий, сколько потребуется, а еще лучше, его напечатают, так что тебе придется поставить свою подпись только один раз.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































