Текст книги "Сан-Феличе. Книга вторая"
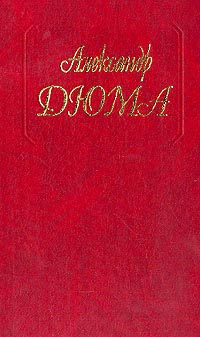
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 72 страниц)
– Живее, кум, живее! – сказал Бассо Томео. – Похоже, дело не терпит.
И он замурлыкал себе под нос тарантеллу, начинающуюся словами:
У пульчинеллы есть трое поросят…
– Я мигом! – вскричал маэстро Донато, выскакивая из-за стола и рысью устремляясь к двери. – Правду вы сказали, ваша честь, синьор Гвидобальди не из тех, кто станет ждать.
И, даже не надев шляпы, маэстро Донато поспешно зашагал вслед за судебным приставом.
От улицы Вздохов-из-Бездны до Викариа идти недалеко.
Викариа – это старинный Капуанский замок. В пору неаполитанской революции он играл ту же роль, что Кон-сьержери во время французской: между судом и казнью служил последним приютом для обвиняемых.
Здесь осужденных помещали, если воспользоваться неаполитанским выражением, в часовню.
Эта часовня была просто отделением тюрьмы, и им не пользовались со времен Эммануэля Де Део, Гальяни и Ви-тальяни; семь же патриотов, казненных с 6 июля по 3 августа, были помещены в монастырь, или скорее форт дель Кармине, куда их заточили.
Фискальный прокурор Гвидобальди отправился туда, осмотрел помещение и велел привести его в порядок.
Надо было укрепить замки, запоры и ввинченные в пол « кольца, убедиться, что все достаточно прочно и надежно.
Потом прокурор решил разом покончить с двумя делами и послал за палачом.
Во время нашего пребывания в Неаполе мы с каким-то благоговейным чувством посетили эту часовню, где все осталось в прежнем виде, только была убрана картина, висевшая над большим алтарем.
Часовня сооружена посредине тюрьмы. Чтобы попасть туда, надо пройти через три или четыре зарешеченные двери.
Собственно в часовню, то есть в помещение, где стоит алтарь, поднимаешься по двум ступеням.
Свет туда проникает через низкое окно, пробитое на уровне пола и забранное двойной решеткой.
Из этой комнаты по четырем-пяти ступенькам спускаешься в другую.
Именно здесь осужденные проводили последние сутки своей жизни.
Ввинченные в пол большие железные кольца указывают места, где лежали на тюфяках узники в последнюю бессонную ночь. К кольцам были прикованы их цепи.
На одной стене с тех времен и по сей день сохранилась большая фреска, изображающая распятого Иисуса Христа и коленопреклоненную у его ног Марию.
Позади этой камеры расположена сообщающаяся с нею маленькая комната с особым входом.
В эту комнату, через этот особый вход, впускали белых кающихся, которые брали на себя заботу сопровождать осужденных, ободрять и поддерживать их в смертный час.
В этом братстве, члены которого называются bianchi, состоят духовные и светские лица. Духовники выслушивают исповеди, дают отпущение грехов и причастие – словом, делают все, кроме соборования.
Ведь соборование предназначено для больных, а осужденные на казнь не больны, им суждено погибнуть от несчастного случая, так что соборование, которое есть не что иное, как освящение агонии, им не положено.
Войдя в эту комнату, где они облачаются в длинное белое одеяние, снискавшее им прозвище bianchi, кающиеся уже более не расстаются с осужденным до тех пор, пока тело его не будет опущено в могилу.
Они держатся возле несчастного весь промежуток времени, отделяющий тюрьму от эшафота. На эшафоте они кладут руку ему на плечо – жест, означающий, что он может излить им свою душу, и палач не имеет права прикоснуться к смертнику до тех пор, пока bianchi не уберет руку и не произнесет: «Этот человек принадлежит тебе».
Вот к этому-то последнему этапу на скорбном пути приговоренных к смерти и привел пристав маэстро Донато.
Палач вошел в Викариа, поднялся по лестнице слева, ведущей в тюрьму, миновал длинный коридор с камерами по обеим сторонам, отворил одну за другой две решетчатые двери, взошел по еще одной лестнице, толкнул еще одну решетку и оказался у дверей часовни.
Он ступил на порог. Первая комната, та, где стоял алтарь, была пуста. Палач вошел во вторую и увидел фискального прокурора Гвидобальди, под наблюдением которого укрепляли дверь в комнату bianchi, навешивали на нее два засова и три замка.
Маэстро Донато остановился на нижней ступеньке, почтительно ожидая, пока фискальный прокурор соблаговолит заметить его и заговорить с ним.
Через минуту фискальный прокурор оглянулся, обнаружил того, за кем посылал, и произнес:
– А, это вы, маэстро Донато!
– К услугам вашего превосходительства, – отвечал палач.
– Знаете ли вы, что нам придется произвести немало казней?
– Знаю, – подтвердил маэстро Донато с гримасой, которая должна была сойти за улыбку.
– Вот я и желал бы заранее договориться с вами об оплате.
– Да это очень просто, ваша честь, – развязно отвечал маэстро Донато. – Я получаю шестьсот дукатов жалованья, а сверх того по десять дукатов наградных за каждую казнь.
– Очень просто! Черт побери, какой вы прыткий. А по-моему, это совсем не просто.
– Почему? – спросил маэстро Донато, начиная беспокоиться.
– Потому что, если у нас будет, положим, четыре тысячи казней по десять дукатов за каждую, это составит сорок тысяч дукатов, не считая вашего жалованья, то есть вдвое больше, чем получает весь трибунал, считая от председателя до последнего писца.
– Это верно, – возразил маэстро Донато, – но я один делаю такую же работу, как и они все вместе, и мой труд тяжелее: они приговаривают, а исполняю-то приговоры я!
Фискальный прокурор, проверявший в это время прочность вделанного в пол кольца, выпрямился, поднял на лоб очки и посмотрел на маэстро Донато.
– О-о! Вот вы как рассуждаете, маэстро Донато. Но между вами и судьями есть некоторая разница: судьи несменяемы, а вас можно и сместить.
– Меня? А с какой стати меня смещать? Разве я когда-либо отказывался исполнять свои обязанности?
– Говорят, вы не очень-то рьяно служили правому делу.
– Это я-то? Да ведь мне пришлось сидеть сложа руки все то время, пока держалась их треклятая республика!
– Потому что у нее не хватило ума заставить вас пошевелить руками. Так или иначе, зарубите себе на носу: на вас поступило двадцать четыре доноса и больше дюжины требований сместить вас.
– Ох, пресвятая Мадонна дель Кармине, что вы такое говорите, ваше превосходительство?
– Так что никаких прибавок и наградных, работать только за постоянное жалованье.
– Но подумайте, ваша честь, какая мне предстоит тяжелая работа!
– Это возместит то время, что ты пробездельничал.
– Ваша честь, неужели вы хотите разорить бедного отца семейства?
– Разорить тебя? Зачем мне тебя разорять? Какая мне в этом корысть? И потом, сдается мне, рано говорить о разорении человеку, получающему восемьсот дукатов жалованья.
– Во-первых, – живо подхватил маэстро Донато, – я получаю только шестьсот.
– Ввиду сложившихся обстоятельств джунта милостиво добавляет к твоему жалованью две сотни дукатов.
– Ах, господин фискальный прокурор, ведь вы и сами понимаете, что это неразумно.
– Не знаю, разумно ли это, – сказал Гвидобальди, которого начала утомлять эта дискуссия, – но только знаю, что надо либо соглашаться, либо отказываться.
– Но подумайте, ваше превосходительство…
– Ты отказываешься?
– Да нет же, нет! – закричал маэстро Донато. – Только я хотел заметить вашей милости, что у меня есть дочка на выданье, а нам, палачам, трудненько сбывать с рук такой товар, и я рассчитывал на возвращение возлюбленного нашего короля, чтобы собрать приданое моей бедняжке Марине.
– А хорошенькая у тебя дочь?
– Самая пригожая девушка во всем Неаполе.
– Ладно, джунта пойдет на жертву: получишь по одному дукату за каждую казнь на приданое твоей дочери. Только пусть она сама приходит за ними.
– Куда?
– Ко мне домой.
– Это будет великая честь для нас, ваша милость, но все равно!
– Что все равно?
– Я разорен, вот что!
И, испуская столь тяжкие вздохи, что они растрогали бы любого другого человека, но не фискального прокурора, маэстро Донато вышел из Викариа и побрел домой, где его поджидали Бассо Томео и Марина, – первый с нетерпением, вторая с некоторой тревогой.
То, что было дурной вестью для маэстро Донато, оказалось доброй вестью для Марины и Бассо Томео, – как почти все вести в этом мире, в соответствии с философским законом возмещения, она несла горе одному и радость другим.
Но, чтобы усыпить супружескую подозрительность Джованни, от него скрыли тот пункт договоренности между отцом Марины и фискальным прокурором, по которому девушка должна была лично приходить к нему за денежным вознаграждением палача 7575
Поскольку эту историю с уменьшением наградных палачу могут счесть нашим вымыслом, процитируем слова того же историка Куоко «Первой заботой Гвидобальди было договориться с палачом Ввиду внушительного количества тех, кого он собирался обезглавить, жалованье в десять дукатов за казнь, которое требовал палач в силу давно существовавшего соглашения, казалось ему чрезмерным Он рассудил, что если предложить палачу помесячное жалованье вместо отдельных выплат, то это приведет к значительной экономии, ибо он подсчитал, что палачу придется работать каждый день в течение, по меньшей мере, десяти или двенадцати месяцев» (Примеч автора)
[Закрыть].
CLXXVIII. КАЗНИ
Король покинул Неаполь, вернее, воды у мыса Позилли-по, – ибо, как уже упоминалось, за все двадцать восемь дней, что он провел на борту «Громоносного» в заливе, Фердинанд ни разу не решился высадиться на берег, – король, повторяем, покинул воды у мыса Позиллипо 6 августа около полудня.
Как видно из приведенного ниже письма, адресованного кардиналу, плавание прошло благополучно, и ни один труп больше не вставал из бездны перед его фрегатом, подобно трупу Караччоло.
Вот письмо короля:
«Палермо, 6 августа 1799 года.
Мой преосвященнейший!
Хочу безотлагательно сообщить Вам о моем благополучном прибытии в Палермо после весьма удачного путешествия, ибо во вторник в одиннадцать часов мы еще были у мыса Позиллипо, а сегодня в два часа пополудни бросили якорь в порту Палермо, при том, что дул самый приятный бриз, а море было гладкое, как озеро. Все семейство свое я нашел в совершенном здравии, и вообразите же, сколь радостно меня встретили. Пришлите и Вы мне добрую весть о наших делах. Берегите себя и верьте в постоянную мою благосклонност ь.
Фердинанд Б.»
Однако же король не пожелал уехать, не увидев действий джунты и палача. В день отплытия, 6 августа, казни уже шли полным ходом, и первые семь жертв уже были возложены на алтарь мести.
Приведем имена этих первых семи мучеников и укажем, где они были казнены.
У Капуанских ворот:
6 июля – Доменико Перла,
7 июля – Антонио Трамалья,
8 июля – Джузеппе Котитта,
13 июля – Микеланджело Чикконе,
14 июля – Никколб Карломаньо.
На Старом рынке:
20 июля – Андреа Витальяни.
В замке дель Кармине: 3 августа – Гаэтано Руссо.
Имени Доменико Перла я не нашел нигде, кроме списка казненных. Тщетно пытался я выяснить, кто он был и какое совершил преступление. Его имя – последняя неблагодарность судьбы! – даже не вписано в книгу Атто Вануч-чи «Мученики итальянской свободы».
О втором, Трамалье, мы нашли только простое упоминание: «Антонио Трамалья, чиновник».
Третий, Джузеппе Котитта, был бедным трактирщиком, чье заведение расположилось у театра Фьорентини.
Четвертый, Микеланджело Чикконе, – наш старый знакомый: читатель помнит священника-патриота, за которым послал Доменико Чирилло, чтобы тот принял исповедь сбира. Как мы, кажется, уже говорили, он прославился своими свободолюбивыми проповедями вне стен церкви. Он велел устанавливать церковные кафедры под всеми деревьями Свободы, и с распятием в руке, от имени первого мученика, отдавшего жизнь за свободу, как в свой же час суждено было и ему самому, рассказывал толпе о мрачных ужасах деспотизма и блистательных триумфах свободы, упирая в особенности на то обстоятельство, что Христос и апостолы всегда стояли за свободу и равенство.
Пятый, Никколб Карломаньо, был комиссаром Республики. Когда его ввели на эшафот и стали готовить петлю, чтобы повесить, он бросил последний взгляд на плотную толпу, веселящуюся вокруг помоста, и громко крикнул:
– Глупый народ! Сегодня ты развлекаешься зрелищем моей смерти, но придет день, когда ты заплачешь горькими слезами, ибо кровь моя падет на все ваши головы, а если, на ваше счастье, вы уже будете мертвы, то на головы ваших детей!
Андреа Витальяни, шестой, был красивый и обаятельный молодой человек двадцати восьми лет от роду (не надо смешивать его с другим мучеником, погибшим на том же эшафоте, что Эммануэле Де Део и Гальяни, четырьмя годами ранее).
Когда его выводили из камеры, он сказал тюремщику, передавая ему немного денег, оказавшихся при нем: «Поручаю тебе моих товарищей, ведь ты тоже человек и, может быть, когда-нибудь станешь так же несчастен, как они».
И он с ясным лицом пошел на казнь, с улыбкой взошел на эшафот и умер, не переставая улыбаться.
Седьмой, Гаэтано Руссо, был офицером; его казнили во внутреннем дворе форта дель Кармине, и никакие подробности его смерти не известны.
Только в одной библиотеке можно было бы найти любопытные подробности о безвестных смертниках – в архивах братства bianchi, как было сказано, сопровождавших осужденных на эшафот; но это братство, беззаветно преданное низложенной династии, отказалось предоставить нам какие бы то ни было сведения.
После того как пали эти первые головы и закачались на виселицах первые тела, казни в Неаполе на цетах одиннадцать дней были приостановлены. Может быть, ждали новостей из Франции.
Дела французов в Италии были вовсе не безнадежны. Вследствие переворота 28 прериаля Шампионне, как уже говорилось, вновь был поставлен во главе Альпийской армии и добился блестящих успехов. Так что имя этого французского генерала сделалось жупелом для Неаполя: Шампионне в свое время так быстро продвинулся от Чивита Кастеллана до Капуа, что возникло опасение, как бы ему не потребовалось всего лишь вдвое больше времени для перехода из Турина в Неаполь.
Стали даже называть имя Бонапарта.
Сама королева в одном из писем, которое мы, кажется, уже приводили, говорила по поводу угрожавшего Сицилии французского флота, что флот этот, по всей вероятности, направляется в Египет за Бонапартом. Королева была права. Не только Директория намеревалась вернуть Бонапарта, но и брат его Жозеф письменно уведомлял его о положении французских армий в Италии и торопил с возвращением во Францию.
Письмо было передано Бонапарту во время осады Сен-Жан-д'Акра неким греком по имени Барбаки, которому обещали тридцать тысяч франков, если он вручит послание адресату в собственные руки. Таким образом, Бонапарт получил письмо брата, подавшее ему первую мысль о возвращении, в мае 1799 года, в то самое время, когда начался реакционный поход кардинала.
Все эти обстоятельства, вместе взятые, а также усиление власти кардинала в отсутствие короля приостановили шествие смерти. Для Руффо тяжелее всего было допустить казнь тех людей, которым, как он знал, по условиям капитуляции была гарантирована жизнь; в их числе оказался отважнейший из отважных, тот самый военачальник, что на наших глазах взбирался на стены города, который был ленным владением его семьи, с лестницей на плече, саблей в зубах и знаменем независимости в руке, – словом, Этто-ре Карафа, получивший в свое время собственноручное письмо кардинала с предложением сдаться.
Но во время краткой передышки, наступившей для заключенных и палачей, Руффо получил от короля послание, которое мы приводим во всем его простодушии:
«Палермо, 10 августа 1799 года.
Мой преосвященнейший!
Я получил Ваше письмо, чрезвычайно меня обрадовавшее, с сообщением о том, что в Неаполе царит мир и спокойствие. Я одобряю то, что Вы не позволили Фра Дьяволо войти в Гаэту, как он того желал; но хоть я и согласен с Вами, что он не более чем главарь разбойничьей шайки, все же не могу не признать, что мы многим ему обязаны. Так что в дальнейшем надо использовать его и стараться не обижать. Но в то же время следует его убедить, что он должен и сам сдерживаться, и людям своим не позволять своевольничать, если хочет иметь цену в моих глазах.
Теперь о другом деле.
Когда Пронио взял Пескару, он прислал ко мне адъютанта с известием, что в руках у него, под надежной охраной, находится пресловутый граф ди Руво, коему он обещал сохранить жизнь, не имея на то никакого права. Я немедленно отправил ему через того же адъютанта повеление препроводить вышеуказанного Руво в Неаполь, за что он отвечает своей головой. Дайте мне знать, выполнил ли Пронио мой приказ.
Пребывайте в добром здравии и верьте в неизменную мою благосклонность.
Фердинанд Б.»
Разве не любопытно, разве не заслуживает обнародования королевское послание, где в одном абзаце велено вознаградить разбойника, а в другом покарать великого гражданина!
Но еще любопытнее следующая приписка к этому письму:
«Вернувшись к себе, я застал много писем из Неаполя, привезенных двумя кораблями, оттуда прибывшими. Из этих писем я узнал, что на Старом рынке начался ропот, потому что больше не устраивают казней; однако ни от Вас, ни от правительства я не получил по сему пункту никаких сведений, хотя Вы и обязаны извещать меня обо всем.
Государственная джунта не должна в своих действиях допускать каких-либо колебаний, не должна посылать мне туманных общих донесений. Все донесения следует проверять в течение двадцати четырех часов, главный удар направить на главарей и вешать их без всяких церемоний. Мне обещали возобновить отправление правосудия в понедельник; надеюсь, что это не отложено на другой какой-нибудь день. Если я увижу, что Вы колеблетесь, – будете изжарены!»
«Siete fritti» – буквально так и сказано, и невозможно перевести это иначе.
Как вам нравится это «будете изжарены»?! Звучит не очень-то по-королевски, зато выразительно!
После подобного указания нельзя было мешкать долее. Королевские письма, полученные вечером 10 августа, были немедленно переданы Государственной джунте.
Поскольку король особо упомянул Этторе Карафу, решено было начать с него и его компании, то есть его товарищей по заключению.
Вследствие этого на другой день, 11 августа, во время полдневного посещения тюремщиков во главе со швейцарцем Дюэсом, узникам Викариа велено было сложить в угол их тюфяки.
– О-о! – обратился Карафа к Мантонне. – Кажется, это будет сегодня вечером.
Сальвато обнял Луизу и поцеловал ее в лоб. Молодая женщина молча уронила голову на плечо возлюбленного.
– Бедняжка, – прошептала Элеонора, – смерть будет такой тяжкой для нее она любит!
Луиза протянула ей руку.
– Ну что ж, – сказал Чирилло, – мы узнаем наконец великую тайну, о которой спорят от времен Сократа до наших дней, есть ли у человека душа.
– А почему бы ей и не быть? – отозвался Веласко. – Ведь есть же душа у моей гитары.
И он извлек из своего инструмента несколько меланхолических аккордов.
– Да, у нее появляется душа, когда ты к ней прикасаешься, – сказал Мантонне. – Ее жизнь – это твоя рука; убери руку – и гитара умрет, душа ее отлетит.
– Несчастный, он не верует! – сказала Элеонора Пи-ментель, поднимая к небу свои большие испанские глаза. – А я верую.
– Но вы поэтесса, – возразил Чирилло, – я же врач. Сальвато увлек Луизу в угол темницы, опустился на камень, а ее посадил к себе на колени.
– Послушай, любимая, – сказал он. – Поговорим наконец серьезно о грозящей нам опасности. Сегодня вечером нас отведут в трибунал, ночью нас осудят, завтра мы проведем весь день в часовне, а послезавтра нас казнят.
Сальвато почувствовал, как тело Луизы задрожало в его объятиях.
– Мы умрем вместе, – сказала она, вздохнув.
– Милая моя, бедняжка моя! Так говорит твоя любовь, но натура твоя безмолвно восстает при мысли о смерти.
– Друг мой, вместо того чтобы ободрить меня, ты внушаешь мне слабость?
– Да, потому что хочу добиться от тебя одного: чтобы ты не умирала.
– Добиться, чтобы я не умирала? Разве это зависит от меня?
– Стоит тебе сказать одно слово, и ты ускользнешь от смерти, по крайней мере, на какое-то время.
– А ты, ты будешь жить?
– Ты ведь помнишь, как я указал тебе на человека в монашеском платье и сказал: «Мой отец! Не все потеряно».
– Помню. И ты надеешься, что он может тебя спасти?
– Чтобы спасти свое дитя, отцы совершают чудеса, а у моего отца могучий ум, мужественное сердце, решительный характер. Не один, а десять раз мой отец поставит на карту свою жизнь ради моего спасения.
– Если он спасет тебя, то спасет и меня вместе с тобою.
– А если нас разлучат? Луиза вскрикнула.
– Ты думаешь, они могут быть столь бесчеловечными, чтобы нас разлучить? – проговорила она.
– Надо предвидеть все, – сказал Сальвато, – даже и такой случай, что мой отец сумеет спасти лишь одного из нас.
– Тогда пусть спасает тебя.
Сальвато слегка пожал плечами и улыбнулся.
– Ты ведь знаешь, что в таком случае я не принял бы его помощи. Но…
– Но что? Говори до конца.
– Но если бы ты осталась в тюрьме и тебе не грозила более смерть, – ставлю сто против одного, что мы с отцом спасли бы и тебя.
– Друг мой, у меня голова раскалывается, я не могу понять, куда ты клонишь. Скажи мне все сразу – все, что ты хочешь сказать, иначе я сойду с ума.
– Успокойся, прижмись к моему сердцу и слушай. Луиза с безмолвным вопросом подняла на него свои огромные глаза.
– Слушаю, – промолвила она.
– Ты беременна, Луиза… Луиза вздрогнула снова.
– О, бедное дитя! – прошептала она. – В чем оно провинилось, чтобы умирать вместе с нами?
– Так вот, оно не должно умирать, оно должно жить и, живя, спасти свою мать.
– А что для этого надо сделать? Я не понимаю, Сальвато.
– Беременная женщина запретна для смерти, закон не может поразить мать до тех пор, пока вместе с нею может убить и ребенка.
– Что ты говоришь?
– Правду. Дождись суда; если, как говорил мне кардинал Руффо, ты действительно заранее приговорена к смерти – а этого следует ожидать, – то заяви о своей беременности, как только судья огласит приговор. Одно это заявление даст тебе отсрочку на семь месяцев.
Луиза грустно поглядела на Сальвато.
– Друг, – сказала она, – это ты, человек непоколебимый в вопросах чести, советуешь мне публично себя обесчестить?
– Я советую тебе жить. Неважно, какой ценою, лишь бы ты купила себе жизнь! Понимаешь?
Но Луиза, словно не слыша его, продолжала тем же тоном:
– Все знают, что мой муж в отсутствии уже более чем полгода, а мне, когда меня несправедливо осудят за преступление, которого я не совершила, объявить во всеуслышание: «Я неверная жена, я изменила своему супругу, спасите меня»? О, да я умру от стыда, мой друг. Ты сам видишь, лучше умереть на эшафоте.
– А как же он?
– Кто?
– Наш ребенок! Имеешь ли ты право осудить на смерть и его?
– Бог мне свидетель, мой друг, если бы мы остались живы, если бы он вышел на свет из моего истерзанного чрева и я услыхала его первый крик, почувствовала бы его дыхание, поцеловала его уста, – свидетель Бог, я с гордостью носила бы позор моего материнства; но если ты умрешь завтра, а я через семь месяцев, – мне ведь все равно придется умереть! – то бедное дитя не только останется сиротой, но еще и будет навсегда запятнано своим рождением. Безжалостный тюремщик швырнет его у проезжей дороги, там он погибнет от холода, от голода, под лошадиными копытами. Нет, Сальвато, пусть он исчезнет вместе с нами, и, если душа бессмертна, как верит Элеонора и как надеюсь я, – мы предстанем перед Господом, обремененными своими грехами, но приведем с собою ангела и ради него будем прощены.
– Луиза, Луиза! – вскричал Сальвато. – Подумай! Поразмысли!
– А он? Он, такой добрый, такой благородный и великий! Если он, уже знающий, что у меня хватило решимости изменить ему, узнает, что мне недостало решимости умереть, если все вокруг узнают, какой ценой купила я свою жизнь, – еще худший позор обрушится на его голову! О, при одной этой мысли, мой друг, – продолжала Луиза, вставая, – я чувствую себя сильной, как спартанка, и если бы эшафот был здесь, я взошла бы на него с улыбкой! Сальвато упал на колени и страстно поцеловал ее руку.
– Я сделал то, что должен был сделать я, – сказал он. – Будь же благословенна: ты сделала то, что следовало сделать тебе!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































