Текст книги "Сан-Феличе. Книга вторая"
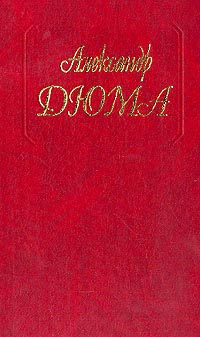
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 55 (всего у книги 72 страниц)
CLXXX. В ЧАСОВНЕ
Согласно приказанию Спецьяле, приговоренных отвели в Викариа, а Луизу отправили в Кастель Нуово.
И все же влюбленные, к которым солдаты проявили больше милости, чем судьи, смогли попрощаться и подарить друг другу последний поцелуй.
Сальвато, беззаветно веривший в помощь отца, поклялся подруге, что у него твердая надежда на спасение и эта надежда не покинет его даже у подножия эшафота.
Луиза только проливала слезы.
Наконец у ворот им пришлось расстаться.
Приговоренных повели по спуску Тринита Маджоре, по улице Тринита и переулку Сторто, а там улица Трибунали выводила их прямо к Викариа.
Луиза же со своей стражей спустилась вниз по улице Монтеоливето, по улице Медина и вернулась в Кастель Нуово, где по распоряжению принца Франческо, которое он передал через никому не известного человека, не была отведена в камеру, а заперта в особой комнате.
Не беремся описывать, в каком она была состоянии, – пусть наши читатели представят себе это сами.
До самой Викариа осужденных провожали все, кто присутствовал на суде. Не было лишь кавалера Сан Феличе и монаха: они подошли друг к другу, потом вместе поспешили до первого перекрестка улицы Куерча, откуда ответвляется переулок того же названия.
Двери Викариа были постоянно открыты: там принимали после суда приговоренных к смерти, держали их у себя двенадцать, четырнадцать, пятнадцать часов, а потом выталкивали на эшафот.
Двор был полон солдат; вечером для них расстилали тюфяки под аркадами, и они спали там, завернувшись в шинель или плащ. Впрочем, стояли самые теплые дни года.
Осужденные вернулись в Викариа около двух часов ночи и были препровождены прямо в часовню.
По-видимому, их ждали: комната с алтарем была освещена зажженными свечами, а соседняя – лампой, подвешенной к потолку.
На полу лежало шесть тюфяков.
Отряд тюремщиков уже ждал приговоренных в этой комнате.
Солдаты остановились на пороге, готовые стрелять в случае, если возникнет какой-нибудь беспорядок, когда с осужденных станут снимать цепи.
Но ничего подобного можно было не опасаться. На этом этапе жизни каждый из приговоренных к казни чувствовал на себе не только ревнивый взгляд современников, но и беспристрастный взгляд потомков, и ни один из них не стал бы омрачать своей бестрепетной кончины опрометчивым взрывом гнева.
Поэтому они невозмутимо, словно их это не касалось, позволили снять цепи, сковывавшие им руки, и надеть на ноги цепи, приковавшие их к полу камеры.
Кольцо было достаточно близко к постели, а цепь достаточно длинна, чтобы можно было лечь.
Встав, осужденный мог лишь на шаг отойти от своего ложа.
Двойная операция была закончена в десять минут; первыми удалились тюремщики, потом солдаты.
И дверь с тройным замком и двойным засовом захлопнулась за ними.
Когда умолк последний лязг запоров, Чирилло сказал:
– Друзья мои, позвольте мне как врачу дать вам один совет.
– Ах, дьявольщина, вот будет кстати! – подхватил, смеясь, граф ди Руво. – Я чувствую, что болен, так болен, что не проживу и четырех часов после полудня.
– Потому-то, любезный граф, я и сказал «совет», а не «предписание», – возразил Чирилло.
– О, тогда я беру свое замечание назад, считайте, что я ничего не говорил!
– Бьюсь об заклад, – вставил Сальвато, – что я угадал, какой вы желаете дать совет, милый наш Гиппократ: вы рекомендуете нам поспать, не так ли?
– Вот именно. Сон – это сила, и, хотя мы и мужчины, придет час, когда нам потребуется сила, вся наша сила.
– Как, дорогой Чирилло, – вмешался Мантонне, – вы, такой предусмотрительный, не запаслись в предвидении этого часа каким-нибудь порошком или жидкостью, которые избавили бы нас от удовольствия плясать на конце веревки нелепую жигу перед болванами лаццарони!
– Я об этом подумал; но я эгоист, мне не пришло в голову, что нам придется умирать целой компанией, так что я позаботился только о себе. В этом перстне, как в перстне Ганнибала, кроется смерть его владельца.
– А, – промолвил Карафа, – теперь я понимаю, почему вы советовали нам спать: вы бы уснули вместе с нами, но не проснулись бы.
– Ошибаешься, Этторе. Я твердо решил умереть, как вы, вместе с вами и тою же смертью, что и вы, и если среди нас есть кто-то, кто страдает бессонницей и чувствует некоторую слабость перед предстоящим нам длинным путешествием, пусть он возьмет перстень.
– Черт побери, это соблазнительно, – признался Микеле.
– Хочешь его, бедное дитя народа? – спросил Чирил-ло. – Ты ведь не можешь, как мы, перед лицом смерти призвать на помощь науку и философию.
– Спасибо, доктор, спасибо, – отвечал Микеле. – Это значило бы понапрасну изводить яд.
– Почему же?
– Да ведь старуха Нанно предсказала, что я буду повешен, и ничто не может помешать меня повесить. Подарите ваш перстень кому-нибудь другому, кто волен умирать, как ему нравится.
– Я принимаю, доктор, – проговорила Пиментель. – Надеюсь, мне не придется им воспользоваться, но я женщина, в роковой час я могу поддаться минутной слабости. Если со мною случится такое несчастье, вы меня простите, да?
– Вот перстень. Но напрасно вы в себе сомневаетесь, я за вас отвечаю, – сказал Чирилло.
– Не важно! – воскликнула Элеонора и протянула руку. – И все же давайте.
Тюфяк доктора лежал слишком далеко от Элеоноры Пиментель, чтобы Чирилло мог передать ей перстень из рук в руки, но он протянул кольцо ближайшему соседу, тот следующему, а последний отдал Элеоноре.
– Рассказывают, – заговорила Элеонора, – что, когда Клеопатре принесли аспида в корзинке с фигами, царица погладила его и сказала: «Добро пожаловать, мерзкая маленькая тварь, ты кажешься мне прекрасной, потому что ты – свобода». Ты тоже свобода, о драгоценный перстень, и я целую тебя как брата.
Сальвато не принимал участия в этой беседе. Он сидел на своей постели, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки.
Этторе Карафа с беспокойством за ним наблюдал. Со своего тюфяка он мог дотянуться до Сальвато.
– Ты спишь или грезишь наяву? – спросил он. Сальвато совершенно спокойно поднял голову, и лицо его было печально лишь постольку, поскольку печаль была обычным его выражением.
– Нет, – ответил он. – Я размышляю.
– Над чем?
– Над одним вопросом моей совести.
– Ах, как жаль, что тут нет кардинала Руффо! – сказал, смеясь, Мантонне.
– Я мысленно адресовался не к нему, этот вопрос совести можете разрешить только вы.
– Черт возьми! – воскликнул Этторе Карафа. – Я и не подозревал, что меня заперли здесь для того, чтобы участвовать в совете.
– Чирилло, наш учитель в вопросах философии, науки и в особенности в вопросах чести, только что сказал: «У меня есть яд, но только для меня одного, следовательно, я им не воспользуюсь».
– Хотите перстень? – живо спросила Элеонора. – Я не возражала бы против того, чтобы его отдать, он жжет мне руки.
– Нет, спасибо. Я только хочу задать вам, друзья, один простой вопрос. Вы не хотите умирать один, дорогой Чирилло, спокойной и безболезненной смертью, раз вашим товарищам придется умереть смертью жестокой и позорной?
– Это верно. Раз меня приговорили вместе с ними, значит, – так мне кажется, – я и умирать должен вместе с ними и тою же смертью, что и они.
– А теперь скажите: что, если вместо возможности умереть вы получили бы уверенность в том, что будете жить?
– Я отказался бы от жизни по тем соображениям, по которым отверг смерть.
– Все вы думаете так же, как Чирилло?
– Все, – хором отвечали четверо мужчин. Элеонора Пиментель слушала со все возрастающим волнением.
– А если ваше спасение, – продолжал Сальвато, – могло бы повлечь за собою спасение другого существа, слабого, невинного, что под угрозой смерти рассчитывает только на вас, надеется только на вас и без вас погибнет?
– О, тогда ваш долг согласиться! – с живостью вскричала Элеонора.
– Вы, Элеонора, говорите как женщина.
– А мы говорим как мужчины, – возразил Чирилло, – говорим то же, что и она: «Твой долг согласиться, Сальвато».
– Вы так считаете, Руво? – спросил молодой человек.
– Да.
– Вы так считаете, Мантонне?
– Да.
– Ты так считаешь, Микеле?
– Да, да! Сто раз да!
И, склонившись в сторону Сальвато, он прибавил с жаром:
– Во имя Мадонны, господин Сальвато, спасите себя и спасите ее! Ах, если бы я мог быть уверен, что она не умрет, я плясал бы по дороге на виселицу, с петлей на шее кричал бы: «Слава Мадонне!»
– Хорошо, – сказал Сальвато. – Я узнал то, что хотел узнать. Благодарю.
И снова воцарилась тишина.
Только лампа, в которой кончилось масло, на миг зашипела, замигала и медленно погасла.
Скоро сероватый печальный рассвет, просочившись сквозь прутья оконной решетки, возвестил о начале дня, последнего для приговоренных.
– Вот эмблема смерти: лампада угасает, наступает тьма, а потом рассвет.
– Вы уверены насчет рассвета? – спросил Чирилло.
В восемь утра те из приговоренных, кому удалось заснуть, были разбужены лязгом замков на двери первой комнаты, той, где стоял алтарь.
Вошли тюремщики, и главный из них объявил во всеуслышание:
– Заупокойная месса!
– Зачем нам месса? – отозвался Мантонне. – Может быть, они думают, что мы не сумеем умереть и без этого?
– Наши палачи хотят перетянуть на свою сторону Господа Бога, – отозвался Этторе Карафа.
– Я нигде не читал, чтобы месса была предписана святым Евангелием, – в свою очередь заявил Чирилло. – А Евангелие – это единственное, во что я верю.
– Ну что ж, – прозвучал тот же повелительный голос. – Освободите от цепей только тех, кто хочет присутствовать на церковной службе.
– Освободите меня, – произнес Сальвато.
Ту же просьбу высказали Элеонора Пиментель и Микеле.
Всех троих освободили.
Они перешли в соседнее помещение. У алтаря стоял священник, солдаты охраняли дверь, а в коридоре сверкали штыки – это говорило о том, что приняты все меры предосторожности и там находился многочисленный отряд.
Сальвато хотел освободиться от цепей лишь для того, чтобы не упустить случая связаться с отцом или его помощниками, возможно готовившимися к его спасению.
Элеонора пожелала слушать мессу потому, что душа этой женщины и поэтессы стремилась к священному таинству.
Микеле же, неаполитанец и лаццароне, свято верил, что не может быть достойной смерти без заупокойной мессы.
Сальвато стал в дверях, соединявших обе комнаты, но напрасно он обводил вопрошающим взором присутствующих и заглядывал в коридор, – вокруг не было никаких признаков того, что кто-то занимается его спасением.
Элеонора взяла стул и склонилась вперед, опираясь на его спинку.
Микеле преклонил колена на ступеньках алтаря.
Микеле представлял безоговорочную веру, Элеонора – надежду, Сальвато – сомнение.
Сальвато слушал мессу рассеянно, Элеонора сосредоточенно, Микеле в полном упоении: только четыре месяца был он патриотом и полковником, а всю предыдущую свою жизнь он был лаццароне.
Служба окончилась. Священник спросил:
– Кто хочет причаститься?
– Я! – вскричал Микеле.
Элеонора поникла, не ответив. Сальвато отрицательно покачал головой. Микеле приблизился к священнику, вполголоса исповедовался ему и принял причастие.
Потом всех троих вернули в соседнюю комнату, куда принесли завтрак для них и для их товарищей.
– На который час назначено? – спросил Чирилло у тюремщиков, разносивших пищу.
Один из них подошел поближе.
– Кажется, на четыре часа, господин Чирилло, – ответил он.
– А, ты меня узнаешь? – спросил доктор.
– В прошлом году вы вылечили от воспаления легких мою жену.
– И теперь она чувствует себя хорошо?
– Да, ваша милость, – ответил тюремщик и тихо добавил: – Я бы пожелал вам такой же долгой жизни, какую, может быть, проживет она.
– Друг, – отвечал Чирилло, – дни жизни человеческой сочтены, но Бог не так суров, как его величество Фердинанд: Бог иногда нас милует, а король – никогда! Так ты говоришь, в четыре?
– Так я думаю, – сказал тюремщик. – Но вас много, так, может, они начнут на час раньше, чтобы успеть.
Чирилло вытащил часы.
– Половина одиннадцатого, – сказал он и стал засовывать часы обратно в карман, но вдруг вспомнил: – Ба! Да я забыл их завести! Если я остановлюсь, это еще не причина, чтобы останавливаться им.
И он стал невозмутимо заводить часы.
– Желает ли еще кто-нибудь из осужденных принять помощь религии? – вопросил, появляясь на пороге, священник.
– Нет, – в один голос отвечали Чирилло, Этторе Кара-фа и Мантонне.
– Как вам угодно, – сказал священник, – это дело касается только Бога и вас.
– Я думаю, отец мой, правильнее было бы сказать: Бога и короля Фердинанда, – возразил Чирилло.
CLXXXI. ВОРОТА ЦЕРКВИ САНТ'АГОСТИНО АЛЛА ЦЕККА
Около половины четвертого заключенные услышали, как отворилась наружная дверь комнаты bianchi, от которой они были отделены крепкой перегородкой и обитой железом дверью с задвижками и висячими замками; потом донесся шум шагов и неясные голоса. Чирилло вытащил часы.
– Половина четвертого, – сказал он. – Мой славный тюремщик не ошибся.
– Микеле! – окликнул Сальвато молодого лаццароне, который после причастия все время молился в своем углу.
Тот вздрогнул и по знаку Сальвато приблизился к нему, насколько позволяла цепь.
– Да, ваша милость? – шепнул он вопросительно.
– Постарайся не отходить от меня далеко и, если случится что-нибудь непредвиденное, не зевай.
Микеле покачал головой.
– О, ваша милость, – пробормотал он. – Нанно сказала, что меня повесят, значит, меня и повесят, иначе быть не может.
– Как знать! – возразил Сальвато.
Но тут отворилась дверь напротив комнаты bianchi – иначе говоря, дверь в часовню, и на пороге вырос какой-то человек; за его спиной послышался стук прикладов – это солдаты приставили ружья к ноге.
Вид новоприбывшего не оставлял сомнений: то был палач.
Он пересчитал узников.
– Всего шесть дукатов наградных! – пробормотал он со вздохом. – И подумать только, что я одним махом мог бы заполучить шестьдесят монет… Ладно, не надо об этом больше печалиться!
Вошел фискальный прокурор Гвидобальди, перед которым шествовал пристав с приговором джунты в руках.
– Развяжите осужденных, – приказал фискальный прокурор.
Тюремщики повиновались.
– На колени, слушать приговор! – повелительно возгласил Гвидобальди.
– С вашего разрешения, господин фискальный прокурор, мы предпочли бы выслушать его стоя, – насмешливо возразил Этторе Карафа.
Насмешливый тон, каким были произнесены эти слова, заставил судейского заскрипеть зубами.
– На коленях, стоя – не важно, как вы будете слушать, лишь бы вы его выслушали и он был приведен в исполнение! Секретарь суда, огласите приговор!
Оказалось, что Доменико Чирилло, Габриэле Мантон-не, Сальвато Пальмиери, Микеле il Pazzo и Элеонора Пи-ментель приговорены к смерти через повешение; Этторе Карафа – к отсечению головы.
– Все верно, – сказал Этторе. – Никаких претензий к суду не имеется.
– Значит, можно приступать к делу? – с издевкой спросил Гвидобальди.
– Когда вам будет угодно. Лично я готов и полагаю, что друзья мои тоже готовы.
– Да, – в один голос подтвердили осужденные.
– Но я обязан сказать кое-что тебе, Доменико Чирилло, – проговорил Гвидобальди с усилием, которое показывало, как трудно дается ему эта речь.
– Что именно? – осведомился Чирилло.
– Проси у короля помилования, может быть, он согласится, поскольку ты был его личным врачом. Во всяком случае, если ты подашь такое прошение, мне велено отсрочить казнь.
Все взгляды устремились на Чирилло. Но тот ответил с обычной мягкостью, храня на лице полное спокойствие, с улыбкой на устах:
– Напрасно вы пытаетесь запятнать мою репутацию низостью. Я отказываюсь от предложенного мне пути спасения. Я был присужден к смерти вместе с друзьями, которые мне дороги, и хочу умереть вместе с ними. Я жду успокоения смерти и не сделаю ничего, чтобы ее избежать и остаться хотя бы лишний час в мире, где властвуют супружеская измена, клятвопреступление и порок.
Элеонора схватила руку Чирилло и приложилась к ней губами, а потом с силой швырнула на пол полученный от него флакончик с опиумом, и тот разлетелся вдребезги.
– Это что такое? – осведомился Гвидобальди, увидев, что по каменным плитам разливается какая-то жидкость.
– Яд, который в десять минут избавил бы меня от твоих посягательств, презренный! – отвечала Элеонора.
– Почему же ты отказываешься от этого яда?
– Потому что считаю низостью покинуть Чирилло в тот миг, когда он не захотел покинуть нас.
– Хорошо, дочь моя! – воскликнул Чирилло. – Не скажу: «Ты достойна меня!», скажу: «Ты достойна самой себя!»
Элеонора усмехнулась и, подняв глаза к Небесам, протянув вперед руку, с улыбкой на устах продекламировала:
Forsan et haec olim meminisse juvabit.[Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать (лат.). – Вергилий, «Энеида», I, 203. Перевод
С.Ошерова под редакцией Ф.Петровского]
– Ну что, – проговорил нетерпеливо Гвидобальди, – кончено? Никто больше ни о чем не просит?
– Никто ни о чем не просил с самого начала! – возразил граф ди Руво.
– И никто ни о чем не собирается просить, – сказал Мантонне, – разве только поскорей закончить эту комедию фальшивого милосердия.
– Тюремщик, откройте дверь к bianchi! – распорядился фискальный прокурор.
Дверь комнаты отворилась, и появились bianchi в длинных белых рясах.
Их было двенадцать, по двое на каждого осужденного.
Дверь комнаты закрылась за ними. Один из кающихся приблизился к Сальвато, взял его за руку и одновременно сделал масонский знак. Сальвато ответил тем же, не выразив на лице ни малейшего волнения.
– Вы готовы? – спросил кающийся.
– Да, – отвечал Сальвато.
Никто не понял двусмысленности этого ответа.
Сальвато же не узнал голоса, но масонский знак возвестил ему, что он имеет дело с другом.
Он обменялся взглядом с Микеле, вопрошающе смотревшим на него.
– Помни, что я тебе сказал, Микеле, – шепнул он.
– Да, ваша милость, – отозвался лаццароне.
– Кто из вас зовется Микеле? – спросил один из кающихся.
– Я, – живо ответил тот, думая, что услышит сейчас какую-то добрую весть.
Кающийся подошел к нему.
– Есть у вас мать? – спросил он.
– Да, – со вздохом подтвердил лаццароне, – и это самое большое мое горе. Бедняжка! Но откуда вы знаете?
– Какая-то бедная старушка остановила меня, когда я входил в Викариа. «Ваша милость, – сказала она. – У меня к вам просьба». – «Какая?» – спросил я. «Я хотела бы знать, не принадлежите ли вы к тем кающимся, которые сопровождают осужденных на эшафот?» – «Да». – «Так вот, одного из них зовут Микеле Марино, но он больше известен под прозванием Микеле-дурачок». – «Не тот ли это, – спросил я, – кто был при так называемой Республике полковником?» – «Да, несчастное дитя, это он!» – отвечала женщина. «И что же дальше?» – «А то, что если вы добрый христианин, то скажите ему, когда будет выходить из Викариа, пусть повернет голову налево; я буду сидеть на Камне банкротов, хочу увидеть его в последний раз и благословить».
– Спасибо, ваша милость, – сказал Микеле. – Это верно, дорогая матушка любит меня всем сердцем, а я всю жизнь причинял ей одно только горе, но сегодня это будет в последний раз! – И, смахнув слезу, он добавил: – Вы окажете мне честь сопровождать меня?
– Охотно, – отвечал кающийся.
– Пойдем, Микеле, нас ждут, – сказал Сальвато.
– Иду, господин Сальвато, иду!
И Микеле пошел следом за Сальвато.
Осужденные вышли из залы, которая была превращена в часовню, пересекли комнату, где слушали мессу, и во главе с палачом вступили в коридор.
Они двигались в том порядке, в каком их, вероятно, собирались казнить: впереди Чирилло, затем Мантонне, за ним Микеле, потом Элеонора Пиментель и, наконец, Эт-торе Карафа.
По правую и по левую руку каждого осужденного шли bianchi.
От ворот тюрьмы, ведущих во двор, до вторых ворот, выходящих на площадь Викариа, протянулась двойная цепочка солдат.
Площадь была полна народа.
При виде осужденных толпа заревела:
– Смерть якобинцам! Смерть!
Было совершенно ясно, что, если бы не солдаты, осужденных уже через несколько шагов разорвали бы на куски. Ножи сверкали во всех руках, все глаза горели угрозой.
– Обопритесь о мое плечо, – сказал, обращаясь к Сальвато, кающийся, шагавший справа от него, тот, что сделал ему масонский знак.
– Вы думаете, что мне нужна поддержка?
– Нет. Но мне нужно дать вам некоторые указания. Они уже отошли от ворот Викариа шагов на пятнадцать и находились напротив колонны, основанием которой служил так называемый Камень банкротов: в средние века банкроты, сидя голым задом на этом камне, объявляли о своей несостоятельности.
– Стой! – приказал кающийся, шагавший слева от Микеле.
В такого рода траурных процессиях кающиеся пользуются властью, которую никто не помышляет у них оспаривать.
Маэстро Донато остановился первым, а вслед за ним остановились все кающиеся, солдаты и осужденные.
– Молодой человек, – сказал кающийся, обратившись к Микеле, – попрощайся с матерью! Женщина, – добавил он, повернувшись к старухе, – дай сыну благословение!
Старуха слезла с камня, на котором сидела, и Микеле бросился к ней на шею.
С минуту оба не могли вымолвить ни слова.
Кающийся справа от Сальвато воспользовался этой задержкой и шепнул ему:
– В переулке Сант'Агостино алла Цекка, когда мы пойдем к церкви, возникнет замешательство. Поднимитесь на паперть, прислонитесь спиной к двери и ударьте в нее каблуком.
– Кающийся слева от меня свой человек?
– Нет. Делайте вид, будто вас интересует Микеле. Сальвато обернулся к лаццароне и его матери. Микеле как раз поднял голову и оглядывался вокруг:
– А она? Ее нет с вами?
– Кого нет?
– Ассунты.
– Отец и братья заперли ее в монастырь Аннунциаты, где она изнывала в слезах и в отчаянии, и поклялись, что если бы они могли вырвать тебя из рук солдат, то палачу не пришлось бы тебя вешать, потому что они растерзали бы тебя на куски. Джованни даже прибавил: «Это стоило бы мне целого дуката, но я бы и за тем не постоял!»
– Матушка, скажите ей: я на нее сердился из-за того, что она меня бросила, но теперь, когда знаю, что это не ее вина, я ее прощаю.
– Поторопитесь, – вмешался кающийся. – Вам пора расставаться.
Микеле стал перед матерью на колени, она положила ему ладони на голову и мысленно его благословила, потому что бедную женщину душили слезы и она не могла вымолвить ни слова.
Кающийся взял старуху сзади под локти и посадил обратно на камень, где она и застыла, сжавшись в комок, уронив голову в колени.
– Пойдем, – сказал Микеле. И он сам встал на свое место.
Бедный малый был не столь силен духом, как Руво, не такой философ, как Чирилло, не обладал бронзовым сердцем Мантонне и не был поэтом, как Пиментель; он был сыном народа, а значит, был доступен всем человеческим чувствам и не умел ни сдерживать их, ни скрывать.
Он шагал твердой поступью, подняв голову, но по щекам его катились слезы.
Прошли немного по улице Трибунали, потом свернули налево по переулку Дзите, пересекли улицу Форчелла и вступили в переулок Сант'Агостино алла Цекка.
На углу его стоял человек с телегой, запряженной двумя буйволами. Сальвато почудилось, будто кающийся справа от него обменялся с этим человеком какими-то знаками. Он собирался спросить его об этом, когда тот прошептал ему:
– Готовьтесь.
– К чему?
– К тому, о чем я вам говорил.
Сальвато обернулся и увидел, что человек с телегой и буйволами последовал за кортежем осужденных.
Немного не доходя улицы Пендино поперек дороги застряла какая-то повозка с дровами – у нее сломалась ось.
Возница распряг лошадей и стал разгружать повозку. Пять или шесть солдат поспешили вперед, крича: «Дорогу! Дорогу!» – и попытались очистить проход.
Дело было как раз напротив церкви Сант'Агостино алла Цекка.
Вдруг послышался ужасный рев, и пара буйволов, точно взбесившись, с налитыми кровью глазами, свисающим языком и вырывающимся из ноздрей паром, волоча за собою грохочущую телегу, ринулись на колонну осужденных, топча и отбрасывая к стенам домов собравшихся зевак и замыкавших шествие солдат, которые тщетно старались остановить животных штыками.
Сальвато понял, что роковая минута настала. Он оттолкнул локтем кающегося, что держался слева от него, сбил с ног идущего рядом солдата и с криком: «Берегись, буйволы!» – будто хотел лишь укрыться от опасности, прыгнул на церковную паперть, прислонился спиною к двери и ударил в нее ногой.
Дверь открылась, как открывается английская лестница в хорошо поставленной феерии, и захлопнулась у него за спиной, прежде чем кто-нибудь успел заметить, куда он исчез.
Микеле попытался было кинуться вслед за Сальвато, но его удержала железная рука. То была рука Бассо Томео, старого рыбака, отца Ассунты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































