Текст книги "Жизнь же…"
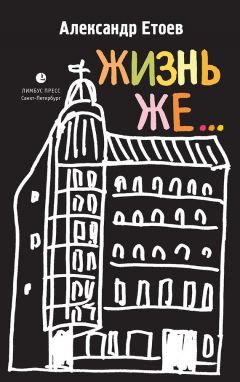
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Руки мои упали.
Взрывом выворотило у флигелька брюхо. Из переломленных балок торчало деревянное мясо, и пёстрая груда обломков лежала, наспех сваленная у стены. Я разглядел сквозь пролом смятое кружево труб и спирали пара, которые выдувал изнутри сквозняк.
Не было у меня больше дома. Не стало. Часть флигеля и стена котельной, намертво приросшая к флигелю, и подвал под флигелем, который я называл своим домом, демоны превратили в прах.
– Саша, – сказал мягкий голос Ильи. Он стоял по правую руку и улыбался невесть чему. – Когда в котельных ни с того ни с сего начинают взрываться котлы – что надо делать?
Он прижимал к животу разбухшую амбарную книгу. Из неё лезли листы, и картон переплёта расслоился от взрывного удара.
– «Однажды евреи подложили бомбу в котельную…» – Улыбка у Ильи была грустной, так улыбается человек, оказавшийся без воды в пустыне. – Я знаю, что надо делать. – Он продолжал улыбаться. – Надо отсюда уезжать. Пока не поздно, уносить ноги. Я подал документы на выезд.
– Конечно, Илья, уезжай. Я тоже скоро уеду. И Валентин уедет. Ты его не знаешь, это мой старый друг. Через два месяца он улетает в Америку на воздушном шаре. Все мы уедем, и останется голое место. Эта вот развороченная куча на месте дома.
– Я иду к брату, – сказал Илья и пошёл. Он шёл и держался за книгу, словно это и был пропуск в ту неведомую страну, в которую он собирался уехать.
– Прощай, – сказал я ему, хотя больше всего на свете не любил слово «прощай». – Прощай, – повторил я, когда фигура Ильи ушла в вечернюю тень.
– Ну, здравствуй, – сказали мне два фосфорных глаза, выглянувшие из темноты пролома.
– Здравствуйте, человек без пары, – сказала мёртвая арка ниши, что чернила черноту подворотни. С площадки спрыгнул фантом, которого я называл Бежевым.
– Здравствуйте, гражданин Галиматов. Пора подвести итог.
Это сказал Холодный. Он стоял за водосточной трубой, такой же длинный и узкий, как эта стекающая с крыши бледноголубая сопля, и скалился искусственными зубами.
Я раскланялся на три стороны:
– Спектакль начинается. Все актёры в сборе. Где же господин режиссёр?
Я спокойно прошёл вперёд к наваленной куче мусора и поставил каблук на вылезшую из матраса пружину. Пружина была родная, и матрас был родной – он знал наперечёт каждое из моих натруженных рёбер, как и я – все его заплаты и прошвы, и помнил все мои сны, которые я рассказывал ему по ночам.
Они стали сходиться: сзади Бежевый, слева Холодный. Из пролома в стене котельной, скособочась, вылезал Задница. С карниза посыпалась крошка, и в сахарном облаке штукатурки на землю сошёл Курилка.
Пружина мягко покачивалась под ногой. Сначала я думал о вечности, потом вспомнил, что в кармане в вощёной бумаге лежит завернутая Натальей котлета. Я её вытащил, пошуршал обёрткой и съел.
– Друзья, – сказал я, облизывая пальцы, – зачем вам я, если честно? Ну зачем?
– Нужен, – услышал я четырёхголосый ответ.
– Как же вы можете со мной что-то сделать, если у меня тринадцатый номер? И не где-нибудь, а там, – я показал пальцем в обиталище Господа Бога, – в Плато, в месте, где рождаются сущности!
– Можем, – ответили мне все четверо.
– Можете, – согласился я. – Но вы же умные… – Я хотел назвать их людьми, но вовремя спохватился. – Вы должны понимать, что плохо будет не одному мне.
– Понимаем, – раздался односложный ответ.
– Так стоит ли тогда рисковать?
– Стоит.
– Вы уверены? – Я нарочно играл в вопросы. Не то чтобы оттягивал время, просто интересно было узнать уровень их разумности.
– Платформа, – сказал Курилка. – С ней сегодня покончено.
– Покончено, – повторили один за другим три его компаньона.
Я вздрогнул и не поверил.
– Врёте! – сказал я зло.
«Врут!» – в голове, как бомба, разорвался мысленный крик.
Мне стало весело и не страшно.
– Врёте, – повторил я отчаянно и, поддев ногой отцепившуюся от матраса пружину, швырнул её в Курилкину рожу.
– Ой! – вскрикнул он совсем по-людски и схватился за расквашенную губу.
«Спешу на помощь. Держись!» – кричала мне беззвучно платформа.
«Ты где?»
«Пролетаю станцию Колокольцево».
«Это днем-то? Ты спятила. Что подумают люди?»
«Дурак!»
Я прикинул расстояние от Колокольцево до места, где меня собирались казнить.
«Не успеешь».
«Тяни время».
– Послушайте, господа. А имеется ли у вас документ, подтверждающий ваше право на лишение меня жизни?
– Имеется.
Задница достал бумагу и предъявил мне. Со ссылкой на пункт 105-й договора от 1 апреля за упорное нежелание подчиняться общепринятому закону парности гражданин А. Ф. Галиматов приговаривался к полнейшей деструкции.
Приговор обжалованию не подлежал. Внизу, как бикфордов шнур, извивалась чья-то важная подпись и лиловела дьяволова печать.
«Пролетаю станцию Жмурки».
«Не успеет».
И тут я вспомнил, что за кирпичным забором с аурой из колючей проволоки находится милицейская школа.
– Милиция! – заорал я что было сил. – Здесь человека убивают!
Чётники на мой крик не прореагировали никак. Не кинулись затыкать мне рот, не замахали руками. А Задница показал пальцем на стену и сказал:
– Плюньте туда, Галиматов. Не стесняйтесь, плюйте.
Я плюнул. Мой тяжёлый плевок, пролетев полтора метра, неожиданно расплющился в воздухе и стал стекать по невидимой вертикали, отделявшей меня от стены.
– Так же и звук. Кричите не кричите, никто вас там не услышит. Ни один мент.
Я посмотрел на небо. Оно еле дышало, и с него не спускалось ни одной спасительной паутинки. Умирать не хотелось. Я не любил умирать. Я любил жизнь, женские ножки, особенно выше колен, свободу, небо в дождичек или в вёдро, землю без пограничных столбов. Любил попить-погулять, любил Пушкина и Баркова, любил «Москву – Петушки» и «Николая Николаевича», много чего любил. Я знал, стоит мне умереть, и их без меня не будет. Не меня отнимут от них – всё ото всех отнимут. Я – заклёпка на теле мира. Я держу этот мир живым. Я затыкаю пальцем дыру, через которую утекает жизнь, – в этом моё назначение. Пусть я плох, беден, болящ. Пусть я урод и вор, и член мой тёмен от блуда. Пусть. Но я вас люблю, и я не хочу умирать.
– А зачем тебе умирать? – услышал я голос с неба.
Это не был голос её и не был голос Его. Это был другой голос.
– Тебе надо жить.
– Да. – Ноги мои устали. Я сел прямо на мусор, на свой убитый матрас, весь в бурых пятнах и стрелах от раздавленных кровопийц-клопов, сидел и тупо смотрел на мир, который из-за меня не погибнет.
«Плато. Место, где рождаются сущности. Оттуда – сюда, и никогда обратно».
– Да.
13. Приключения в мёртвом царстве
Курилка уже пропал в зыбкой воздушной мандорле, куда затягивались один за одним мои несостоявшиеся палачи. Каждый раз меня обдавало мёртвым подвальным запахом, каждый раз я обводил языком нёбо, счищая ядовитый налёт. Пропали Бежевый и Холодный, оба, втянув головы в плечи и уворачивая от удара гузно. Теперь Курилка. На поверхности оставался Задница.
И вдруг словно невидимая пружина выскочила из невидимого матраса, чтобы поднять меня и метнуть в бой. Мысль липкая, как репей, пристала к изнанке черепа.
«Тебе всегда везло, Галиматов. Ты даже триппером ни разу не заразился, хотя в половом вопросе отличался абсолютным невоздержанием. Про мандавошек ты знаешь только из анекдотов. А почему? Почему другой и на Красной площади умудряется провалиться в люк? А с тебя всё – с гуся вода. Анька-первая, когда огрела тебя по темени сковородкой, – что с тобой было? Ты не только не сблеванул, ты ещё картошку дожрал, вывалившуюся на пол со сковородки. А у неё – кистевой вывих, она в суд на тебя подавала. А помнишь, как тебя пьяного в январе сдуло ветром с Египетского моста и ты угодил в единственную на всей реке прорубь? У тебя даже насморка тогда не было. И яд ты не выпил. И витриной тебе не отсекло голову. Так чего ж ты стоишь и даром теряешь время? Видишь, Задница почти исчез, скоро совсем исчезнет. Не упусти шанс. Секунд шесть дыра, в которую они проваливаются, сохраняет пропускную способность. Вперёд, Галиматов! Рискуй! Где ваша не пропадала!»
Задница таял, словно мутное табачное облако. Последнее, что от него оставалось, – круглая оттопыренная мишень, обтянутая штанами в полоску. Скоро исчезла и мишень, оставалась одна зыбкая овальная рама, и надо было решаться. Я решился. Как отчаявшийся пловец, я бросился в неизвестную глубину. Я успел. Яко посуху прошёл я по бездне стопами. Была тьма и свет, и семь раз по семь то тьма, то бледная жижа, и меня тысячу раз стошнило, выворачивая наизнанку, и тысячу раз я поминал имя Господа моего всуе. Очнулся я в полутьме, и первое, что услышал, были собственные мои слова:
– К собачьей матери такие приключения!
А первое, что я увидел, когда глаза вернулись на место, – это Курилку и Задницу.
Приятно, конечно, встретить в новом месте кого-нибудь из старых знакомых. Но меня чуть не вытошнило в тысячу первый раз. Они стояли неподалёку – безмолвно, руки по швам, и лица их были пусты, как начисто вылизанные тарелки. И ладно бы они стояли вдвоём – к их подлым рожам я как-никак притерпелся. Нет, таких, как они – пустолицых, с выпущенным жизненным паром, – в этом сумрачном месте, похоже, было немало. Они стояли рядами – за рядом ряд уходили в тёмную бесконечность плечи, плечи, над плечами – головы, головы, все повёрнуты в одну сторону, у всех на лицах полуулыбка-полуоскал идиотов.
Сам я находился в нешироком проходе, единственный живой человек среди восковых истуканов. Могильная тишина давила. Сделав шаг по проходу, я вздрогнул от грома в ушах.
«Дурак, – сказал я себе, – как же ты будешь отсюда выбираться, ведь их здесь миллионы. Попробуй догадайся, которого из них выбросят в мир людей и когда это будет. Вляпался со своей отвагой».
Я пошёл вдоль рядов навстречу кукольным лицам. В воздухе надо мной висела белёсая пыль, она плавно раскачивалась, в ней было заметно движение. В некоторых местах пыль скапливалась в облака, в других её почти не было, и тогда, напрягая зрение, я различал какие-то рёбра, а может быть, потолочные балки, словно я попал не то во чрево китово, не то на большой чердак. Постепенно я успокаивался. Человек ко всему привыкает. Я даже начал насвистывать и строить фантомам рожи. Потом перестал – мысль о бессмысленности ходьбы и бесконечности лежащей передо мной дороги угнетала меня все больше. Но не стоять же на месте! Раз есть дорога, значит, надо по ней идти.
Закон движения придуман не мной, к чему мне ему перечить. Правда, может, следовало двигаться в другом направлении – в сторону их взгляда. Но поворачивать было поздно, я шагал в эту сторону уже час, не меньше.
Ряды фигур не кончались. Время от времени в воздухе раздавался негромкий пердящий звук, и там, откуда он шёл, пыль закручивалась в маленький смерч и в смерче появлялась фигура.
Почти тотчас же следом появлялась и пара. Они то падали вниз, чтобы занять положенное им человекоместо, то пропадали в тумане, когда чётников оживляли для отправки по месту вызова. Несколько раз пылевые столбы с фантомами появлялись вблизи меня, и я даже мог успеть добежать, но что-то меня удерживало. Не страх. Ожидание чего-то, чего я выразить словами не мог, предчувствие приближения к разгадке, от которой, может быть, зависела жизнь, может быть – судьба моя и моей беглянки.
Однообразные позы стойких оловянных солдатиков, выстроившихся по линиям в ряд, напомнили мне давнее развлечение. Если костяшки домино выставить в одну длинную очередь и крайнюю из них легонько толкнуть, все они повалятся с чудным стрёкотом, словно заработала бабушкина машинка «Зингер» или стрекозиное войско выступило в поход на врага.
Попробовать? Подойдя к ближайшему чётнику – это был щекастый субъект, похожий на князя Меншикова, – я тронул его за плечо. Тот тронуть дал. Тогда я его как бы случайно качнул. Он подался. Я качнул сильнее, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону и бежать. Очень уж всё это напоминало сцену свержения кумиров.
Чётник был тяжелый, как каменная половецкая баба. Он падал медленно, с неохотой. Крупный жёлтокожий кулак, прижатый к серой штанине, смотрел на меня с угрозой: «Ужо тебе, Галиматов!»
Физика победила мистику. Машина «домино» заработала. Они падали один на другого, передавая эстафету падений дальше и дальше, и скоро я перестал различать мелькающие вдали фигуры. И шум делался тише, но даже когда расстояние положило зрению предел, в ушах ещё долго стоял гулкий каменный грохот.
Игра в Алкивиада понравилась. Я двигался вдоль шеренг и, уже не примериваясь, без раскачки, толкал и долго смотрел, как катится по ряду волна. Сколько я положил тысяч – одному Богу известно. Должно быть, немало. Руки и плечи устали, натруженные ладони горели, от мелькания зарябило в глазах. Я толкнул ещё ряда четыре, и пар из меня вышел.
С полчаса я сидел в тишине и ждал, когда успокоится сердце. За мной далеко-далеко тянулись усеянные чётниками поля. Над полями висели мутные пылевые тучи.
И вдруг я услышал гул. Сначала тихий, приглушённый, как отдалённые громовые раскаты, он делался всё ощутимее, нарастал, брал на испуг. Причина его была скрыта туманом и расстоянием. Я поднялся, не зная, что делать. Бежать? Но куда бежать? Разве что спрятаться, затесавшись между каменных пугал. Но спрятаться я не успел.
Прятаться было не нужно. Грохоча и давя друг друга, издалека в моём направлении заваливался ближайший ряд. Когда последний (а для меня первый) из фантомов упал, выдавленный в проход соседом, до ума дошло наконец, что не одному мне в этом сонном царстве пришла в голову мысль – сыграть пугалами в домино.
Где-то там в другой бесконечности шёл по проходу такой же, как я, тринадцатый номер и мыслил моими мыслями. Гул повторился. Новый чугунный шар покатился по бесконечному жёлобу. И скоро очередной ряд лег, протянувши ноги. И ещё. И ещё. Потом гул затих.
Наверное, мой товарищ устал. Наверное, сидит в тишине и ждёт, когда успокоится сердце. Что ж. Пришёл мой черед. Я сменил его на посту и, бодро напевая «Дубинушку», толкал, работал руками, сшибая за рядом ряд.
Время полетело, как ветер. В моём безумии появился смысл. Я уже пожалел, что не начал крушить кумиров с того момента, как проник в это коммунальное стойло. И где-то там позади меня остались стоять на приколе мои любимчики с выключенными на время мозгами. Работая, я не забывал посматривать на туманные облака, но смерчей не заметил ни разу. Наверное, в материализации чётников настал обеденный перерыв.
Так мы вкалывали по очереди – то я, то мой неведомый сменщик. А в один из трудовых перекуров я почувствовал спиной холодок. По проходу дуло. Раньше я сквозняка не чувствовал.
«Ага. – Я смахнул с подбородка пот. – Кажется, близко выход».
И действительно, вдалеке белела одинокая точка. Я толкнул ещё один ряд, чтобы не чувствовать угрызений совести, и рысцой побежал на маяк.
Точечка впереди тоже не стояла на месте. Она подпрыгивала, как мячик, раскачивалась и заметно увеличивалась в размерах. Минут через десять бега в непоседливом светлом пятне стали проявляться признаки бегущего человека.
Навстречу мне бежал человек. Белела его рубаха, голова моталась из стороны в сторону, а черты лица были смазаны расстоянием, которое нас разделяло.
Я невольно замедлил бег, ощутив нормальную человеческую неловкость. Ещё бы. Бежит себе человек. Бежит спокойно, в белой рубахе. А тут навстречу ему несётся взмыленная незнакомая рожа. Почём бегущему человеку знать, что рожа принадлежит А. Ф. Галиматову, что Галиматов этот по натуре не агрессивен, без повода на людей не бросается, хотя и считается бомж.
Наверное, и у того, который бежал навстречу, возникли сходные причины притормозить. Он побежал медленно, потом ещё медленнее, потом остановился на месте и замер.
Челюсть у человека отвисла, глаза полезли на лоб. Он стоял и не знал – сон ему снится, или он добегался до галлюцинаций, или в самом воздухе фантомохранилища рассеяны микробы болезни, и его пора забирать отсюда и прямиком отправлять на Пряжку или же в Скворцова-Степанова.
Он видел во мне себя. То есть это я видел себя в нём – с такой же отвислой челюстью, похожей на оторванную подошву, с редкими сточенными зубами, в рубахе капитулянтского цвета и в заигранной сучьей жизнью полинялой гармони брюк.
Про зеркало я подумал тогда, когда скрёб на губе щетину, и мой близнец впереди, как и я – яростно и жестоко, – заработал пятипалой скребницей.
Мы стали сходиться, словно соперники на дуэли. Ступая неспешно, но твёрдо, сосредоточенно считая шаги и бросая один другому кислые настороженные улыбки. Первый выстрел достался ему. Он целился спустя рукава и наконец выстрелил.
– Сдается мне, Галиматов, ты как был всегда прощелыгой, так прощелыгой и помрёшь.
– Это почему? – Я выпятил костистую грудь.
Нахал мне ответил:
– Вот ты потел, кряхтел, а посмотри, Сизиф Фёдорович, на результат своего труда.
Я посмотрел вперёд за его плечи. Там белели, желтели, скалились неподвижные лица чётников. Их фигуры стояли ровно, сверяясь с невидимой вертикалью, и так – за рядами ряды, исчезая в складках тумана. Я обернулся. Все фигуры, которые я с потом и ломотой в суставах повалил одну на другую, стояли как ни в чём не бывало – затылок в затылок, пятки вместе, плечи развёрнуты. Ни дать ни взять – царство идеальных коммунистических отношений, о котором радели умнейшие умы человечества.
Он стоял передо мной и то ли плакал, то ли смеялся. Взахлёб, навзрыд, как в дешёвых мелодрамах страдает оскорблённая добродетель.
Я тоже покатился со смеху. Не от досады – какая в гробу досада, – просто подумал про незнакомого бедолагу-помощника, поделившего со мной пот и труд.
Я спросил:
– Тот, который мне помогал, он кто?
– А-а, этот-то? Такой же прощелыга, как ты. Тоже бомж, и фамилия у него твоя. И имя, и отчество, и походка. И родинка на левом плече. Про возраст я даже не говорю. Он – это ты и есть, ему тоже не повезло.
– Тоже – ты имеешь в виду себя? Ты действительно моё зеркальное отражение?
– Эх, Галиматов, Галиматов! Дорого бы я дал, чтобы никогда им больше не быть.
– Ладно, я устал, я брежу, у меня сотрясение мозга. Но это мрачное место… Где я, чёрт побери?
– Где – это одному Богу известно, а я не Бог. Может быть, в собственном зеркальном гробу, может быть, в месте, где рождаются сущности. Я не знаю. А может статься, и в пропасти под обрывом, куда Христос когда-то сбросил свиней.
Я вздохнул и сел, обхватив голову руками. Отражение сделало то же.
– Загадки я и сам загадывать мастер. Скажи мне лучше, как отсюда выбраться?
– Зачем? Подвал сгорел. Живи здесь, места хватит. Да и не так тут тоскливо, это с непривычки душа твоя ерепенится. А поживёшь – привыкнешь. Все привыкают.
– Не хочу ни к чему привыкать. Я очень устал. И наверху у меня дела.
Мы развели руками – я и одновременно он. Двойник сказал:
– Вольному – воля. Перечить я тебе не могу. Подойди ко мне, я покажу, где выход.
Странно было видеть перед собой себя. Неужели я такой старый? Щетина – и та седая. И мешки под глазами, как будто накачали чернил. На шее прыщ – тьфу ты! – розовый. Кожа дряблая, как у ощипанного индюка.
Рука, не справившись с искушением, ладонью прикоснулась к ладони – моей к его, но, кроме холода ртути, кожа ничего не почувствовала. Ни теплинки. Я отдёрнул руку – от холода внутри погорчало. Мы пожали плечами. Я и он.
– Значит, будем прощаться? – Грусти в его голосе не было. Он посмотрел мне в глаза. – Всё-таки в нашей встрече был толк – родственники должны иногда встречаться. А теперь – смотри. Дверь здесь, где я стою. Её не видно, но это неважно. Запоминай. Пуговицы на моей рубашке, их четыре. Сначала нажмёшь на вторую, если считать от ворота. Потом на ту же вторую и одновременно с ней на четвёртую. Такой шифр на дверном замке. Только не перепутай.
Вторая и вторая с четвёртой.
14. Приключения кончаются
Я так вдавил её в грудь, что пуговица разломилась. Прозрачные половинки упали, и я, пока их искал, позабыл от растерянности, на что нажимать дальше. Тогда я ткнул наугад, по пальцу ударило током. Я вздрогнул и посмотрел вперёд.
Младенец лежал в пещерке, в тёплом овечьем хлеву – лежал и шлёпал губами. В углу стояла жаровня, звёзды за откинутым пологом дрожали в воловьем дыхании и были похожи на отлетающие от тела души.
Трое забредших на тепло путешественников – еврей, вепс и татарин – склонились и молча смотрели, как хлопочет над младенцем старуха. Как вода в медном тазу плещется под её рукой и стекает по морщинистой коже. Тут же лежала мать – на топчане на овчинах, лицом спрятавшись в шерсть. Мать спала. Дитя ручонками всё пыталось отбросить неплотный край пелены, старуха охала и ворчала, и в ответ на её ворчание у стены шевелился пёс.
– Девочка. Царицей будет, – сказал белозубый татарин. – За царя замуж выйдет.
Вепс и еврей кивнули, и все трое заулыбались. От тепла, от выпитого вина, от пропахшей шерстью овчарни, от пахучего марева над углями их давно разморило, бороды падали на колени, а глаза стекленели от сна.
– Московское время – ноль часов пятнадцать минут, – негромко сказало радио.
– Ночь, – сказал Валентин Павлович, показываясь из-за книжного шкафа.
Бороды, соглашаясь, кивнули.
– Ночь. Ночь.
Валентин Павлович подошёл к младенцу и дал ему пожевать мизинец. Потом поправил на спящей Наталье одеяло.
– Спать. Спать пора.
Бороды стали меркнуть, и вся комната стала меркнуть. Недолгое время в темноте ещё теплились малиновые угли – то ли в жаровне в пещере, то ли в небе над спящим городом.
Я протянул к ним руки, тронул и не обжёгся. Это были холодные блёстки пуговиц на рубашке у моего близнеца.
– Мне за тебя стыдно. Любой дурак справляется с этим шифром. Павловская собака справилась бы. – Он почесал в затылке. – Ладно, давай сначала. Нажимай, я буду показывать.
Появилась дверь, но какая-то странная дверь. Вся перекошенная, среди выгоревших обоев стены она казалась случайной деревянной заплатой, наложенной пьяным плотником. Да и сама стена подгуляла. Прямые линии шли на скос, параллели были не параллельны – геометрия бунтовала. Потом изображение поехало, словно невидимая рука подкручивала ручку настройки. Перспектива стала выравниваться. На середину комнаты проковылял стол, над столом нависали плечи старого человека. Что-то он за столом делал, что – было не видно, мешала спина. Вместе с тем точка обзора, из которой я наблюдал картину, постепенно сместилась вверх. Теперь я как будто смотрел из угла под потолком комнаты.
Сцена сделала разворот, и мне открылось то, чем занимался старик. Перед ним на грязной клеёнке лежало разобранное ружьё. Руки человека блестели от ружейного масла, он макал палец в банку и смазывал им затвор. Когда со смазкой было покончено, человек отёр тряпкой ладони и, взяв со стола длинный кусок проволоки, принялся прочищать ствол. Вдруг он крикнул куда-то вбок:
– Пистон! Когда ты в последний раз стрелял из своей ижевки? Ты её что, в землю от мусоров закапываешь?
Не таким уж он был и старым, этот человек за столом, – лет шестидесяти, не больше. По виду типичный банщик, гардеробщик или швейцар – гладколицый, седой, с мясистыми белёсыми глазками, надо лбом, не узким и не широким, плоская слюдяная плешь. И в плеши отражается лампочка. Работа, которой он занимался, ему явно не шла. Такому стоять при дверях или заведовать вешалками, сортируя пальто и шляпы.
– Ты там оглох?
С ружьём было покончено. Человек взял его в руки и прицелился, низко опустив ствол. Только сейчас я заметил чёрный квадрат в полу.
– Зятёк.
Из открытого подпола показалась рука с фонарём. Человек у стола продолжал целиться.
– Зятёк, чего ты там столько времени делал? Дрочил?
Рука оставила фонарь на краю. Потом из люка показались знакомые голова и плечи.
Пистонов вылез наполовину и теперь висел, упёршись руками в пол. Увидев ружьё, он пошёл белыми пятнами, и пистоновское лицо по масти стало напоминать серую в яблоках лошадь. Он тужился что-то сказать, но сказать не мог – язык залепил рот изнутри, и словам не было выхода. Бывший же пистоновский тесть, тот, наоборот, говорить мог вполне, что и делал, поглаживая прикладом щёку.
– Повиси, Серёжа, пока. Может, больше и не придётся. Я пока чистил твою ижевку, вот о чём подумал. Чем ты их лучше, Вальки и Галиматова? Ну чем? Может, мне тебя шлёпнуть и на этом успокоиться? Сам посуди. Ты мне никто, чужой. Пара? Плевал я на такую пару, как ты. Залупанцев я не боюсь, чего мне говна бояться. Я и НКВД не боялся, и КГБ. У меня с органами – полный порядок, с органами я лажу давно уже. Вот я тебя и шлёпну. Раньше я, может быть, ещё и подумал бы, когда ты с Тамаркой жил. А теперь – где Тамарка? Ты же её, зятёк, по рукам пустил. Через тебя она потаскухой стала.
Концом ствола Повитиков нарисовал в воздухе крест. Пистонов дёрнулся, но висеть продолжал. Он боялся, что попытка скрыться в подполье будет расценена как попытка к бегству и пресечена огнём.
– Не дёргайся, зятёк. Повиси. Ты ж гимнаст, тебе висеть одно удовольствие. Знаешь, из-за чего я когда-то заварил кашу с Валькой, соседом? Смешно сказать. Из-за его комнаты – одиннадцать метров. Мне она была нужна, я хотел дочку у себя прописать: думал, кончит Тамарка школу, уйдёт от стервы мамаши, моей бывшей жены, и – ко мне. Она ж меня, Тамарка, любила. Я ей, как праздник, так то трёшечку, то пятёрку, чтобы помнила, что есть у неё отец. А теперь, без Тамарки, зачем она мне нужна, эта комната? Я и с Валькой-то воюю больше по привычке, от скуки. Потом, у Вальки баба вон с пузом, не сегодня-завтра родит. Где он её пропишет? У себя и пропишет: и получится у них три человека на одиннадцать метров. Встанет Валька на очередь, и лет через пять будет у Вальки квартира. И комната всё равно мне достанется.
Повитиков грустно вздохнул, тяжело опустился на стул и словно забыл про висящего между жизнью и смертью Пистонова. Ружьё он упёр в пол и, сцепив на стволе пальцы, положил на них подбородок.
Пистонов пошевелился. Повитиков не обратил внимания. Пистонов пошевелился опять. Повитиков на него не смотрел. Пистонов осторожно, чтобы не зашуметь, подтянулся и теперь стоял на четвереньках в позе сомневающегося кобелька.
– А этому своему физкультурнику… – сказал Повитиков и грохнул прикладом об пол. Пистонов упал на живот и завертелся по полу, как половинка перерубленного червя, подумав, что ружьё выстрелило. Потом, убедившись, что жив, отполз обратно и снова повис над люком. – А своему физкультурнику, – повторил Повитиков грозно, – можешь от моего имени плюнуть в рожу. Кто он там в вашем военно-патриотическом клубе? Да кем бы ни был, хрен с ним, я всех этих придурков наизусть знаю. Я же сам когда-то боролся с космополитами, уж мне ли не знать, кому это пустозвонство надо. Скажи ему, в другой раз пусть поищет дурака помоложе. У меня хоть и штырь в ноге, хоть мне тоже не всё равно – летом идти снегу или зимой, – но людей гробить я из-за него не хочу. Я вообще никого убивать не хочу. После того случая у витрины мне смотреть тошно, как из человека идёт кровь. Вылезай, Пистон. Не буду я тебя убивать. Живи.
Он бросил ружьё на стол и вытер о колени ладони.
– Пистон, – сказал он устало, – завтра на дачу не приезжай. Приезжай в понедельник. Привези водки – вот деньги – и корму рыбкам насыпь. Ключ я тебе дал.
Зеркальный экран погас, и на нём, как на фотографической карточке, проявилась постная физиономия двойника. Двойник меня презирал. Он сказал:
– Хорошо. Раз руки растут не оттуда, я сам открою. Прощай.
15. Прощание
Тропа петляла между кочками с жёсткой травой, вилась среди заросших орляком плешей. Лес был редок, местами чёрен от прошлогодних пожаров, и в тяжёлом от влаги воздухе ощущалась гарь. Стал накрапывать дождичек, и сделалось совсем грустно.
Осень почти, август кончается. Подвал разрушен, скоро ударят холода. Нужно искать крышу и думать о будущем. А ни думать, ни искать не хотелось.
Я шёл по тропе, разглядывая грустные виды.
– Привет.
Её голос ворвался в мой мозг, как в комнату врывается ветер. Я ждал этого голоса, но холодные мысли об осени выморозили предощущение встречи. Я вздрогнул. Она висела, не касаясь земли, и деревца подлеска казались тонкими нитями, удерживающими её от полёта.
Я не мог ничего понять. От ограждения остались редкие покошенные балясины. Не было ни скамеек, ни лесенок, ближний край был разрушен – на согнутых прутьях белели уродливые куски бетона. Я её не узнал.
– Что случилось? Кто тебя так?
– Пустяки, – сказала в ответ беглянка. – Когда я спешила тебе на помощь, с военного аэродрома под Сиверской мне вдогонку подняли два истребителя. Еле удалось увернуться.
– По тебе стреляли?!
– Да нет. Я тоже думала – неужели они откроют стрельбу? На каждом самолёте по две крылатые ракеты, они бы меня на кусочки разнесли. Ты знаешь, мне всё равно – хоть взорви водородную бомбу. Но под нами были поселки, дачные домики. На полях работали люди. Страшно. А это – то, что ты видишь, – от удара о железнодорожный мост. Я немного не рассчитала, и на тебе – полюбуйся.
– Да-а!
Наступили ранние сумерки. В августе темнеет быстро, и от хвойных стволов по поляне поползла вечерняя тень.
– Если за дело взялись военные, то успокоятся они теперь не скоро.
– Пёс с ними, с военными. Я решила, то есть мне пришла мысль… Одним словом, существует одно местечко. В области Предсмертья, но это ничего не значит. Лично мне даже нравится постоянно жить под угрозой.
– Да, в этом есть своя прелесть. Как у Эдгара По, когда пленник лежит под опускающейся секирой. Интересное состояние, мне как бомжу по профессии такое состояние знакомо.
– Я знала, что ты будешь согласен.
– Конечно, почему нет? Маленькое уютное местечко. Мечта! Но… Ты помнишь о моём предложении? Насчёт сиротки? Ты согласна?
– Саша, Сашенька. Дурачок. Если бы я не была согласна, на черта нам с тобой куда-то тащиться? Залезай, будем прощаться с твоим негостеприимным домом. В нём всё-таки есть места, с которыми хочется попрощаться.
16. После прощания
Мы проживаем в Раю.
Здесь тихо, как на Земле, которую оставили люди.
Мы здесь одни.
1991–2014
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































