Текст книги "Жизнь же…"
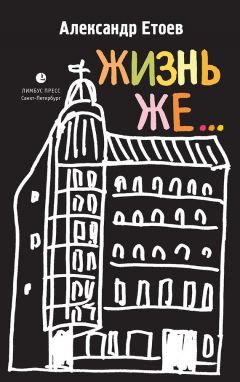
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Товарищ маузер
(«Человек из паутины», отрывок, не вошедший в роман)
– Мне бабка-покойница говорила, что если в День приёмщика стеклотары оставить на дне бутылки чуток вина и поставить потом бутылку рядом с диваном, то за ночь в неё все клопы в квартире сползутся. Главное, потом вовремя её пробкой заткнуть: пьяный клоп – существо опасное, кусает не разбирая, – сказал щуплоусый парень, до этого не проронивший ни слова. Рыжий фильтр скуренной сигареты в его губах плавно переходил в рыжую щетину усов.
– Хорэ, Степанов, про насекомых-то! – остановил его Феликс Компотов-старший, начальник пункта. – Ты б нам ещё про говно что-нибудь рассказал. Люди ж празднуют, так ведь и сблевануть можно.
– Здравствуйте всей честной компании, – раздалось от двери, которая выходила на двор. – Гостей принимаете?
– Если гость не татарин, почему нет? – прищурившись, сказал начальник пункта Феликс Компотов-старший.
– Не бойся, не татарин – еврей, – ответил на шутку гость. – Пускаете? Ну тогда спасибо.
– Спасибо на комод не положишь, – сказал Глюкоза.
– Не бздеть горохом, у нас с собой. – И вошедший потряс портфельчиком, ответившим бутылочным звоном. – Зато какого я вам гостя привёл.
– Ну-ка, ну-ка, интересно, какого же? – мгновенно заинтересовался Глюкоза.
– Интересно, какого же, ну-ка, ну-ка? – разделил его интерес начальник.
– Знакомьтесь. – И с жестом фокусника, вытряхивающего из рукава ворону, вошедший посторонился, и празднующему праздник народу предстал кудрявый безбородый черноглазый молодой человек с еврейскими чертами лица.
– Что за хрен с горы? – удивлённо спросил Глюкоза.
– Саша Маузер, – представился компании черноглазый. – Поэт.
– Поэт! Так и знал, что Витька если уж кого приведёт, так это будет или дама с вокзала, или другой поэт. – Глюкоза восхищённо икнул и показал Маузеру большой палец левой руки – правую занимал стакан. – Свояк свояка видит издалека.
– Короче, начинаем культурную часть программы, – сказал Феликс Компотов-старший. – Один лезет на столб за сеткой с пол-литрами, другой катит с горки бутылку. Кто первый?
– Ты не понял, – сказал Витька, который привёл поэта. – Сашка Маузер бабу свою в Москве поимел на памятнике Пушкину на Тверском бульваре при всём народе.
– Это был чисто концептуальный акт, – поправил Маузер Витьку. – Помешал мороз. Не встал, в общем.
– Саша не пьёт, – строго предупредил публику Витька, ловко перехватывая стакан, протянутый Маузеру Глюкозой. Затем он вынул трёхрублевую зажигалку, продезинфицировал в пламени край стакана и шумно выпил.
– Как это? – скрипнул ящиком сражённый подобной новостью наповал Глюкоза. – Вообще не пьёт?
– Раньше пил, теперь – нет, – сказал Маузер. И добавил: – Чисто концептуальный акт.
– А-а-а, – протянул Глюкоза. – Я думал печень там, селезёнка.
– Он в Лондоне, когда в гостинице поселился, вывесил на двери табличку: «Здесь пьёт русский поэт Александр Маузер». – Сказав это, Витя, тоже русский поэт, вытащил из портфеля водку и оранжевую связку сосисек. – И не выходил из номера до самого самолёта. А в Париже, в гостинице, он всех мраморных негров на лестнице вниз в вестибюль порушил.
– Чисто концептуальный акт, – кивнул, подтверждая, Маузер.
– Я тоже, когда в Ригу в командировку ездил, трое суток квасил, не просыхая, – радостно сообщил Глюкоза. – Так жена мне два рулона туалетной бумаги в чемодан положила. Главное, непонятно – зачем.
Феликс Компотов-старший вяло трогал клыкастым зубом вяленого кальмара. Он впол уха внимал рассказам, но лишь дело коснулось вопросов пьянства, сразу же включился в дискуссию.
– Лично я считаю, – сказал он тоном непререкаемым и колючим, – что пора начинать постепенное свёртывание выпуска водки, вводя в дело вместо неё такие источники дохода, как телевидение и кино. Мой Федька во втором классе после фильма «Старик Хоттабыч» стихи сочинил:
В пещере далёкой живёт одиноко
Зелёный колдун Алкоголь:
То он одурманил, то он, упоитель,
Рабочего путь не на правый повёл.
– Есениным будет, если по правильной дорожке пойдёт, как папа, – сказал Жмаев, сапожник.
– А ещё мы с ним когда вместе задачки по математике решаем, то выбираем не чтобы там про какую-нибудь трубу, из которой что-то там втекает и вытекает, а выбираем задачи правильные, чтобы в задаче была мораль. Вот, к примеру, такая. В России с тысяча девятьсот девяностого по тысяча девятьсот девяносто пятый год ежегодно умирало от пьянства шесть тысяч четыреста сорок шесть человек. За то же время двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят пять человек погибло жертвами преступлений. Во сколько раз число людей, убиваемых алкоголем, больше числа людей, ставших жертвой руки преступника?
– Лобачевским будет, если по правильной дорожке пойдёт, как папа, – сказал Жмаев, сапожник. – Ты возьми, к примеру, меня, – добавил он, выпивая и не закусывая. – Поставь меня министром алкогольной промышленности, я бы первым делом что приказал? Я бы первым делом приказал пробки на бутылках закупоривать таким манером, чтобы хрен кто смог на улице бутылку открыть. Только дома, только на глазах у семьи и, конечно, с помощью специальных приспособлений. А ещё я бы горлышко на бутылке сделал такое узкое, чтоб опять же трудно было из неё водяру сосать.
– Вкусно, дёшево, питательно – пейте водку обязательно! – с кривой ухмылкой продекламировал вдруг Глюкоза. – Не с водкой надо бороться, а с кефиром! Кефир – вот главное зло. С его помощью в стране уже много лет совершается преступное алкопрограммирование детей. Академика Углова читать надо! У него вся правда про кефир сказана.
– Бороться надо не с этим. – Маузер спокойным движением убрал со лба смоляную прядь. – Бороться надо с богатыми и с теми, кто лижет богатым жопу, с их шестёрками и прихлебателями. Все они работают на капитализм в его поздней стадии. Я их всех ненавижу, включая разжиревших на разбазаривании страны демократов.
– Вешать гадов! – сказал Глюкоза и выпил стоя, ни с кем не чокаясь – видно, за упокой.
– Нет, не вешать, – ответил Маузер. – Во-первых, всю эту сволочь не перевешаешь. Во-вторых, экстремальные методы вызывают жёсткие ответные меры. На террор власть отвечает террором. А нас мало, и мы лучшие. Уничтожат нас – кто останется? Та же сволочь и останется в результате. Власть нужно раздражать, а не угрожать власти. Надо ей сопротивляться культурно. Я разработал пятьдесят четыре технологии культурного сопротивления власти в эпоху позднего капитализма. Технологии простые, они доступны каждому. Это обквакивание, обулюлюкивание, обкукарекивание, забрасывание яйцами и вообще всяческое обсирание противника, как это делали когда-то театральные клакеры. При этом важно, чтобы ваше концептуальное кваканье не переходило из области неприятных, раздражающих звуков в область эстетики. Обквакивание должно вызывать гнев и ненависть тех, кого вы обквакиваете. Каждое последующее кваканье должно быть агрессивнее предыдущего. Понятно?
– Понятно, – сказал Глюкоза. – А есть среди этих твоих пятидесяти четырёх способов такой, как насрать в ботинок?
– Есть. Технология номер пятнадцать.
– А перделка с дистанционным управлением есть?
– Перделки нет, пержу я обычно в рупор.
– Можно, я почитаю? – сказал Витя, тоже поэт. – В тему, – добавил он и начал нервно, не дожидаясь согласия окружающих:
Нравы ужесточились,
А зубы уже сточились…
Он вдруг резко оборвал чтение и потянулся к едва пригубленному стакану.
– Поэт должен жить хорошо, – хмуро произнес он. – Идеальное государство поэтов и вообще людей творческих – это когда у тебя «ягуар» последней модели, личный шофер, коньяк, красивая женщина…
– Витя, заткнись, пожалуйста, пока бутылкой по лбу не отоварили, – не дал ему домечтать Маузер. – Мир должен быть полуголодным, только это состояние обеспечивает творческую активность.
– Слушай, а не твои орлы протаскивали через Думу законопроект о минимальной потребительской корзине? – спросил Маузера Феликс Компотов-старший, услышав фразу про полуголодный мир. – Мы с мужиками охреневали, когда читали. По нему любой российский мужчина должен обходиться пятью парами трусов в течение двух лет, одной майкой – в год, одним свитером – в пять лет, одними брюками – в четыре года, четырьмя парами ботинок – в пять лет, а верхнюю одежду менять в девять лет раз. Женщине же необходимы пять пар трусов и шесть колготок на два года, два бюстгальтера на три года, одна юбка и одно платье на пять лет.
– Не понимаю, при чём тут это? Жирным можно быть как меняя каждый день по паре ботинок, так и нося весь год единственные трусы. «Жирный» – это состояние, а не форма. Я хочу организовать общественное движение «Идущие на» – движение против литературы для жирных. Против всяких там Марининых, Тополей и Незнанских, Аксёновых, Сорокиных, Ерофеевых… Все они отожрались на читательском интересе, профессионально засирают людям мозги, уводят их с дороги борьбы в гнилое болото конформизма. Мы их книги будем жечь на кострах на всех площадях страны.
Витя слушал его внимательно, потом сказал:
– Я – Иванов, натуральный русский, из самых простых Иванов. Не из тех, которые с ударением на втором слоге, все эти занудствующие интеллигенты с «Явлениями Христа народу», семиотикой и «Бронепоездом», к счастью, не помню номер.
– Три шестьдесят два дробь четыре двенадцать, – шутя, подсказал Глюкоза.
– Наверное, – согласился Витя. – А ты, Маузер, ты же натуральный еврей, почему же ты против зажравшихся буржуев выступаешь? Вы же, евреи, народ богатый. Получается, ты против своих идёшь?
– Мои «свои» – это ты, это Вовка Гандельсман, это Геша Григорьев, это Борька Рыжий, это любой поэт, если он, конечно, не «Евтушенко» в собирательном смысле этого протухшего имени. А те, кто правит литературным балом, все эти нобели, букеры, антибукеры и прочие хреновы приживалы, – это, Витя, для меня не свои – чужие. Я принципиально против любых кумиров. Вот ты, Витя, ты когда-то был поклонником Боба Дилана, битлов, роллингов, цеппелинов. Тех ребят, чьи песни и музыка влияли на души твоего поколения. И что в результате? Кумиры наварили на поклонниках деньги, зажрались, стали богатыми, а те, для которых эти песни сделались откровением, чем-то вроде Евангелия или Бхагаватгиты, сейчас или наркоманы, или бомжи, или просто давно подохли… – Подохли, – грустно сказал Глюкоза. – Стасик, мой сосед по первой коммунальной квартире, на трещотке играл в джазе на Таракановке, у него магнитофон тогда был единственный на всю нашу Прядильную улицу, всё у него было – и Чеби Чекер, и «Эй, мамбо», и битлы. По ночам они с друзьями джаз и буги на костях записывали. Короче, помер Стасик, шёл мимо стройки пьяный, видит, ведро вара на костре греется, ну, этого, которым трубы обмазывают, так он непонятно за каким хреном взял ведро и домой его припёр, в коммуналку. А ночью дело было, свет в коридоре Стасик включать не стал, чтобы, значит, не разбудить соседей, а там, на полу, поперёк всего коридора дядя Петя лежал Майоров, сосед Стасика, спал. Дядя Петя, когда пьяный, всегда в коридоре спал, потому что жена его, тётя Таня, дядю Петю пьяного в комнату не пускала. Стасик в темноте-то об дядю Петю-то и споткнулся. А у Стасика же в руке ведро. Вот весь вар у Стасика из ведра и на пол. Ну а утром Стасикова жена Тамарка по нужде пошла в туалет, из комнаты выходит и видит – спит её супруг бездыханным сном, мордой в смоле утопший. А рядом дядя Петя храпит. Их потом с дядей Петей от пола чем только не отдирали, одного живого, а другого, то есть Стасика, – мёртвого, вечная ему память. Потому что дядя Петя лежал в смоле ртом-то кверху, а Стасик, наоборот, ртом вниз – оттого он и помер, что захлебнулся.
– Да, – сказал Александр Маузер, выслушав его печальный рассказ. – Великая трагедия всех праведников и пророков состоит в том, что общество востребует их в какой-то определённый момент истории. Потом они, увы, уже не нужны. То есть потом их изучают как явление культуры, но не как властителей дум и генераторов общественного движения. Я вот, например, когда на Красной площади публично обоссал Мавзолей, то мне рукоплескали толпы студентов и интуристов. И по телевидению меня показывали, по НТВ. И в газете «Аргументы и факты» интервью со мной было. Про меня даже Зюганов в Думе матерными словами высказался: «Эту гадину, посмевшую посягнуть на главную святыню народа, давно пора утопить в сортире».
– Да, приятель, навёл ты шороху, – сказал Феликс Компотов-старший. – Это тебе не два пальца обсосать, Мавзолей-то.
– Вспомним Галича, Солженицына, – продолжал Маузер вдохновенно. – Современное поколение одних просто не знает, к другим относится исключительно как к предметам археологии, не принимая их во внимание ни на грош. Отсюда-то вся беда политизированной беллетристики – в том, что она заранее не ориентирует себя на времена будущие. Вернее, так: она считает, что гнусное настоящее будет тянуться вечно. Возможно, в этом есть особый провидческий смысл – так думать. Мы не знаем, что будет со всеми нами через пятьдесят лет. Возможно, грядёт утопия, возможно, новый прекрасный мир, как у Хаксли. Поэтому нужно не политизировать своё творчество, а наоборот – аполитизировать, выносить себя за скобки любой системы, если её точит червь духовного загнивания…
Маузер вдруг замолк и устало опустил голову. Вдохновение его оставило. Словно мячик, продырявленный хулиганом, он обмяк и опустился на ящик. Глаза его уже не светились, а тоскливо оглядывали компанию. Он словно искал кого-то, но этот кто-то надёжно спрятался среди фасов, профилей и затылков выпивающих и закусывающих людей.
– Устал, – сказал он, встретившись взглядом с Витей. – Гриша… Петя… Сережа… – Губы его вяло перебирали список мужских имен и почему-то не находили правильного.
– Витя, – подсказал ему Витя.
– Витя, налей мне водки.
– Саша, но ты же…
– Водки! Я сказал – водки!!!
И, не дожидаясь ответа, он взял чей-то недопитый стакан и махом опрокинул его в себя. Затем встал и нараспев произнёс:
– Если кто отвергает Квинтия, тот да усядется гадить рядом с ослом.
После этого походкой патриция, покидающего отвергнувшее его собрание, Маузер последовал к выходу.
За Маузером грохнула дверь, но ещё долго все сидели, не шелохнувшись, лишь на солёной губе начальника, когда он открывал рот, дрожало кальмарье щупальце.
Жизнь вечная
В детстве звёзды были белыми и высокими. Бабка говорила ему: вышел сеятель сеять, бросил семена в землю, а ветер поднял их вверх и разбросал по небу.
В тот год правил голод, хлеба не уродилось, и бабка померла к декабрю.
Шло время, звёзды тускнели. Скоро они сделались совсем тусклыми, как глаза, и ближе не стали.
Блеснула молния. Вдали полыхнуло, за рекой загорелся дом.
«Библиотека».
Седой смотрел, как жёлтая россыпь искр поднимается, закручиваясь в спираль. Настойчиво запела сирена. Звук был долог и безнадёжен, так воет умирающий зверь.
Седой повернулся спиной к пожару, на него напала тоска.
«И сегодня никого».
Жёлтые пальцы вытянулись щепотью, заскрипела сухая кожа. Он принюхался – из-за реки потянуло гарью.
«Сколько до срока? День? Два?»
Похоже, он запутался в счёте.
С мысли его сбил шорох.
Седой прислушался, звук был непонятен. Он задел сердце, и в груди шевельнулась боль.
«Сегодня, значит».
Он обернулся. Из короткой чёрной травы, разлившейся по земле от дороги, от забора, из полосатой тени на него смотрели глаза. Синие пятна глаз, жидкие, как газовые горелки. Потом пятна погасли, но не успел он сделать и вдох, вспыхнуло белесое пламя. И сразу ударил гром.
Седой отпрянул, упал, кожей виска почувствовав пролетевшую в миллиметре пулю.
– Испугался? Я целился мимо, проверял твой страх, жив он у тебя или умер.
Седой растер ладонями по лицу смешавшийся с грязью пот, выплюнул изо рта кислую земляную кашу.
– Живой, – произнес он хрипло. И повторил, словно себе не веря: – Живой?
– Страх жив, – сказал невидимка.
Там, откуда он говорил, трава раздвинулась в стороны, и земля будто выдохнула. Приминая траву, по земле прошла холодная струя воздуха. Она обдала ноги от ступни до колена, и Седой ощутил на коже мягкие электрические уколы.
– А сам ты? Готов? Ты ведь ждал меня. Ждал ведь?
– Нет. – Седой покачал головой.
Он солгал. Голову обложило, и язык еле ворочался. Он посмотрел на ноги и увидел, как по складкам мятых штанин залегли голубые змейки. Они то вспыхивали, то потухали медленно, то сползали и исчезали в траве. Самого тела Седой не чувствовал, не было тела. Чувствовал землю, жгущую сквозь подошвы, какая она зыбкая, словно ему не родная, словно он не родился на ней давно, семьдесят лет назад, и не доживал худо-бедно отпущенный Богом срок.
– Я не ждал, я крышу чиню. Железо совсем прогнило.
Рядом с домом у крепко сколоченной лестницы широкой белой стопой лежало кровельное железо. Неподалеку валялись сбитые с крыши ржавые покорёженные листы. Они упали прямо на огород, примяв густую ботву и обсыпав землю ржавой окисной крошкой.
– Надо менять, прогнило. Ты хозяин, Седой. Хороший хозяин, крепкий. И дом у тебя крепкий, вон какой дом. Сто лет простоит, ещё и тебя переживет.
Седой хмыкнул. В чёрной дыре на его лице не было ни одного зуба. Он всё пытался как-нибудь ненароком, искоса взглянуть на того, кто с ним говорил. Любопытство сильнее страха. Страх, он живёт всегда, к нему привыкаешь, как привыкают к боли, к чужим смертям и тупому каторжному труду.
«Скорей бы уж, – думал он. – Раз пришёл, чего зря болтать».
– Давай! – крикнул он зло и, набрав горькой слюны, плюнул в тень от забора. – Обещал ведь.
– Спешишь, Седой, не спеши. Чего другого, а времени у нас хватит. Время – это моё хозяйство. Самый главный начальник лично поручил мне его, знал старик, бухгалтерия у меня строгая.
«Болтун. – Седой поморщился недовольно. – И там одни болтуны. Меня бы к вам в своё время».
Он погладил под рукавом плечо. Плечо было твёрдое, словно корень, и под кожей шевельнулся бугор. Топор лежал близко, в траве.
«Попробовать, хуже не будет. Самое худшее – это смерть, а смерти я не боюсь. Пусть. Интересно даже, выстрелит он опять или нет».
В небе гулко загрохотало. Гроза гуляла над городом и задымленным серым краем налезала на заречную часть. Здесь было темно, а там, над городом за рекой, темень стояла адская. Лишь языки пожара вырывали по временам из тьмы скользкие от дождя крыши да молнии норовили попасть в высокий крест колокольни.
Здесь, в Заречье, на безлюдной окраине города, где одиноко, словно на выселках, стоял дом Седого, тучи были пореже и дождь не шёл. Редкие тяжелые капли ударяли в пыль за забором, и над дорогой взмётывался фонтан. Метрах в трехстах, за лугом, за полосой шоссе тучи брюхом приминали деревья, лес шумел, мрачнея и негодуя.
Седой шевельнул рукой и потянулся в сторону топора. Голос в траве молчал. Седой нагнулся, взялся за топорище, выхватил топор из травы. Из тени у забора ни звука. Потом трава заходила, и раздался глухой смешок.
«Видит».
Рука Седого с топором опустилась.
– А что, Седой, – голос зазвучал громко, будто говорили возле самого уха; трава у забора вздыбилась и почти сразу опала, – топором тебе когда-нибудь приходилось работать? Не пулей, а топором?
Седой выпрямился растерянно, топор сполз в сырую траву.
– Говори… – начал он и тут же позабыл, что хотел сказать дальше.
Всполох от грозовой зарницы докатился до края леса. Лес окатило светом, синяя полоса шоссе высветилась и пропала. Где-то у реки близ моста сквозь бормотание туч негромко запел мотор.
В траве у забора молчали, потом голос сказал:
– Мне интересна ваша порода, Седой. Не ты, а вообще – вы все. Такие, как ты. Мне с вами легко, что ли. С другими трудно, а с такими, как ты, – легко. Седой, ты мать свою помнишь?
«Бога проси… Бога проси… – застряла в голове у Седого прокравшаяся из детских снов старая бабкина приговорка. – Бога… Бога…»
«К чёрту!» – Он повернулся спиной к забору и сделал шаг в сторону дома.
«Плюну, пойду, ничего не будет, – остановился он, сгорбившись. Нога зацепилась за топорище. Седой покачнулся, но не упал. – Нет, нельзя уходить. День сегодня такой… Мой день. Всё ради этого дня. А я – уходить».
Всё-таки он подошел к серой громаде дома, ногой подбил на крыльце вылезшую из паза ступеньку.
«Худо, надо чинить».
На голову из-под навеса полетела труха. Седой протёр ладонью глаза. Странная мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на собачью будку, которая стояла в углу двора между крыльцом и домом, ветхая с позеленевшими досками и старой, латаной крышей.
«Волк, он что, помер?»
Пёс был моложе своей конуры, но по собачьим летам – старик. Приблудным мокрым щенком залез он как-то ранней весной в конуру, где и духу-то песьего не было, почитай, лет двадцать. Седой тогда его не прибил, просто забыл про мелко поскуливающего кобелёнка, а когда от конуры завоняло, он сжалился, бросил кость. С тех пор прошло много лет, сколько – Седой не считал.
Он тихо подошёл к будке и, с трудом сгибаясь, заглянул в тёплую собачью дыру. И чуть не упал, отпрянув. Из чёрного круга прямо ему в лицо смотрела чужая незнакомая морда в гладкой слипшейся шерсти и с кровавыми обводами век. Это был его Волк, но не такой, каким он привык его видеть днём. Глаза собаки были открыты, но в них жил только сон, они казались выточены из стекла, и лишь глубоко на дне едва-едва пробивался маленький лучик жизни.
Собака его не видела. Она спала, дыхание пса было ровным. С таким Седой не сталкивался ни разу. Он даже позабыл на мгновение о голосе в траве у забора. Верный Волк, знавший и топор, и палку хозяина, дрыхнет, как последний предатель, в вонючей свой норе, а хозяина в это время…
Седой ткнул твёрдым пальцем в скользкую собачью губу. Пёс вздрогнул во сне, судорога прошла по телу, но позы он своей не сменил. Волк не хотел просыпаться. Чужой близко, чужой у забора. Но ни лая, ни клочьев пены, ни наскоков и глухого рычания, когда пёс отбегает наискось от врага, уворачиваясь от занесённой руки.
– Скотина! – Седой плюнул в собачью морду, потом просунул руку в дыру и нащупал на жёлобе справа тёплую от собачьего жара бутылку. Такая у него была хитрость. Седой прятал в конуре поллитровку. Ни от кого. Просто приятно думать, что вот есть на земле место, про которое знаешь: свято.
И тайну святого места охраняет клыкастый Волк.
Не охраняет. Спит собачьим сном, сук видит.
Седой отвинтил пробку и хлебнул, запрокинув голову, крепкой горячей жидкости. В стекле бутылки отразился пожар. Ветер за рекой смахнул с языков пламени завесу дыма и гари или молния просверлила воздух – Седому было плевать. Он утёрся, убрал бутылку и с силой дёрнул пса за ухо. Пёс зарычал во сне, но не проснулся.
– Что, – обернулся он к источнику ненавистного голоса, – за дурака меня держишь? С такими тебе легко? А много у тебя таких-то? А? Сволочь.
– На мою жизнь хватит. – Голос над ним смеялся. – А она у меня до-о-о-олгая.
У Седого потемнело в глазах. Злость прорвалась наружу. Водка подхлёстывала его изнутри, и сердце прыгало чёртом.
– Сволочь, – повторял он, вдавливая подошвы в траву. Он шёл к проклятому месту, и голос пока молчал. Трава стояла спокойно, лишь ветерок, дувший к дому от леса, приглаживал верхушки стеблей, и на траву набегала рябь.
Седой шёл, угрюмо выпятив челюсть. Про топор он и думать забыл, шёл, сжав кулаки и ворочая под пиджаком мышцами. Шея его надулась, лицо побурело от крови, он сейчас походил на старого отчаявшегося быка, который в последний раз сражается за обладание тёлкой. Последний метр он не шёл, а волочил по траве ноги, они путались в коротких стеблях, и почему-то мысль о косе, которую надо бы поточить, и траве, которую надо выкосить, отвлекала его от страшного.
Он ступил в заколдованный круг, откуда с ним говорил голос. Здесь не было никого. Трава росла, как везде. И земля была как земля. В полутьме возле ног он видел привычное мельтешение насекомых. Набухал и растягивался беспечно выползший дождевой червь. Маленький оранжевый паучок карабкался на лист подорожника.
– Я здесь. – Голос раздался справа. Вихрь прошёл по траве, и под ветками старой яблони трава вздыбилась, как от страха. – В догонялки будем играть? Я не против. Давай, Седой, догоняй. Только помрёшь ведь, и ничего у тебя не будет. Шиш вместо того, что просил. Побереги сердце, Седой.
Кулаки разжались сами собой, и злости вроде бы поубавилось. Жирные капли пота набухали в корнях волос, потом стекали медленно по морщинам, холодом окатывая лицо.
– Успокойся, Седой. Думаешь, я тебе враг? Я такой же для тебя враг, как и для всего вашего рода. Так что будь умницей, подожди. И вино допей. Допей, Седой, вино помогает.
Седой не стронулся с места. О вине он больше не думал. Обруч упал с головы или же гроза уходила, но стало легче дышать, и телу сделалось легче. Только одно мешало, мысль, может быть, важная подкатывала, накатывала, как волна на прибрежный камень.
Что ж это он? Как так получилось, что нужно просить чужого? Это ему-то – ему! – елозить перед чужим, ползать перед ним на карачках. Дерьмо лизать.
Он гнал эту мысль прочь, сейчас она была лишней. Но кто-то упрямо её подталкивал к внутренним берегам, будил, не давал пропасть.
Когда же это ты ползал, Седой? Трясся и лизал много ли? Было такое? Перед тобой ползали, а не ты. У тебя дерьмо с сапог лизали.
«Я жить хочу, – сказал он себе другому, тому, кто бесконечные годы сидел в нём, зажавшись в угол, подрёмывал, помалкивал до поры. – Жить, а не подыхать от старости».
«Скажи ещё, что от совести».
«Убирайся, я жить хочу».
– Устал. – Он сел на траву и обхватил колени руками. Голос его дал трещину. – Может, пора уже? Что тебе ещё надо?
– Немного. Всё, что надо, ты уже сделал. Погоди чуток, сперва надо встретить гостя.
– Гостя? Какого гостя?
– Какой бы гость ни был, а встретить его придётся. Здесь от меня мало зависит.
Звук автобусного мотора, на время приглушённый грозой, снова выплыл из темноты. На выбоинах перед мостом привычно загрохотало, и скоро пляшущий свет озолотил участок шоссе за лугом у поворота.
«Который же теперь час?»
Вдруг до него дошло, что время ещё не позднее. Одиннадцатичасовой автобус рейсом на Первомайскую – значит, ещё не ночь, и до полуночи целый час. Тучи, гроза, чёрный чулок над землей сделали своё дело.
Автобус закашлялся, тормозя, и остановился на повороте. Скрипнула гармошка дверей, кажется, кто-то вышел. Световые квадраты окон качнулись и уплыли в сонную заволочь.
«Кого ещё чёрт принёс?» – подумал он недовольно и вдруг вспомнил про гостя, о котором они только что говорили.
Сначала он услышал дурацкий свист на лугу, потом шелест травы и шаги, а следом из туманного марева показалась пританцовывающая фигура.
«Тоже мне, гость. Сосед, рожа вахлацкая, чтоб его скорей посадили».
– Здоров, дед. Я должок тебе привёз, косу, – сказал сосед не по-вечернему громко и ногой отпихнул калитку. – Ты чего сегодня такой? Помирать собрался?
«Пьянь. – Седой поморщился. – Я жить собрался, дурак. Помирать – это тебе».
– Давай, – он протянул руку к косе, – давай, давай. Некогда мне.
Пришедший махнул рукой в сторону города, за реку.
– Новость слыхал? Про пожар. Молния в библиотеку попала. Горела ровно сорок минут. Слышь, дед, анекдот. Приехала городская команда, так сначала у них поломалась помпа, а потом оказалось, что пожарные рукава дырявые. Пока те чесались, она вся и сгорела. Понятно, книжки, бумага. Хорошо горит.
– Я спать собрался, давай. – Седой отобрал косу и поправил тряпку, которой было обмотано лезвие.
– Ладно, твоё дело такое, спи. Я через твой огород, чтобы не обходить. – Сосед опять засвистел и на ходу сорвал белый венчик ромашки.
– Кусты не помни! – крикнул он соседу вдогонку. – Дороги ему мало.
– Не помну, дед, не зуди. – Сосед обернулся, не останавливаясь. – Ну ты и злой. Почему, спрашивается? – Он опять засвистел, замолк и сказал со смехом: – Бабы у тебя нет, вот почему.
Седой с минуту смотрел ему вслед, в руке сжимая косу, затем развязал тряпицу и пальцем потрогал лезвие. Оно было наточено остро и отливало голубоватым светом. Седой покачал головой: с чего бы это сосед так постарался? Подобного за ним не водилось. Хотя с паршивой овцы…
Додумать он не успел. В темноте близ яблонь засветились бледные пятна. Опять глаза. Серому хватало и голоса.
– Гостя проводили, теперь можно приниматься за дело. Пойдём. – Седой удивлённо посмотрел на то место, из которого звучал голос. – Пойдём, отсюда недалеко. Я скажу, как идти. Сначала выходи на дорогу.
Глаза в яблоневой тени погасли. Тёплая пыль дороги закружилась маленьким вихрем. Седой повертел косу в руке, не зная, что с нею делать, потом махнул на косу рукой и отбросил подальше к грядкам, где лежало сброшенное железо.
Он шёл и чувствовал себя подконвойной вонючей рванью, которой столько в жизни перевидал, что казалась она ему длинной серой рекой, волнами откатывающей к востоку. Ни лица у реки не было, ни имени, и вместо голоса долетало из-под спёкшейся корки лет безъязыкое коровье мычание, как будто где-то плачут глухонемые.
Седой обогнул заборы, свернул на тропу к реке, а его невидимый поводырь зыбкими воздушными знаками указывал ему направление.
За лесом он услышал дорогу, на шоссе шуму прибавилось, гроза нехотя отступала, и из города потянулись машины. И хотя дело близилось к ночи, показалось Седому, что небо стало светлеть.
Они миновали развалины древней риги, стены потонули в чертополохе и обросли какими-то чудовищно огромными лопухами и крапивой в человеческий рост. Дальше пошли овражки, а ближе к реке под ногами громко и противно захлюпало. Но и ржавую болотину, подсохшую из-за летней жары, они скоро оставили позади, и ноги Седого остудили холодные заросли купыря, ударившие в нос сладким запахом мёда.
От ничейного покосившегося сарая они повернули направо и двигались теперь вдоль реки. Седой хорошо слышал, как за низким густым ольшаником она плескалась негромко, и время от времени на воде гулко бухало – это охотилась за мошкарой невидимая крупная рыба.
Седой, как автомат, передвигал ноги, ему было все равно куда, он шёл, вернее, его вели, и совсем не думал о цели. Мало того, ему просто хотелось идти, идти бесконечно долго, идти бездумно куда ведут, идти, забыв о награде, ожидавшей его в неизвестности.
И вдруг – впереди стена.
– Стой, – услышал он голос. – Пришли.
Седой очнулся и растерянно осмотрелся. Место как место. Пустоватое, голая плешь, окружённая невзрачными деревцами. Почва жирная, вязкая, прикрытая рыжим дёрном. Над дёрном – ночные бабочки.
– Здесь яма, посмотри, что там на дне.
Седой увидел не яму, а просто прикрытое ветками углубление. Он раскидал ветки, на дне не было ничего. Лишь в прелой сырости, оставшейся после веток, копошилась насекомая мелочь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































