Текст книги "Жизнь же…"
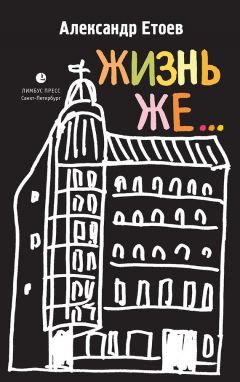
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Пойду, – кивнул он в сторону кухни. – Там у меня в кастрюле яд пригорает. Надо следить.
4. Летающая платформа
В темноте под ногами шелестела сухая осока. Болото выгорело от зноя, и коричневые высохшие лягушки, безумно выпячивая глаза, просили у прохожего пить. Лягушек я выдумал для полноты картины. И болотца-то, может быть, никакого не было – был лес, лес был сухой, это я помню точно. Когда я переходил канаву, нога вместо воды ботинком зачерпнула песок. Я сидел на мшистом бугре и высыпал песок на ладонь. И смотрел, как в призрачном свете вспыхивают алмазные грани. Когда я поднял голову вверх, чтобы увидеть небо…
– Понимаешь, это была платформа. Самая обыкновенная. Длинные бетонные плиты, вмятины от каблуков. На торцах ржавые прутья арматуры, ступени, чтобы взбираться. Я подумал, что вышел к станции. Но какая там к чёрту станция, когда кругом лес – ни рельсов, ни просеки, ничего. И платформа-то не стоит, как положено, врытая в землю. А висит. То есть просто лежит на воздухе, как протянутая нищенская ладонь, только за ладонью вместо руки тёмное и пустое небо. Звёзды ещё не вышли…
Я рассказывал Вале, а Валя, пригорюнившись, слушал.
Фашист Пистонов давно отгрохотал на ступеньках, и мокрый след от него протянулся до низа лестницы. Мы слышали, как хлопнула дверь и пахнуло уличным холодом. Васище ушёл помешивать яд, чтобы не попало от мамки. Крысы – умный народ, и, ежели яд с пригаром, жрать они такой яд – сдохнут, а ни за что не станут. И мамка надерёт уши.
Валя слушал, не слыша, и ногтем соскребал золото с дореволюционного тома «Словаря» Даля.
– Песок, – он кивал бородой, – а звёзды ещё не вышли.
Звёзд не было.
До пригородной станции Болышево, я знал, два километра. Я и шёл, собственно говоря, туда, к этой маленькой станции, спасаясь от одной назойливой дачницы, стонущей под игом супружества и состоящей членом садоводческого товарищества «Ноктюрн». Супруг её отбывал срок в Крыму.
Я как раз срезал кусок леса, чтобы успеть к полуночной электричке. Но лес оказался хитрее. Он запутал тропинки, навыворачивал ёлок, и чёрные, тяжёлые от налипшей земли коренья, выпуская из темноты клешни, нависали вдруг ниоткуда, будто неуклюжие призраки, репетирующие сцену из Гоголя. Я не боялся леса и призраков отгонял тонким осиновым хлыстиком, который обломал по дороге. Но неподвижно висящее сооружение – осязаемое, хлыст его не рассёк – заставило бы струхнуть и мумию.
Мне бы тогда уйти, зарыться в хвойную чащу, а я застыл в столбняке – в левой руке песок, в правой снятый ботинок.
Тут-то и появились они – Бежевый и Холодный. Меня они заметили сразу, я сидел открыто, как манекен, демонстрирующий, с одной стороны, достижения обувной промышленности, с другой – продукцию песчаных карьеров.
Я попытался встать, но силы меня покинули. Может быть, не обошлось без гипноза. Я сидел колода колодой, а эти двое уверенно приближались.
Холодный был сед как иней, и одежда на нём серебрилась. Ощущение складывалось такое, что весь он покрылся изморозью, словно перед тем, как выпустить на поляну, его с неделю промурыжили в морге.
А почему Бежевый – Бежевый, честно говоря, я не помню. Должно быть, что-нибудь из одежды на нём было этого редкостного по нынешним временам цвета – подштанники, вылезающие из штанин, или платок, в который он то и дело сморкался.
Они шли вдоль канавы, один по левую, другой по правую сторону – параллельно, между ними было расстояние в размах кулака. Странно – трава не шуршала, мелкая земляная крошка не осыпалась под подошвами вниз.
«Тренировочка», – подумалось мне тогда. Я не знал, что пришельцы – чётники, а если б знал, то, наверное, крепко призадумался бы. И правда, было над чем подумать. Полудикий пригородный лесок, время, между прочим, ночное. В смысле происхождения – чётники, конечно, не люди. То есть не мама их родила, не семья и школа воспитывали. Но в смысле физиологии – они как бы и люди. Всё, что надо, имеется, включая мужское приспособление.
Но чтобы на такого одиночку, как я, шатающегося ночью по лесу, – и науськивать залупанцев из Зазеркалья… Нет, товарищи дорогие, было в этом какое-то жуткое извращение, сверхковарство какое-то, сущий бред.
«Может, Ларискин муж тишком вернулся из Крыма и подсматривал через щель в шкафу? Ну и стуканул, насмотревшись».
С платформой, что висела над лесом, это их таинственное явление поначалу я никак не связал. Вообще, мысль моя буксовала крепко, единственное, на что хватило мозгов, – это прицелиться в Бежевого ботинком, а Холодному, когда он приблизится, попытаться засыпать глаза песком. Что они пожаловали по мою душу – в этом я не сомневался ничуть. Слишком осторожен был шаг, слишком сосредоточены рожи.
Я сидел и считал метры. Десять, семь с половиной, пять. Траектория полёта ботинка была высчитана с точностью ЭВМ. Песчинки щекотали ладонь.
Но моим оборонным замыслам не суждено было осуществиться.
Плоская махина платформы словно пробудилась от сна, волна воздуха окатила меня с головой – платформа пошла на снижение. И когда я, прикрывшись от удара ботинком, уже предчувствовал страшную силу, с которой железобетонный обух вгонит меня в могилу, – платформа остановилась.
Я почувствовал тёплый ток и слабые электрические уколы. Даже не оборачиваясь, я уже точно знал, что мыльные пузыри, наспех раскрашенные под людей, лопнули за моей спиной. Бежевый и Холодный исчезли, они были здесь не нужны. Я и это странное существо, принявшее облик платформы, вместе и составили пару – пару, необходимую и достаточную, чтобы этим сукам из Зазеркалья укоротить их шакалий хвост.
Кажется, Валя заснул. Он сидел на полу неподвижно, голова его запрокинулась и была почти не видна, скрытая в облаке бороды. Я стал говорить потише. Моя повесть подходила к концу. Я ему рассказал про мысленное общение с платформой, про воздушное путешествие в город – на этом месте Валя шевельнул бородой.
– Было, – сказал он вяло. – Житие Иоанна Новгородского – раз. И два – Гоголь, «Вечера на х. близ Диканьки».
Я пожал плечами: было так было – и стал пересказывать печальную историю зазеркальной жизни платформы. Её она мне поведала, когда мы опускались на ночные девяткинские поля.
Никакая она не платформа. Вообще, у себя на родине она не имеет никакой вещественной оболочки. Вроде как дух бесплотный. Нет, там не все такие. Есть властвующая верхушка, она одна во всем Зазеркалье узурпировала право на тело. Тела раздаются как награда особо отличившимся, и, конечно же, душонкам гнусным и чёрным – фискалам, прихвостням и прочим держимордам и дуракам. Что царит при раздаче – не передать никакими мыслями. Приличным же душам вроде неё о теле даже и помечтать опасно. Вот с такой зазеркальной нехристью наши недоделанные уроды и заключили кляузный договор от 1 апреля известно какого года.
А почему платформа? А не Днепрогэс, к примеру, или не Папа Римский? Да потому, что, тайно эмигрировав с родины и ткнувшись наугад в первое, что подвернулось ей по эту сторону Зазеркалья, она оказалась здесь и, пролетая над лесом, увидела это скромное и красивое сооружение. И поняла: вот её тело. Таким оно и должно быть – длинным, серым, тяжёлым, с решёточкой ограждения по краю, чтобы не сваливался народ, со скамеечкой для пенсионеров и грибников и с красивым именем «БОЛЫШЕВО» на сетке из металлической проволоки. А о праве на обладание телом у вас и просить не надо – захотела и обладай. Она ведь тогда не знала, что ублюдочная зазеркальная хунта уже и сюда запустила свои волосатые щупальца.
Валя громко зашевелился. Борода его зазвенела серебряной фольгой седины.
– Суки! – сказал он громко. – Я тогда ещё говорил, когда они появились, – суки! И наши придурки – суки! Им только покажи золочёный кукиш, они маму родную продадут, не говоря уже о какой-нибудь чернозадой Анголе. Я иногда думаю: вот прилечу я в Штаты на своём шаре, а там, как здесь, на каждом углу эти – спаренные, мать их в лоб. И такая гниль в голову лезет… Поверишь, один раз даже представил себя в петле. Бр-р-р! Язык на сторону. Мерзость! А если и там они, то на какие, спрашивается, мудя мне ихняя сраная демократия? Худо-бедно я и здесь как-нибудь проживу. Ты-то живёшь.
Он замолчал и грустно засвистел полонез. Я подыграл мелодии каблуком.
– А вообще-то… – Он махнул рукой и посмотрел на меня виновато. – Сань, знаешь что… Я тебе не говорил. – Он помолчал, выдохнул и сказал: – От меня Наталья ушла. Насовсем. Один я теперь, понимаешь?
– Валя. – Я потянулся к недопитой бутылке.
Но тут в дверь постучали.
5. Тайна пятой бутылки
– Дядь Валь, – в проёме стоял Васище, и губы его дрожали, – вы моего яда не видели? У меня, пока я за вами к дверям ходил, кто-то весь яд спёр. Целые полкастрюли.
Мы с Валентином Павловичем обалдело уставились на него. Валя помотал головой.
– Честное слово, Василёк, мы твоего яда не брали. У нас своего…
Он показал пальцем на бутылочный ряд и вдруг замер и побледнел.
– Сашка, – борода его стала пепельной, – мы сколько бутылок выпили?
– Две. Одну водки и одну «Тридцать третьего».
– А сколько осталось?
Я посмотрел. На полу, на фоне книжных исшарпанных корешков, плечом к плечу, ровнёхонько, как на параде, стояли три стеклянных богатыря. Три плюс две бутылки, что выпиты. А всего их было четыре!
В животе у меня что-то пискнуло, потом заскребло. Похоже на мышь или мне показалось? Я тщательно, вслух, одну за другой, загибая пальцы, пересчитал две выпитые бутылки, затем, так же тщательно, те, что оставались нетронутыми. Пробок на них не было, Валя заранее постарался.
– Так. – Валентин Павлович потрогал ладонью лоб. – Пока не холодный. Хотя… Васище, – он позвал соседа, – лоб у меня не холодный?
– Горячий. – Васище приложил палец.
– Василёк, погоди. Мы твоего яда не брали. Ты меня знаешь, я чужого не возьму… – Тут Валентин Павлович слегка смутился, должно быть, вспомнил про краденый алюминий. – Но…
Он осторожно большим и указательным пальцами поднял над полом одну из непочатых бутылок, медленно приблизил к лицу и ладонью свободной руки сделал несколько лёгких взмахов. Нос его при этом наморщился и спрятался под встопырившиеся усы.
– Не яд. – Он положил горлышко на губу и сделал приличный глоток. – Нет, в этой не яд.
Я внутренне перекрестился. У Васищи выкатились на лоб глаза. Яд оказался в последней, третьей, бутылке, а по полному счёту – в пятой. Который раз за сегодня гроза проносилась мимо.
– На, Васище, нашёлся твой яд, получай. – Валя передал Васильку бутылку. – Считай, тебе повезло.
– Спасибо. – Васище хотел уходить, но Валя его остановил.
– Кстати, Василёк, ты не помнишь, кто, кроме тебя, был на кухне, когда ты его варил?
Васище задумался и в задумчивости облизал у бутылки горлышко.
– Никого. Вообще-то разные заходили. Повитиков четыре раза бегал в уборную. Два раза по маленькому и два по большому. Полинка… Крамер пельмени жарил. Анна Васильевна…
– А когда ты пошёл за нами, на кухне кто-нибудь оставался?
– Не помню. Нет. Никого не было.
– Хорошо, Василёк, иди. Итак, что мы имеем, – сказал Валентин Павлович, когда дверь за Васей закрылась. – А имеем мы сплошной мрак. Внутри и снаружи.
Он показал пальцем на занавешенное окно.
Наверное, выпитое подействовало. Мне стало жалко себя до жути, прямо хотелось выть. И себя, и Валентина Павловича, которого бросила зараза Наталья, и Васищу, который чуть не пострадал из-за нас, и платформу, и вообще все несчастные души из Зазеркалья, мыкающиеся без тел по эфиру. И моих родных соотечественников, которых так умело надули по первоапрельскому договору.
– Я, Валя, пойду. Нет, правда. Вот увидишь, я уйду, и сразу всё переменится. Зимы не будет, и травить нас никто не станет. И вообще…
Валька схватил меня, что называется, за грудки и сильно потянул на себя. Лицо у меня стало мокрым, как от поцелуя коровы, а глаза Валентина Павловича загорелись, будто у обиженного быка.
– Ты, Сашка, эти разговоры оставь. Я друзей не бросаю. Да и куда ты пойдёшь? Платформа твоя далеко, она тебе не поможет. А залупанцы – вон они, за стеной. Только свистни. Ну а насчёт травить – это ещё неизвестно. Тут, я думаю, чётники твои ни при чем. Есть у меня такое предположение. Неспроста гнида Повитиков так часто на стульчак бегал. Ой, Санёк, неспроста. С ядом – его работа. Пошли.
– Куда, Валя?
– На кухню. С соседями разбираться.
6. Показания свидетеля Крамера
– Чтоб, говорит, их всех в Сибирь, на мороз, яйцами в прорубь. Тут сразу в воздухе потемнело, и снег повалил. У меня рубашка была на спине потная, так, поверишь, задубела моя рубашка. Мороз градусов двадцать. Скажи, Валентин, если я схвачу воспаление лёгких, то больничный мне кто будет оплачивать?
Крамер сидел за столом и ел пережаренные пельмени. Пиво в алюминиевой кружке подозрительно воняло мочой. Я потянул носом и успокоился: мочой несло из сортира. Ничего, сказал я себе, терпи.
– Не знаю. – Валя слушал, насупившись. – Значит, только он сказал про Сибирь, погода сразу переменилась?
– Переменилась. Он ещё говорил, правильно, мол, делали фашисты, что их в газовых печах жгли. Нет на них, говорит, фашистов.
– Фашистов, говорит, нету? – Валя хмуро на меня посмотрел.
Всё сходилось. Зима. Фашист. Теперь понятно, чьих это рук дело. То есть сам говоривший вроде был ни при чем. Но вот мысли его кто-то использовал для удара по мне, а косвенно и по Вальке, и по всем людям, которые в это время находились поблизости.
Впрочем, если по-честному, в Валькино подозрение насчёт Повитикова я не верил. Нет, вполне возможно, именно Повитиков и подумал: хорошо бы Валентина Павловича, гада волосатого, отравить. А мыслеухо у залупанцев вострое: если кто какую ересь задумает, так сразу у тебя на полу пятая бутылка с отравой. Сам он вряд ли воровал у Васищи яд. Слишком он себя любит, чтобы вляпаться по «мокрой» статье. Хотя…
Виктор Теодорович Крамер родом был из поволжских немцев. Но успел полностью обрусеть, вынужденно пребывая в приуральской части земли сибирской в деревне Ёлки. Там он проводил пожизненный трудовой отпуск с августа сорок первого по середину семидесятых. Всем известно, Сибирь славна своими пельменями. Покуда Крамер там жил, он на многое насмотрелся. На колючую проволоку, на вышки, на счастливую колхозную жизнь, на двух помёрших с голоду дочерей, на мордатых охотничков из райцентра, на их таких же мордатых, как и они, собак, жравших с руки хозяев круги колбасы с жирком, положенные на квадраты печенья. Всё видел, кроме пельменей. И теперь, сидючи бобылём на обшарпанной коммунальной кухне, он рубал их прямо со сковородки и ни о какой Сибири не думал.
– Понятно. – Валя почесал в бороде.
Крамер кивнул, отхлебнул из помятой кружки, вытащил из теста длинный белёсый волос, обсосал его и положил сушиться на дальний конец стола.
– Где-то я этого товарища встречал, – сказал Крамер задумчиво. – Харя у товарища знакомая. Постой, а не он ли в школе на углу Садовой и Лермонтовского то ли учитель физики, то ли физкультуры? Или не он?
– Ладно, приятного аппетита. – Валя отвел меня в коридор, и мы встали в нише между личными шкафами жильцов.
В коридоре был полумрак, по ногам дуло. Напротив светилась щель под дверью жилища Повитикова.
– Александр, как ты думаешь, зима эта надолго?
Свет из щели померк, и за дверью послышался шорох.
– Зима, – сказал я, – не знаю, а вот человеческое любопытство, дорогой Валентин Павлович, похоже, не имеет предела.
Я показал на щель, Валя и сам видел. Осторожно, на цыпочках, он приблизился к двери и резко подал её от себя.
– Извиняемся, что без стука, – сказал он бесцветным голосом. – Не ваша ли это мочалка с прошлой пятницы над плитой сушится?
Облако мутноватой пыли было Валентину ответом. Пыль, да скрип матрасных пружин, да слабое копошение в подушках. Есть в жизни счастье – Повитикова отбросило на кровать.
– Зима – не знаю, – сказал я несколькими минутами позже, озирая привычные стены Валиной комнаты.
…Стоял нежаркий июнь. На дню по многу раз моросило, и мысленное послание я принял, петляя меж привокзальных луж. Отплюнув последнюю косточку пятнадцатирублёвой черешни, я закурил «Беломор» (теперь не курю – бросил), прошёл насквозь прямую кишку электрички и уже в вагонной трясучке понял, что дело дрянь. У выхода на площадку слева и справа сидели мои знакомые – Бежевый и Холодный.
Я их сперва не узнал – уткнувшись в бумажные полотенца, они тёрли глаза о строчки железнодорожной газеты «Гудок». Пять перегонов тёрли, на шестом, когда я отправился в тамбур на перекур, они недвусмысленно оседлали места напротив и теперь читали «Гудок», повернувшись в сторону тамбура.
Табак сделался горьким, я поморщился и подумал: «Спрыгну». Однажды я прыгал с поезда, правда, был юн и пьян, и поезд не летел, а тащился, как танк по минному полю. Так что опыт имелся, и страха на удивление не было.
За себя – не было. За неё – был. Если бы не моя беглянка и не её послание, в котором она просила о встрече, я бы не то что прыгнул, я бы вообще не прыгал, я бы…
– Впрочем, Валя, не знаю. Сегодня ты мне помог, а тогда в электричке…
Тогда в электричке я не очень-то понимал, зачем, чтобы уничтожить беглянку, им нужен был я. Это потом я узнал, что духовную сущность можно уничтожить, только если она в контакте с парной духовной сущностью. В открытую она иначе не проявляется. И даже для напавших на след легавых платформа тогда всего лишь платформа и ничего более. Одна из множества попираемых, оплёвываемых, мокнущих под дождём и тонущих в тумане седых и туманных утр. Тогда её хоть взорви – взорвешь, а дух Летучей (это я её так назвал) Незнакомки вселится в другую платформу – скажем, станции Ленино или Новые Котляки.
Никуда я прыгать не стал. Даже не вышел на станции Миловидово, когда раздвинулись двери и с воли повеяло холодком. Докурил прогорклую папиросу и тихо прошёл на место.
Ветер поменял направление, корабли под газетными парусами резко сменили курс.
Болышево я проехал, сжав зубы и почёсывая зудящие кулаки. А ещё – я не сказал – на платформе 17-й километр в вагон заплыло русалоподобное диво в чешуйчатой переливающейся под взглядами полуюбке, а вместо хвоста у дива было что-то слепящее, заставляющее глаза слезиться, а сердце плавиться и истекать мёдом. Даже залупанцы из Зазеркалья опустили свои газеты и на миг стали похожими на людей.
Конечно, она села напротив, хотя в вагоне было полно пустых мест. Она села. Она губки повернула к окну, к мелькающим за окном пейзажам. Она по губкам провела язычком, и они сделались влажными и блестящими, словно только что эти губки пригубили из бокала шампанское.
Сиденье подо мной раскалилось. От брюк повалил пар. Они испарялись, бедные мои ноги под брюками. А ключ от дома в заднем брючном кармане, дома, в котором мне не бывать уже никогда, стал горяч, как тавро, которым клеймят жеребцов.
Грешник, я забыл всё на свете – Летучую Незнакомку, к которой ехал по зову, бумажные пиратские паруса. Всё, вся. Видел только печать от губ, невидимо проставляемую на воздухе. Видел её и себя.
– И теперь-то, Валя, я понимаю, почему чётники остались тогда в дураках. Не получилось контакта сущностей. Плоть моя одолела дух, он весь вышел, нашёл дырочку и утёк от греха подальше. И ещё, Валя, я думаю, что платформа меня просто приревновала. Она мне даже свои мысли не стала передавать. И это её спасло. Невольно спасло, случайно. И Болышево я проехал, сжав зубы – от страсти, а не от страха, – чтобы не вывалился язык.
Вот тогда-то, когда мы проехали Болышево и малюты из Зазеркалья поняли, что у них прогар, я и познакомился в первый раз с новым явлением природы, которое мой знакомый философ-теоретик Саня Касецкий назвал «локальной деформацией реальности». Так они мне отомстили.
Зимы, правда, не было, слава богу. Сначала вообще ничего необычного не наблюдалось, кроме занятого места напротив. Я потел, поезд шёл, и, наверное, в какой-то момент зубы мои разжались и язык всё-таки вывалился.
В вагоне появился козёл. Обыкновенный, с жёлтыми сточенными рогами и с ухмылкой на бородатой роже. Он медленно пошёл по проходу, останавливаясь у каждой скамьи и заглядывая в глаза пассажирам.
Козёл кого-то искал. Пассажиры вели себя странно. Словно бы ничего не случилось и одинокий козёл в вагоне – вещь не более необычная, чем какой-нибудь собирающий по вагонам дань инвалид, герой всех на свете войн и жертва всех на свете тиранов, эпидемий и несчастливых браков.
Наконец он дошёл до нас, и видно было, что настроение его переменилось. Из задумчиво-изучающего оно сделалось нетерпеливо-восторженным, сладострастным, а в глазах у поганой твари загорелись адские угольки.
Мокрой спутанной бородой он ткнулся в мои колени, потом закатил глаза и громко-громко заблеял. Хрипло, противно, громко полилась его козлиная песнь. Громко, гнусно, противно.
Я в мгновение остыл. Сиденье подо мной отсырело, ощущение было такое, словно меня посадили в лужу.
Русалка, что сидела напротив, та как ни в чем не бывало закинула ногу на ногу и, зеваючи, потянулась. Но мне при живом козле было уже не до её кондитерских прелестей, разложенных под юбочным тентом. На козла прекрасная пассажирка внимания не обратила вообще. Тот же расчёты имел серьёзные, даже очень, и предметом его интереса была явно моя персона.
– Чей козёл? – спросил я на весь вагон.
Наверное, голос мой был под стать козлиному. Кто-то хрюкнул, и многие подхватили, пряча в рукав смешки. Но козла не признал никто. Лишь красные козлиные глазки говорили откровенно: «Я твой».
И вдруг он повёл себя решительно, по-козлиному, не обращая внимания на чужеродное человеческое окружение. Козёл быстренько закинул передние копыта на скамью, простучал ими короткую дробь и – я глазом моргнуть не успел – напрыгнул на меня резво…
– Было, – сказал Валентин Павлович хмуро. – У Апулея было и где-то ещё. И вообще, с козлом всё понятно. Обозвали тебя козлом, вот он и появился. Твоя красотка и обозвала.
7. Жизнь, конечно, продолжается, но…
Мы решили вбить в землю кол – крепкий, осиновый, называйте его, как хотите: ось, дрын, руль, рычаг, – навалиться, чтобы Земля дала крен и с неё посыпались все эти ублюдочные козлы, Курилки, Бежевые, Задницы, Холодные – обратно в свой гнилой омут и утонули в нём навсегда. Для этого нужно было, во-первых, выйти на улицу.
Валентин Павлович снял с гвоздя долгополый, с дюжиной пулевых отверстий, тулуп, выменянный у запойного сторожа с автобазы на полбутылки «Перцовой», надел на меня, а сам, как был в свитере на волосатое тело, так в нём и пошёл, лишь прихватил с собой для пущего устрашения пудовый том Шиллера в издании Брокгауза и Ефрона.
Я шёл, путаясь в идиотских полах. При каждой попытке пошевелить руками из рукавов вылетали стайки мучнистых молей, кружили и залетали обратно. Я вычихивал из себя забивавшую ноздри пыль и уже где-то в прихожей не выдержал и сбросил проклятущий тулупный саван. Лучше околеть от мороза, решил я, вешая бронтозаврью шкуру на обнаруженный на стене крюк.
А на улице…
Мы забыли про руль и дрын, потому что блестели лужи, солнце плавило облака, и улица была чиста, как река, вытекающая из садов Эдема.
Зима кончилась, крокодил вернул проглоченный месяц август, и ни Задницы, ни его друга Курилки не торчало у булочной на углу.
Жизнь продолжалась.
– Валь, – сказал я пьяным от солнца голосом, – лужи-то как блестят.
– Пивка бы… – Борода Валентина Павловича лоснилась и отливала медью. Он засунул руку по локоть в карман необъятных штанов. – Тринадцать копеек. – Валя пересчитал наличность. – Мало…
Он хотел сказать что-то ещё, но вдруг замер, опустив бороду. Монеты одна за другой выпадали из разжавшихся пальцев. Они падали и звенели, скатывались с тротуара и пропадали на сверкающей мостовой. Ладонь стала пустой, рука повисла как мёртвая.
Я сначала не понял, потом посмотрел вперёд и увидел незнакомую женщину. Она шла прямо по лужам, не медленно и не быстро, а Валентин Павлович зачем-то бросился собирать монеты, а сам всё смотрел на неё, как она приближалась, и руки его бестолково шарили по асфальту – шарили, шарили и ничего не могли найти.
«Наталья, – понял я сразу. – Значит, всё хорошо».
И вдруг у дома № 15 шаг её изменился, сделался неуверенным, шатким, она схватилась за стену и стала медленно сползать на асфальт.
8. Фикус в аптечной витрине
– На восьмом месяце! Ну я и осёл!
«Козёл», – поправил я Валентина Павловича, правда, не вслух.
Он целовал её в плечи, как будто ей могло от этого полегчать. Валины волосы разметались, он держал бледноликую деву Наталью на вытянутых руках легко, словно в деве не было веса. Она силилась улыбнуться. Улыбка деву не красила.
– Саша, – Валя затоптался на месте, – ты уж не обижайся…
Я кивнул и, сцепив ладони, потряс ими над головой. «Римлянин – римлянину». Валя понял, хоть и сделался враз дураком, понял, что я его понял, и осторожно, чтобы не разбить о плотный уличный воздух, понёс своё сокровище в дом.
Я придержал дверь, постоял так недолго, пока поцелуи не стихли, и пошёл от парадной прочь.
«Всё хорошо, – говорил я себе упрямо. – Я нашёл Вальку, Валька нашёл Наталью. Наталья тоже кого-то в себе нашла. Неизвестно пока – кого, но зато от кого – известно. Теперь пройдёт месяц-два, и они полетят на воздушном шаре втроём. Втроём не так одиноко…»
«Не так одиноко».
Чёрные мысли на меня накатили. Захотелось печальных песен. Захотелось сидеть в ограде около могильных крестов и под шорох падающей листвы перечитывать несчастного Батюшкова. «Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез, и место поросло крапивой…»
Сначала я пожалел себя. Потом подумал: а ей каково, моей преследуемой беглянке? Ей-то как одиноко! И ещё я подумал: ну на кой ляд, спрашивается, она стала платформой! Воплотилась бы, например, в девушку-сироту. Я бы её полюбил. Я люблю девушек. А теперь что? Отговорить? Переубедить? Как?
Я дошёл до угла, где булочная, и свернул к Покровскому саду. О Батюшкове я больше не думал. Да и сад был не прозрачен, не жёлт, и в ограде вместо крестов пестрели шляпы безумных пенсионеров. Слева, на остановке, как всегда, толпился народ. Трамваи ещё ходили. Хотя добрые дяди из Зазеркалья всё по тому же первоапрельскому договору уже больше года как обещали заменить наш опасный транспорт какими-то многоместными люльками – бесшумными, бездымными, безколёсными – и решить таким хитрым способом нашу вечную транспортную проблему. В спальных районах города даже рельсы сняли заранее, и теперь легковерные обыватели, проклиная болтунов из ЗАЛУПы, обвешивали телами автобусы, которые, впрочем, скоро тоже обещали убрать.
Договор от первого апреля сулил населению многое. Все помнят газетные приложения с перечислением обещанных благ и километры благодарственных писем, которые обильно распространяла пресса. Но кроме новых обязательных правил, вытекающих из закона парности, да фантомных чётников-залупанцев, никаких полезных приобретений население пока что не получило.
Фантомы-чётники проявлялись мгновенно – там, где нарушался порядок. Бывало, поначалу на улицах только и слышались постоянно где простонародная матерщина, где жалкий лепет интеллигенции, когда отбившегося от пары беднягу насильно соединяли во временную пару с фантомом. Так в сопровождении чётника одиночка доставлялся в комиссию, где его ставили на учёт. Несколько таких приводов заканчивались принудительным спариванием, то есть, по приговору комиссии, человек был обязан сожительствовать с назначенным ему в пару лицом.
К новым правилам население привыкло быстро. Никого это особо не тяготило. Пары собирались по интересам, по семейному, профессиональному или же по национальному признаку. Резко сократилось число разводов. Количество браков, наоборот, стало расти.
Статистиками было отмечено повышение уровня рождаемости в сравнении с периодом до конвенции. Жить стало лучше, жить стало веселее. Чётников пугались не сильно, не более чем общественных патрулей, которые после полуночи устраивали среди населения выборочную проверку на парность.
Да и самих чётников в последнее время увидеть можно было не часто (со мной случай особый). Во-первых, люди стали дисциплинированными. Во-вторых, дисциплинированное население само взяло инициативу по выявлению одиночек и утверждению принудительной парности в свои руки, и от добровольных друзей порядка отбою не было. Что касается меня, то я подумал однажды: чёрт их знает, а вдруг наши новые друзья постепенно сматывают удочки? Обделали свои делишки, обвели вокруг пальца местных прощелыг-бюрократов и отводят потихоньку своих. И может быть, я последний, кого они продолжают пасти, да и то из-за беглянки платформы.
Я смотрел на деревья сада, запертые в чугунной ограде. Идти никуда не хотелось. Я стоял и чувствовал взгляды с трамвайной остановки. Вообще-то одиночек вроде меня теперь на улицах появлялось больше. Но всё равно, ревнителей парности опасаться следовало. Да и ближайший участок, где заседала комиссия, находился неподалеку – на площади Репина в помещении бывшего рыбного магазина.
А ведь если я прав и Зазеркалье действительно нас надуло, то вывод напрашивался тревожный. Для меня – тревожный, для прочего населения – не знаю. Моя беглянка – единственная, кому известно настоящее положение дел. А кто здесь её друг, может быть, единственный друг? Александр Фёдорович Галиматов – нигде не работающий, бомж, человек одинокий, неблагонадежный, правый ботинок вон при ходьбе свистит, штаны протёрлись и сверкают, словно каток зимой на стадионе имени Лесгафта.
Решение однозначно: надо этому, у которого сверкают штаны, покрепче зацементировать рот, чтобы он не пошёл молоть языком и не расстраивал коварные планы. Убить. Подстеречь их обоих, Галиматова и беглянку, и обоих втихаря грохнуть.
По спине проползла холодная змейка страха.
Если я прав, то дела мои откровенно плохи. Тому подтверждение – события последнего дня. Цепь покушений, по счастью, без трагического исхода. Они (кто они – было не совсем ясно) решили форсировать развязку. Так-то, Александр Фёдорович!
Сопение в спину я услышал, когда трамвай тринадцатый номер, брызжа белыми искрами, выкатывался из-за угла на площадь.
– Не оборачивайтесь. – Голос был незнакомый. – Сверните направо, на тротуар. Витрину аптеки видите? Туда, к ней, и идите.
– Зачем? – Я не стал оборачиваться, но, несмотря на свое «зачем?», послушно пошёл к аптеке.
Шаги и сопение не затихали.
– Слушайте, только не отвечайте. Иначе они догадаются. Вы меня не знаете. Я знакомый вашего друга. Имени своего не скажу, нас могут подслушивать. Да не бегите вы так, у меня штырь в ноге.
Я сбавил шаг.
– Вы на языках говорите? – спросили из-за спины.
Только я открыл рот, чтобы сказать «нет», как из-за спины зашипели:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































