Текст книги "Жизнь же…"
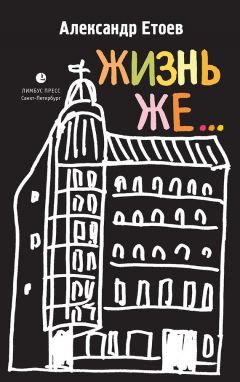
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Часть вторая
Женька
Его волосы были рыжие, как на закате медь. Шапки их не любили, гребешки боялись пуще огня, а Женька волосами гордился.
Они горели рыжей горой над плоским асфальтом улицы, они дразнили глаза прохожих, они солнцем плавали над толпой, восхищая её и возмущая.
Грязный милицейский «козёл», который пасся возле сквера у гастронома, всякий раз совал свою морду в медно-рыжую Женькину жизнь. «Козла» дразнил этот цвет. «Козёл» его ненавидел. «Козёл» ему мстил, штрафуя и обривая наголо. Он напускал на Женьку свору комсомольцев-оперотрядовцев – все с зубами навыкате и профилем Железного Феликса, вытатуированным на сердце.
Женька от ментов отворачивался. Он был к ним равнодушен. Ему не было никакого дела до оравы блеющих козлонавтов, до Грома, местного участкового с идиотским прозвищем Пистолет, до окружающих его алкашей, фарцовщиков, попрошаек и прочего пёстрого населения сумасшедшего городского улья.
Он жил своей жизнью, Женька. Она была у него одна, и он хотел прожить её так, чтобы ему меньше мешали. И он прожил её так.
Когда Женька умер, а умер он весело и с улыбкой, лет ему исполнилось двадцать пять. Капля крови под левым соском темнела, как родимое пятнышко, и пулю, вошедшую ровно в сердце, так и не отыскали. Гром, стрелявший из своего «макарова», был не такой дурак, чтобы заряжать пистолет шестой заповедью Моисеевой.
Коротенький рассказ о Женькиной смерти фантастичен и ненаучен. Но такова уж наша действительность, что любая отечественная фантастика, любая дьявольщина и гробовщина в ней неотделимы от жизни, и трудно подчас сказать, кто кого породил: фантастика ли жизнь нашу? Жизнь ли наша фантастику? Или они, как душа и тело, которые попробуй-ка разними.
Женька… Фамилию его я не знал. Никто не знал, я спрашивал многих. Даже Грома спросил, но Гром, сука изрядная, уже знать ничего не знает. Из ментов Грома погнали. Но пожалели, медэкспертиза выявила (когда Грома проверяли на невменяемость) срастание мозговых полушарий и диффузию серого вещества. Та к что срока решили ему не вешать, а пристроили приёмщиком стеклотары в подвале на 4-й Красноармейской. Тоже местная власть, чтоб её.
Жил Женька один. То есть в коммуналке, когда в коридоре воскресным утром выстраивалась очередь опорожняться, народу набиралось прилично. Конечно, не как в Мавзолей, но человек десять – двенадцать выстраивалось всегда. В зависимости от масштабов субботней пьянки.
Сам Женька не пил. Просто не пил, не хотел. Женьку блевать тянуло от одного лишь вида похмельной воскресной очереди: опухших до посинения пролетариев, мелких конторских служащих и их жёваных-пережёваных от рожи до задницы спутниц. Особенно пугали его сдувшиеся синие титьки, вываливающиеся из-под махровых халатов.
Женькина комнатка, узкая, как челнок, окнами выплывала на двор, на плоскую крышу сарая, завалившегося по ветхости на забор. За забором жили дохлые кошки.
Потом на пустыре за забором стали собираться трансляторы. Это были люди со странностями, но, несмотря на это, никто на них внимания не обратил бы, если бы не они сами.
Трансляторов долго не замечали. На пустырь выходила лишь часть дворового флигеля – самый его торец. Справа пустырь охраняла хмурая глухая стена, протянувшаяся далеко в глубину квартала. Слева стоял немой корпус фабрики мягкой мебели. Окна корпуса покрывала такая густая грязь, что даже прутья решётки на фоне фабричной грязи проступали только при ярком свете Селены. А из шести комнат жилого флигеля, окна которых смотрели на пустырь, в четырёх люди не жили, там сваливали ненужный хлам, в одной жила полуслепая старуха, а ещё в одной на втором этаже жил Женька.
Он трансляторов заметил не сразу. Та к что смотреть поначалу на них было просто некому. Сам Женька потому не сразу заметил их, что в то лето вечерами работал. Самое время сказать несколько слов о Женькиной трудовой деятельности.
В работе, если работал, он считал себя специалистом широкого профиля. Даже слишком широкого. Вот выбранные места из всех ста томов его трудовых книжек. Завод «Электросила», рабочий… Матрос в ресторане «Парус»… ДК имени Цюрупы, руководитель шахматной секции… Лектор общества «Знание»… Никольский Морской собор, иподиакон… Лаборант, Технологический институт… Мойщик окон на «Красном треугольнике»… Сторож склада цветных металлов… Опять матрос… Опять руководитель, но уже хора старых большевиков всё в том же ДК Цюрупы…
Приступы трудовой активности на Женьку нападали не часто. Обычно ближе к весне и длились, самое большее, до середины лета.
Это внешняя сторона Женькиной жизни – общественная. Или дневная. Ночная, та, что была скрыта внутри, под тонкой кожей с рыжими пятнышками веснушек и в печке Женькиной головы, – о ней не знали даже в местном отделении милиции.
Теперь о трансляторах.
Появлялись они всегда по одному, вечерами, часам примерно к шести. Друг друга никогда не приветствовали – казалось, просто не обращали друг на друга внимания. Как лунатики. Шли тихо, молчком. Очень тихо. Хотя ясно было, что дорогу они не выбирали. Словно слышали некий зов, неслышный для обыкновенного уха, но для них – как ангельский шёпот или дьявольское насвистывание.
Было удивительно наблюдать, как бок о бок взбираются на забор человек в железнодорожной форме и здоровенный волосатый громила в ватнике на голое тело. Оба сопят, стараются, царапаются о шляпки гвоздей. Но не злятся, лезут сосредоточенно.
Или седой профессор с набитым битком портфелем, а в метре-полутора от него дохлая, испитая тетка – на ногах сползающее трико, в руке мелкоячеистая авоська, и из неё торчат бутылочные головки.
Так они собирались. Не по-человечески, странно.
Впрочем, как уже говорилось, смотреть на них всё равно было некому. Кроме слепеньких фабричных окошек, абсолютно глухой стены, того самого немого забора да сумасшедших городских облаков.
Сойдясь, они становились в круг, неширокий, диаметром в две вытянутые руки. И так стояли: молча, глазами упёршись в землю. Стояли полчаса, час. Словно заворожённые. Молчали, не двигались, не шевелили губами. Глаза открыты, руки сцеплены, как замки.
Женька, когда увидел, первое, что о них подумал, – какие-нибудь сектанты. Потом достал купленный по случаю телескоп и рассмотрел лица.
Лица были разные. Очень старые и не очень, молодые, с усами и без усов, женские и мужские.
Всего он их насчитал двенадцать – число апостольское. Но несмотря на разницу лиц, пола, возраста и одежды, неподвижность и сосредоточенность взгляда делали их похожими.
В первый раз, увидев трансляторов из окна, Женька не узнал главного. Это главное открылось ему несколько дней спустя.
Надо сказать, ко дню знакомства с трансляторами Женька как раз свёл счёты с хором старых большевиков. Те его сами выжили, посчитав цвет Женькиной головы глумлением над большевистским знаменем и их революционными идеалами.
Женька на большевиков не обиделся. Взял расчёт и, зайдя по дороге в комиссионку, купил себе телескоп.
Круг из странных людей, которые сходились на пустыре, очень его озадачил. Он не мог рассмотреть их ясно, окно мешало, искажая истину и природу. Окно чего-то недоговаривало ему. И даже тёплое стёклышко телескопа было не на Женькиной стороне, нужно было идти туда, а не надеяться на оптику и везение.
Конечно, никакая это была не секта. Женька это понял потом, когда, пружиня головой о забор и посасывая заноженный палец, разглядывал собравшихся в щель. Он всё ждал, чем же должно закончиться их затянувшееся молчание.
Время шло. Люди стояли молча, словно рыбы, наряженные в людей.
Женька ждал. Терпеливо, долго. А потом появился звук.
…Тихо заговорили листья. Серебряный колокольчик звука звенел то громче, то совсем умирая. Из влажной темноты леса смотрели большие птицы. Крик их, схожий со вздохом, был печален от старости и тоски. Упала капля, за ней другая. Застучала дождевая вода. Лес зашумел, задвигался, птицы в чаще умолкли разом.
Голос дождя стал громче…
Поначалу Женька подумал, что где-то в доме включили радио. Он оглянулся на тёмную стену флигеля. Дом молчал. И вдруг за забором что-то переменилось. Звук не утих, он сделался внятным. Продолжали шуметь деревья и капли стучать по листьям. Но появилось новое. Появились пропавшие лица. Лица людей из масок со стеклянными пуговицами на месте глаз начали оживать, ожили. Женька видел сквозь щель в заборе, как свет растекается по въевшимся желобкам морщин, по вмятинам и небритой коже. Лица преображались. Это были лица детей, радующихся празднику звуков. Они стояли, объединившись в круг, и слушали голос мира, бывшего вне их и одновременно с ними.
Женька был не из тех, кто стремится любую тайну разложить по весам и полочкам. К позитивистам он относился как к слепоглухонемым – жалел их и отходил в сторону. Рационалистов, прочих прагматиков он считал одноногими инвалидами, не желающими из-за глупой гордыни пользоваться костылями.
Женька сразу решил, пусть тайна пребудет тайной, и раз ему выпал шанс прикоснуться к ней краем уха, то и того достаточно. Он был человек не жадный. И вовсе не желал развести волшебно звучащий круг.
Собрание, подобное этому, повторилось на следующий вечер, и через день, и на другой день тоже. Женька уже заранее ждал, когда последний перелезет через забор, и осторожно приникал к щели.
Последним обычно перелезал белый, как кость, старик в помятом рабочем комбинезоне. Лез он медленно и с одышкой. Женьке очень хотелось помочь ему одолеть преграду. Но показываться трансляторам на глаза он не решался.
Теперь он знал, что их молчание лишь ожидание. И Женька ждал вместе с ними.
Звуки не повторялись. Если в первый раз на пустыре говорил лес, назавтра здесь уже пела тугая, как струна, тишина. Он никогда не думал, что тишина способна звучать так мощно. Она легко рассыпáлась на разноцветные капли звуков, она не затихала ни на мгновение, она жила невиданной глубиной и наполненной звёздами бесконечностью.
Женька понял, что это было. Вселенная. Это была она. Здесь, за простым заборчиком, на зажатом среди домов пустыре. Сердце его дрожало.
На третий вечер Женька услышал речь. Это не был голос ни одного из двенадцати. Странный, ни на что не похожий и одновременно похожий на все голоса на свете, он разливался волнами и мягко касался слуха. Он проникал в заповедные уголки сознания, оживляя мёртвую воду памяти и понуждая припомнить то, что кануло на тёмное дно.
Женька вслушивался, прильнув к забору. Он боялся дышать. Он хотел проникнуть в смысл непонятной речи. Он сердцем чувствовал, не может быть слов важнее. Вот-вот, и тонкая прозрачная плёнка, мешающая проникнуть в смысл, растает, лопнет… ещё немного…
– Эй, там! Всем стоять! Кто дёрнется, стреляю без предупреждения!
Участковый Гром по прозвищу Пистолет застыл на краю огромной, как смерть, стены, что саваном застилала полнеба. Снизу он выглядел паучком, таким же игрушечным и не страшным.
Никто и не думал двигаться.
Грому этого показалось мало.
– Если хоть одна сука… – Он дал предупредительный выстрел, и голос его, и без того невзрачный, спрятался за кваканье пистолета.
Эхо облетело пустырь, отразилось от плоских стен, взбудоражив вечерний воздух.
Но всё это было мелко, как мелкое пригородное болото. Ни один из двенадцати и даже он, тринадцатый, Женька, не заметил ни болотного кваканья, ни угрозы с края стены. Голос. Другой. Высокий. Он нисходил на них, как на апостолов огненные языки. Он не отпускал, он держал, и разве слушающим его было дело до какого-то Грома – маленького паучка-пустячка, заброшенного чёртом на крышу.
Сверху по стене поползла тонкая ниточка паутины. Чем ниже она спускалась, тем становилась толще и, почти достигнув земли, превратилась в витой канат.
Женька не сразу понял, что происходит. Крик и выстрел он слышал, но они лишь сверкнули молнийкой по краю его сознания, не оставив в нём ни царапины. Не в молнийке было дело. В глазу сидела ресница. Она мешала смотреть, досаждала, погружаясь в зрачок, как вражеская подводная лодка. Она угрожала свободе.
Женька сперва мизинцем, потом краем воротника попытался уберечь от опасности попавший в беду зрачок. Но простые средства не помогали. Ещё бы, когда ресница в фуражке и милицейской форме и у неё расстёгнута кобура – мизинец неудачный помощник.
Гром, как тёмная капля, стекал по канату вниз. Он уже заслонял собой начало смоляной надписи, протянувшейся поперёк стены. «Жора, я тебя люблю», – было выведено аршинными буквами. Фуражка его как раз нахлобучилась на шестипалую «Ж». Пистолет он держал в зубах и походил сейчас на дворнягу, подобравшую горелую кость.
И тут до Женьки дошло: едва только этот висельник коснётся сапогами земли – всему конец. Ничего больше не будет. Ни голоса, ни трансляторов. Ничего.
Боль кольнула его мягкую кожу тупым остриём гвоздя.
Дыхание будущей пустоты охолодило тело.
И Женька – красное солнышко, рыжий, упрямый Женька – уже летел ракетой вперёд к плети свисающего каната.
Он бежал ровнёхонько вдоль стены, золотистые кольца пыли цеплялись за подошвы бегущего. Женька добежал до каната и ухватил его крепко-крепко – прямо за размочаленную мотню. Не останавливаясь, побежал дальше.
Канат в руке натянулся, стрела огромного маятника с гирькой в виде милиционера пошла скользить вдоль стены.
Выше, выше, ещё – пока рука удерживает канат. Потом эстафетную палочку перехватила инерция.
Маятник отмерял время. Стрела то взмётывалась под крышу, то по закону иуды Ньютона быстро неслась обратно. Но и там, внизу у земли, летучее тело Грома не задерживалось ни на секунду. Когда движение начинало гаснуть, Женька, снова взявшись за дело, приступал к работе часовщика. Он подводил часы, оттягивал канат до предела, и всё повторялось снова.
Железный кляп пистолета не давал Грому кричать. Само движение по долгой дуге его ничуточки не пугало, на голову Гром был крепок. Минут через пять полёта, с трудом ворочая языком и осторожно приразжимая зубы, Грому всё-таки удалось потихоньку переместить оружие в щербатую половину рта. Рукоятка клином вошла в тесную расщелину челюсти, и теперь он мог подавать голос.
– Питалас! – прокричал он криком кастрата.
– Пасазу!
– Рызый, канцай кацать!
Женька его не слушал. Женька смеялся бешено, будто рыжий бесёнок, наконец-то отыскавший управу на самого Балду. Трансляторов давно уже не было. Женька сам не заметил, как они покинули поле боя. Значит, Голос спасен. Он спас его от не небесного грома.
– Прощаю! – крикнул он Грому в торчащие из-под милицейской фуражки дольки его ушей.
Женька остановил канат.
Уже перелезая забор, на притуплённых заборных пиках, он помедлил и оглянулся. Не на Грома, на само место, словно хотел увидеть дрожащие в воздухе золотинки, оставшиеся от чудесного Голоса.
Пустырь молчал сиротливо, золота не плавало ни крупицы.
Одна лишь незнакомая звёздочка расправила вдруг острые хоботки. Лучи потянулись к Женьке, на лету превращаясь в стрелы.
Земля качнулась, завертелась волчком, и последнее, что он в жизни видел, – это трёпаные струны забора и золотокудрого ангела, который своим лёгким крылом играл на этих струнах Шопена.
Неизвестно, где Женьку похоронили. Неизвестно, кто были его родители. Возможно, он вообще не отсюда, а упал к нам, как капля света, с рыжей планеты Солнце, до которой в ясные дни так просто дотянуться рукой.
1989–2013
Пришельцы с несчастливыми номерами
1. Курилка и Задница – это с одной стороны, с другой – мы с Валентином Павловичем
Курилка стоял на углу возле бывшей Бабаевской булочной и прожигал папиросой воздух. Уже от татарского дома в нос ударял её дрянной запашок, словно был в бычке не табак, а была в бычке нестираная стройбатовская портянка. Я задержал дыхание, прикрыл лицо носовым платком, в нём ещё жили запахи парикмахерского одеколона. Раз, сосчитал я Курилку.
Напротив булочной у зарешёченного окна ателье стоял его антипод, человек положительный, некурящий, стоял крепко, оттопырив напоказ задницу и блестя скошенным глазом. Вообще-то он делал вид, что интересуется женской модой: манекен за стеклом, хотя и принадлежал к универсальному полу, обряжен был исключительно в женское, – но этот блестящий глаз, но эта выпяченная задница… Я назвал его Задницей.
Курилка и Задница. Чёт. Возможно, где-то рядышком ещё двое – Бежевый и Холодный.
Итого: четверо. Тоже чёт. И я, один, без пары, идущий этим гадам навстречу. Нечет.
Чётников следовало бояться. В пресловутом Зазеркальном альянсе по лупанаризации и упорядочиванию парности (или, сокращённо, в ЗАЛУПе) они играли роль малую, это по меркам обывателя оттуда, из Зазеркалья, по меркам же обывателя, мирно попивающего чаёк в ленинградской коммунальной квартире, чётник, или же залупанец, так их чаще называли в народе, был силой грозной, куда более грозной, чем вечно голодный милиционер или брат его меньшой – уголовник.
Миновать перекрёсток не получалось. Проходные дворы остались все позади, Климов переулок второй год как перегорожен работами – итак, пятьдесят метров. Улица, как назло, пуста. Если б вывалился из парадной завалящий какой жилец, всё было бы просто.
Я бы к этому жильцу присоседился, к примеру, попросил закурить и так, прикуривая без спешки, протелепался бы мимо чётников. С прохожим мы как-никак пара, а где пара, там чёт, и можно идти, не рыпаться – закон парности соблюден. Правда, на мостовой впереди под красной тряпкой предупреждения чернела скважина люка – чтобы мостовая дышала.
Я этот люк знаю. С канализацией он связан частично. Метрах в трёх от поверхности, если двигаться по боковому отводу, есть довольно просторный лаз в бункер бомбоубежища. Так что, коли уж совсем подопрёт, придётся вспомнить то золотое время, когда троечник по имени Сашка, теперешний Александр Фёдорович, штудировал «Победителей недр», была в детстве такая книжка.
Эх, чётники, чётники! Что же мне, теперь из-за вас последние брюки драть?
Чётники – загадка природы. Из чего они материализуются – неясно. Я думаю, на ближайшей помойке пустеет один из баков, как раз на объём такой фигуры, как, например, Задница. Или Курилка, или любой другой. Сначала я всё удивлялся, почему они со мной церемонятся, почему не шарахнут ломом или не спарят на крайний случай с какой-нибудь стервой поядовитее. Знают же, гады, что до стерв я больно охоч. Но не спаривали, не шарахали. И жупел в человечьем обличье Александр Фёдорович Галиматов жил и чесал в башке: почто ему такое почтение? Потом-то он выяснил, что почём, и открытие оказалось обидным: выходило, сам он не при делах, сам он только малая пешка, свистулька на залётную птицу, которую подманивают охотнички из этой самой залупанской ЗАЛУПы, чтоб её мать ети.
С мая месяца эти мусорные ребята, всегда разные и всегда одинаковые, торчали у меня на дороге, шагу не давая ступить. Закон парности, будь он неладен! Лишь только мировые правительства, спутавшись с залупанской хунтой, подписали ту долбаную конвенцию, все шишки упали с ёлки на одиночек вроде меня, и то не на всех – на избранных. Ходят же счастливые люди в обнимку с собственной тенью! Ходят, и ничего. Ан нет, есть ещё какие-то особые эфирные знаки, указывающие на таких-то и на таких-то. Мол, за этими глаз особенный, они человеки меченые. А Галиматов – меченый втрое.
Я миновал люк и, двигаясь со скоростью трупа, как раз поравнялся с парадной старинного татарского дома. В доме этом до Второй мировой войны проживал татарин Коробкин, звали татарина Абдула, и занимался тот татарин извозом. Во дворе, в дощатом сарае (теперь на этом месте гараж) он держал конюшню на двух ослов, тогда они назывались осликами. Вот по этому единственному татарину, пришедшемуся на тысячу прочего нетатарского населения дома, это дом прозвали татарским.
– Галиматов, – услышал я из-за двери глухой шаляпинский бас. – Приготовься, я открываю.
Я приготовился и резко прыгнул на голос. Мохнатые руки схватили меня в охапку, втянули в дверное чрево, стали мять и крутить, а борода колоть и слюнявить.
– Плохо дело, Санёк? А что, если я их лбами?
Мамонт в человечьей одежде, прикрывший бородищей клыки, наконец меня отпустил. Запах благородного табачка, и пузо – богатырское пузо, выпирающее из-под норвежского свитера, и лохмы, схваченные на затылке резинкой, про бас я уже сказал. А про татуировку, что гордо синела на кулаке, и говорить нечего – такое надо читать.
– Уф! – Я ткнул пятернёй в потёртые норвежские ёлки. – Тебе, Валентин Павлович, только бы кого-нибудь лбами. У тебя, гражданин Очеретич, одно душегубство на уме. За это я тебя и люблю. Здравствуй!
Валентин Павлович Очеретич осветил парадную своей стоваттной улыбкой и кротко, по-ягнячьи, сказал:
– Я вообще-то, Санёк, за папиросами вышел, да какие уж теперь папиросы. Теперь без полбанки не обойдёшься. Пошли ко мне водку пить. А эти – пусть только сунутся.
2. Снег в августе, почти Фолкнер
Валькину коммуналку я когда-то знал, как свою. У порога – окаменевшая тряпка, помнящая ещё жандармские сапоги старых, досоветских времен. Говорят, что до революции квартира принадлежала одному жандармскому офицеру, которого отравила невеста, тайный большевистский агент. Позже её тоже прикокнули – кажется, в тридцать шестом. Слева от входа – вешалка. Когда-то на ней повесился дядя Гриша, Валькин сосед. Дядю Гришу долго потом жалели, был он человек добрый и по праздникам играл на гармони.
Первая дверь от порога – Валькина, Валентина Павловича с чертовской фамилией Очеретич, старинного моего приятеля, а теперь ещё и спасителя.
Девичья, короткая, память – моё фамильное достояние – опять меня подвела. Скверная штука, когда идёшь по знакомой улице, проходишь мимо знакомого дома и забываешь, что лет тридцать назад в окошке на втором этаже между рыжими горшками с геранями всегда блестела очками родная Валькина рожа. Был он в те годы хоть и старше нас, но болезненнее, потому и торчал в окне, завидуя играющему под окнами уличному хулиганью, то есть нам. И вдруг оказывается – Валентин Павлович жив-здоров, проживает там же, где проживал, носит древний норвежский свитер и в минуты жизни роковые спасает опальных друзей, у которых девичья память.
Мы сидели в тесной Валькиной комнате: я – на брошенном на пол валике от давно не существующей оттоманки, Валька – на своём просторном седалище, подложив под него три тома соловьёвской «Истории России с древнейших времен». Стакан у нас был один, зато бутылок – четыре. Закусывали горчицей, забродившим черничным вареньем, воспоминаниями, которых у нас было с запасом, и лёгкими тычками в плечо.
– Скорпионыч? Скорпионыч сидит. Крепко сел, по шести статьям сразу.
– А дядя Витя? Клёпиков дядя Витя? Как он, жив, едрёная кочерыжка?
– Нет, Санёк, дяди Вити. Замёрз, Санёк, дядя Витя. Десять зим как замёрз. Прямо у нас в парадной, на батарее центрального отопления.
– Надо помянуть мужика. Помнишь, как он участкового с подоконника сбросил? Весёлый был человек, жаль, что замёрз. А всё-таки, Валя, как ни кинь, а славная была у тебя коммуналка. Не вонючая, не то, что моя.
– Сплыла, Саня, сплыла. Весь прежний народ – кто сидит, кто помер. Мусор остался. Повитиков один чего стоит! А что, Шура? Давай, мы с тобой в Америку улетим на воздушном шаре? Положим на всех с прибором и улетим. Алюминий у меня есть. Почти тонна. Кислота есть. Сошьём мешок, надуем его водородом. Под Выборгом я знаю одну полянку. Выберем день поветреней…
– Валя, что-то горит на кухне.
– Пусть. Видишь под телевизором пачки? Это метеорологические таблицы, полный комплект с тысяча восемьсот шестидесятого года. Я их четыре месяца из библиотеки Гидромета таскал.
– Точно горит.
Он отмахнулся мохнатой лапищей, похожей на дворницкую рукавицу.
– Горит, не горит… У нас ещё две бутылки не начаты. Саша, я за тридцать пять лет, что живу на этой земле, совсем опростоволосился. Пока штаны тлеть не станут, с места не поднимусь.
И всё-таки Валя поднялся. Допил стакан, вылизал его языком и поднялся. Пока он сидел, на фоне шкафа, перегородившего комнату поперёк, его слоновья фигура ещё как-то вписывалась в кубатуру. Но стоило Вале встать, как вертикали сжались, объёмы выдохнули, сколько могли, предметы сложились, съёжились, чтобы, не приведи господь, не очутиться на пути великана.
Валя перешагнул через лежащую на полу байдарку, откатил ногой самодельную штангу с чугунными чушками вместо кругов, сдвинул в сторону щелчком трансформатор и оказался у двери.
– Если это Повитиков, пойду подолью в огонь керосина, чтобы лучше горело.
Дверь за Валей закрылась, и мне сразу стало его не хватать. С полминуты в коридоре ничего не происходило. Потом послышался гром, но на пушечный выстрел было не похоже. Потом вошёл Валя, живой, в руке зажимая обрывок какой-то тряпки.
Я пригляделся. Это была не тряпка, а галстук – чёрный, в белый горошек, по преданиям, такой надевал по праздникам Владимир Ильич Ленин.
Я кивнул на трофей.
– Всё, что осталось от трупа?
Валя задумчиво посмотрел на галстук и забросил его за шкаф. Лицо у него было каким-то подозрительно скучным.
– Саша, – сказал он тихо, – ты во сколько ко мне пришел?
– В два. – Я хотел ответить нормально, но получилось шёпотом.
Валя грустно кивнул и показал на зашторенное окно.
– На дворе-то ночь.
Я не поверил и пощёлкал сперва по горлу, потом по бутылочному стеклу.
– И снег, – совсем грустно добавил Валя.
Я понял, что он не шутит. Что-то большое и угловатое зашевелилось внутри, больно задевая за тесную оболочку тела.
«Пожаловала», – подумал я про себя, а вслух произнёс другое.
– Валь, – сказал я виновато, – это из-за меня. Я уж пойду.
– Куда ты пойдешь? Там же эти… Нетушки, оставайся. И водка ещё не допита.
– Может, ушли? – сказал я, чтобы не показать, что трушу.
«Ночь, снег… Видно, всерьёз за меня взялись эти сраные залупанцы, раз устраивают такие фокусы».
– Может, и ушли. Только одного я сейчас с лестницы спустил.
– Кого, Валя?
– Ну, ещё одного. Третьего.
– Какого третьего? Их же там было двое.
– Какого, какого… Да такого, в чёрном пальто, с портфелем. Да пёс с ним, Санёк. Спустил и спустил. Спустил и правильно сделал. Больше не сунется. А сунется…
В прихожей робко пролепетал звонок. Вообще-то, когда не надо, он грохочет пуще тракторного мотора. А сейчас сробел почему-то.
– Сунулся, – грозно сказал хозяин, и не успел я и слова молвить, как Валентин Павлович, вывалившись мешком в переднюю, уже отщёлкивал французский замок и заносил для удара руку.
Чтобы не допустить напрасного душегубства, я просунулся между Валей и дверным косяком и занял упреждающую позицию.
3. Фашист в лестничном свете и яд, который пригорает на кухне
На пороге в оплывающих хлопьях снега стоял самый обыкновенный фашист и целился в нас из автомата. Автомат был большой, немецкий, с влажным воронёным стволом. От гостя несло собачиной.
Первым делом я вскинул руки и промямлил увядшим голосом те две фразы, что знал по-немецки: «Во зинт минэн фэрлэкт?» («Где заложены мины?») и «Гитлер капут». Первая фраза звучала вполне нормально, вторая несколько странновато, ведь неизвестно, из какого времени вытащен этот овеществлённый призрак – из сорок первого или из сорок пятого года. Германия на его памяти ещё пердит громогласно или уже вяло попукивает? Но сказал и сказал, сказанного не воротишь, как говорится.
Я слышал, как дышит мне в щёку Валька. Хрипло и зло – от водки и закипающей ярости. Валькину бабку со стороны матери сгноили в немецком лагере. Отца, австрийца Пауля Очеретича, убили в сорок пятом под Веной. Сам Валька сидел в то время в материнской утробе. Матери повезло, да не очень – за связь с иностранным подданным в России по головке не гладили. И ей досталось от свастики, но уже нашей, пятиконечной. Так что у Валентина Павловича имелось полное моральное право наливаться священной злобой и дать этой злобе выход.
Я молчал. Валя дышал. Ствол автомата покачивался. В лестничной полутьме, при свете загаженной лампочки лицо у фашиста было тусклым, подмёрзшим, тройка верхних зубов сдавливала прикушенную губу. Казалось, вот-вот он заплачет. Стоял фашист в широкой немецкой шинели, шинель была старая, ношеная, из коротких вытертых рукавов вылезали красные руки. На кулаке правой отчетливо белела костяшка. Она лежала на спусковом крючке и сама словно светилась, как будто лесную гнилушку обернули прозрачным пергаментом.
«Валя, Валя… Свалился я на твою голову. И ничего уже не поделаешь, под одним дулом стоим».
Валькин праведный гнев понемногу передавался и мне. Я стоял, стоял и вдруг не выдержал и зло подмигнул фашисту. Тот попятился, каблуком нащупал ступеньку и направил автомат на меня.
– Галиматов! Платформа! Где она, Галиматов? – спросил он на чистом русском с правильно проставленными ударениями. – Говори, не то пристрелю!
– Где-где, вот же она, не видишь?
И надо же, осёл с автоматом поверил. Он повернулся туда, куда я показывал пальцем – в окно, за его плечо. Этого было достаточно. Валя сгрёб его, как тюфяк, только косточки всхлипнули. Я вырвал из рук ворога автомат, автомат был совсем не тяжёлым, наоборот, подозрительно лёгким, словно крашенная под металл деревяшка. Он и был деревяшкой, какой берут на испуг таких простаков, как мы.
– Куда его? – спросил я у Валентина Павловича, переламывая автомат об колено.
– Туда, откуда пришёл, – в болото!
Валентин Павлович, не выпуская гада из рук, уже примеривал сорок девятый размер подошвы к его зашинеленной заднице. Фашисту ещё повезло – Валя ударил левой. Если бы Валентин Павлович то же проделал правой, неизвестно, смог бы когда-нибудь этот болван использовать вышеназванный орган по назначению. Лично я сомневаюсь.
Когда Валькина резиновая подошва в очередной раз выбила из шинели пыль, фашист не выдержал, напустил вони и подал голос в свою защиту:
– Не имеете права, не в Америке живем. Групповое разбойное нападение – статья Уголовного кодекса: до пятнадцати лет.
– Слушай, ты, прокурор. Это из-за тебя на улице снег? Ты своей вонючей шинелью солнце сожрал? А дружки на углу у булочной – не твои дружки? А тот, что до тебя приходил, он что, твой фюрер, елдон-батон? И что это за платформа, из-за которой ты хотел в моего Сашку стрелять, подлюга?
И тут из-за наших спин раздался простуженный детский голос:
– Дядь Валь, я этого группенфюрера знаю. Он на мамкиной фабрике на конвейере стоит контролёром. Пистонов его фамилия. Мамка говорит, что он её заколебал, клеивши.
Мы обернулись. Из прихожей выглядывал щуплый мокроносый парнишка в серой школьной одёжке и тапках на босу ногу.
– Вáсище, – Валька, не отпуская фашиста, хмуро кивнул пареньку, – а он что, твою мамку так в фашистской шинели и клеит?
Васище собрался ответить, но вдруг с хлюпаньем потянул носом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































