Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
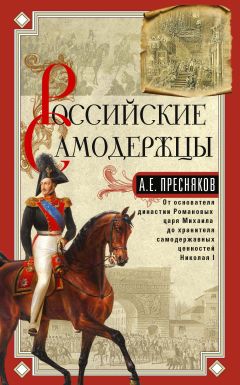
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Павел погиб 11 марта 1801 г. под ударами придворной и гвардейской среды, раздраженной не только его личным самодурством, но и порывистыми проявлениями его власти в делах внутренней и внешней политики, которые грозили серьезной опасностью существенным интересам господствующего класса. На престол вступил молодой император, воспитанный в самой гуще накопившихся противоречий, под перекрестным действием разнородных течений и влияний. Он получил весьма сложное наследство как во внутренних отношениях правящей среды, так и в общем состоянии государственных дел и в международном положении России.
II. Между Петербургом и Гатчиной
П.А. Строганов набрасывал в дни своего близкого сотрудничества с Александром заметки о нем и о том, как надо с ним обращаться. «Император, – писал он, – взошел на престол с наилучшими намерениями – „утвердить порядок на возможно наилучших основаниях“; но его связывают личная неопытность и вялая, ленивая натура. Казалось, что им легко будет управлять. У него большое недоверие к самому себе; надо его подкрепить, подсказывая ему, с чего следует начать, и, помогая ему, сразу обнять мыслью целое содержание каждого вопроса. Он особенно дорожит теми, кто умеет уловить, чего ищет его мысль, и найти ей подходящее изложение и воплощение, избавляя его от труда самому ее разрабатывать. Надо только при этом с тем считаться, что он весьма дорожит „чистотою принципов“; поэтому надо все сводить к таким „принципам“, в правильности которых он не мог бы сомневаться».
Некоторые черты Александра метко схвачены в заметках Строганова. Таким он всегда был в своей идеологии и в своей правительственной работе: человеком «принципиальным» и ожидавшим от сотрудников разумения его «идеи», ее разработки в проектах и выполнения в мероприятиях. Это, конечно, только одна, притом формальная, сторона его типа. Под ней – сложная человеческая натура, определившаяся в отношении к жизни и к людям при очень своеобразных условиях воспитания и восприятия окружающей действительности. Старшие сыновья Павла, Александр (род. 12 марта 1777 г.) и Константин (род. 27 апреля 1779 г.), были в младенчестве отняты Екатериной у родителей. «Философ на троне» решил не повторять ошибки Петра Великого и исправить свою собственную: воспитать себе преемника в старшем внуке. Для Константина обстановка детства была несколько иной, да и тип был другой; в нем явно преобладала голштинская наследственность, по отцу и деду, а в Александре – вюртембергская, по матери, как и в младших Павловичах. В духе своих педагогических воззрений, Екатерина стремилась дать внуку не столько широкое и солидное образование, сколько идеологическое воспитание и поручила это дело республиканцу по воззрениям и питомцу французской просветительной литературы XVIII в. – Лагарпу. Республиканец – воспитатель будущего самодержца – казался позднейшим поколениям явлением парадоксальным. Но надо вспомнить, что сама Екатерина, как и Александр, любили называть себя «республиканцами по духу». Это слово в те времена вовсе не означало непременно определенного политического воззрения. Под ним разумели скорее некоторый моральный тип, благородный характер, воплотивший в себе начала «гражданской добродетели», твердого служения усвоенным принципам справедливости, общественного долга, человеческого достоинства и стоического мужества в этом служении. На образцах античной доблести, чеканно обрисованных в писаниях историка Тацита и в биографиях Плутарха, и на рассуждениях в духе французской просветительной философии о принципах свободы и равенства, народного блага и просвещения раскрывалось возвышенное, идеально-отвлеченное содержание этого мировоззрения. В атмосферу таких представлений и чувствований погружал Лагарп впечатлительного питомца, заставляя его к тому же всматриваться в черты собственного характера и поведения, письменно каяться в дурных и мелких побуждениях, осуждать их в определенных французских фразах. Александр глубже воспринял прививаемый ему гражданский идеализм, чем можно было бы ожидать по свойствам подобной педагогики, которой он подвергся в течение детства и юности (от 6 до 17 лет). Он навсегда сохранил благодарную привязанность к Лагарпу и привитые им основные идеологические заветы. И покаянные приемы этой педагогики приучили Александра не только к искусной технике лицемерия – ее он усвоил из более сильных житейских источников придворного и семейного своего быта, – но также применению повышенных идейных критериев в оценке людей, среды и самого себя. Надо признать, что воспитание Лагарпа должно было зародить в нем то «большое недоверие к самому себе», какое отмечает в Александре Строганов и которое также определилось и окрепло в трудных условиях его юношеской жизни между двумя дворами – «большим» и «малым», как их называли, – петербургским и гатчинским. Двор и вся среда правящего центра дали питомцу Лагарпа превосходный материал для практической примерки отвлеченных принципов личной и гражданской добродетели. Внешний блеск и условная величественность, салонное изящество, доведенное до уровня художественной картинности, плохо прикрывали для юноши, жившего в этой обстановке, крайнюю распущенность нравов и быта, разгул мелких интриг и корыстных происков, низость характеров и отношений, цинизм хищений и произвола. Он видел императрицу окруженной «людьми, которых не желал бы иметь у себя и лакеями», а в их руках – власть над обширной империей, непомерно разросшейся и беспощадно эксплуатируемой бесконтрольным и безответственным хозяйничаньем власть имущих. «Господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно», – писал он в 1796 г. своему учителю. Позднее, при восшествии на престол, он объявит в манифесте намерение, даже «обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины Великой». Быть может, что, подписывая этот манифест, он не чувствовал всей глубокой фальши подобной формулы и не только подчинился условиям момента реакции против павловских «новшеств»: екатерининская идеология эпохи «Наказа» была ему близка. Но личной преданности памяти о бабке-императрице в нем не было и следа, а ее царствование, в его конечных итогах, вызывало в нем суровое осуждение.
И разлад Александра с петербургской средой, и даже лагарповские уроки «добродетели», хотя и с измененным содержанием, нашли поддержку в его связях с «малым», гатчинским дворцом. Родители сумели, в известной мере, вернуть себе влияние на сына, хотя прямой интимной близости между ними так и не установилось. Тут Александр попадал в обстановку, во всем противоположную петербургской. Строжайшая дисциплина во всем, отчетливый порядок, больше простоты в ежедневном быту, семейная жизнь, резко отличная от столичной распущенности, более скромная, но и более искренняя культурность, скорее немецкого, чем французского типа, самая политическая заброшенность «малого» двора придавала ему характер иного, особого мирка, похожего скорее на двор мелкого германского князя, чем будущего русского самодержца. Тут мало чувствовалось веяний «просвещенного» века с его рационализмом, скептицизмом, вольтерьянством, а господствовала несколько мещанская корректная «добродетель» немецкой принцессы, отражались новые течения – сентиментализма, возрождения ценности «чувства и веры», рутинной, но по-своему крепкой религиозности и морали. В суждениях и воззрениях, с какими тут встречался Александр, звучала резкая критика петербургского быта – и дворцового, и общественного, всего хода управления – и военного, и гражданского. Традициям XVIII в. – «революционным» – тут противопоставляли начала «порядка», дисциплины, монархического и военного абсолютизма, верности традиционным заветам религии и бытовой морали, – начала европейской реакции. Многое должно было быть в этом мирке чуждо питомцу Лагарпа, но импонировала «чистота принципов», признание «добродетели», исполнения «долга», поддержание «порядка». Идеально-законченный прототип этого «порядка» Павел видел в замуштрованном до полной механичности всех строевых движений войске и выработал под руководством прусских инструкторов в своей маленькой гатчинской армии ту мертвящую систему воинской выучки, которой подверг затем всю русскую армию. Служба в гатчинских войсках была тяжела и даже опасна: такая муштровка требовала мелочной напряженной исполнительности и достигалась жестокой системой дисциплинарных кар, а Павел, со свойственным ему редким даром все доводить до уродливой крайности, прусскую муштровку и суровую дисциплину довел до нестерпимой утрировки. Однако он создал систему приемов и навыков, прочно усвоенную всеми Павловичами и царившую в русской армии до военной реформы Александра II как твердая форма милитаризма, в котором русское самодержавие XIX в. искало и находило не только наиболее надежную опору, но также недостижимый и все-таки желанный образец общественной дисциплины вообще. Александр прошел тут вторую школу, глубоко на него подействовавшую, – школу Аракчеева, надежного и заботливого экзерцирмейстера, преданного дядьки-слуги, который ввел питомца во всю премудрость армейской техники, облегчая трудности выполнения отцовских требований. Связь с Аракчеевым создалась прочная, на всю жизнь. Александр нашел в нем безусловную исполнительность, грубую, жесткую, но сильную энергию, которой пользовался охотно, закрывая глаза на трусливо-низкую подкладку аракчеевской жестокости, и почти до конца дней своих относился к этому «другу» с таким полным личным доверием, какого не имел ни к кому другому из близких, ни, пожалуй, к самому себе. Ход событий сближал их еще теснее – на началах своего рода взаимного страхования…
Темные, мрачные стороны внутренних соотношений в правящей среде воспринимались Александром, несомненно, с большой остротой в его круговращении между Петербургом и Гатчиной. Впечатления эти получили особую личную напряженность в связи с планами Екатерины относительно престолонаследия. Она открыто готовила Александра себе в преемники. А для Павла этот вопрос был не только личным, но связывался с принципиальным вопросом о положении престола и династии в самодержавном государстве. Еще в январе 1788 г. Павел с женой заняты выработкой закона о престолонаследии, с публикации которого он начал свое царствование, закона, который должен был покончить с зависимостью преемства во власти от произвола окружавшей престол дворянской среды и придать самодержавию самодовлеющую устойчивость законной власти. Планы Екатерины ставили отца и сына в положение соперников, из которого Александр попытался выйти: на прямое сообщение ему воли Екатерины ответил уклончивым благодарственным письмом и поспешил сообщить все дело отцу. Однако недоверчивость задетых честолюбий осталась в недрах семьи разъедающим отношения червяком. К тому же мысль Екатерины о законе, который определял бы право императриц царствовать, по-видимому, тогда же запала в душу Марии Федоровны…
Вся обстановка, разлагавшая возможность сколько-нибудь здоровых, нормальных человеческих отношений, воспитывала в этой среде то недоверчивое, даже резко презрительное отношение к людям, какое высказывал Павел в оправдание крутого деспотизма и которое заразительно влияло на его сыновей, тем более что не расходилось с их личными впечатлениями от окружающей их жизни. Принципиально такое воззрение не расходилось и с заветами Екатерины; ведь и она находила, что для осуществления более разумного строя отношений и порядков необходимо создать «новую породу» людей, а когда разочаровалась в возможности искусственно переработать русское общество в пассивный материал для своих экспериментов, опустила руки и поплыла по течению. Павел по-своему устремился к дрессировке всего общества в полной покорности велениям власти – методами внешней дисциплины и резкого подавления всякой самостоятельности, даже в бытовых мелочах. Этим же направлением воли и мысли был вызван его проект реформы центрального управления организацией министерств как органов личной императорской власти. Как в военном деле, так и в создании русской бюрократической системы начинания Павла приобрели большое историческое значение, так как получили дальнейшее развитие при его сыновьях-преемниках.
Так, гатчинская школа имела огромное значение для подготовки Александра к его будущей деятельности и для его личного характера и воззрений. Правление отца было продолжением той же гатчинской школы. Условия личной жизни Александра в эту пору – еще напряженнее, еще сложнее.
Едва ли эти годы дали ему много особенно новых впечатлений. И влекущее честолюбие, и жутко-тягостные стороны власти были ему ясны. Успокаивался он от двойственности таких настроений в месте о благодетельной речи законодателя, который, выполнив свою задачу всеобщего благоустройства, сможет потом почить на лаврах, отдохнуть от напряжения, сложить трудное бремя. В 1797 г. он пишет Лагарпу о «посвящении себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить в будущем стать игрушкой в руках каких-либо безумцев»; такое дело было бы «лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей». А затем что? Ответом на такой вопрос служила идиллическая картинка, в духе тогдашней сентиментальной литературы, – об уединении в уютном сельском уголку, в семейной обстановке, в домике где-нибудь на берегах Рейна.
Такие мечты удовлетворяли разом и тягу к красивой роли, к благородному выполнению долга в духе усвоенной с детства просвещенной идеологии, и личную склонность избегать напряжения, особенно длительного, уклониться от креста жизни, хотя бы ценой отказа от заманчивой перспективы «великой» роли на исторической сцене и от власти. Такие мечты были заманчивы для натуры Александра, но и опасны. Страна – «игрушка безумцев»; это не отвлеченная фраза; «безумцем», которому нужна опека, считали Павла и до его вступления на престол. Иностранные осведомители уже в 1797 г. – в год коронации Павла – сообщали о толках про неизбежный новый дворцовый переворот, пока не определившихся в заговоре, но уже бродивших в Петербурге. А наследник – соперник отца при Екатерине, хоть и пассивный, хоть и поневоле, – обсуждал с друзьями планы своего правления, столь непохожие на отцовские. «Нас, – пишет он в том же письме, – всего только четверо, а именно: Новосильцев, граф Строганов и молодой князь Чарторыйский, мой адъютант».
В первое время правления Павел был под бдительной опекой двух женщин – императрицы Марии Федоровны и фрейлины Нелидовой, заботливо сглаживавших угловатости его неуравновешенного нрава. Императрица сплотила своим влиянием правящую группу, в которой главную роль играли Куракины, Безбородко и Н.П. Панин. Но это своего рода регентство было скоро разбито влиянием Кутайсова и Растопчина, не без предательства, по-видимому, со стороны лукавого старика Безбородко; интрига дошла до подсунутого Павлу романа с А.П. Лопухиной, разбила его семейную обстановку, вывела его из последнего равновесия. Коснулась она и Александра. Его друзья были удалены от него, разосланы по разным местам. Павел, видимо, готов был довести этот домашний и придворный переворот до крайности, устранить Александра и передать наследство принцу Евгению Вюртембергскому, выдав за него одну из дочерей, Екатерину; во дворце ожидали заточения Марии Федоровны в монастырь. Трудно судить, насколько тут были более или менее действительные намерения, а насколько случайные вспышки раздражения и подозрительности, быть может, взвинченных смутным ощущением нараставшего разрыва с окружающими, за которым чуялся созревший заговор. Гневные выходки по адресу жены и детей, угрозы и нескрываемое подозрение в отрицании его власти закончились 10 марта сценой повторной присяги старших сыновей отцу, которую тот вынудил: Александр принес ее, зная о заговоре и давши согласие на устранение отца от власти. Самый срок выполнения – в ночь с 11 на 12 марта – указан был им (Пален, руководитель всего дела, предполагал 8-го), потому что на карауле во дворце будет лично для него наиболее надежная воинская часть.
Александр дал свое согласие за несколько месяцев до того на переворот, подготовленный Н.П. Паниным. Панин указывал на государственную необходимость: действия Павла грозят «гибелью империи». Круто нараставший произвол самодержца, у которого каждое движение неуравновешенной натуры безудержно переходило в «высочайшие повеления», жестокие, необдуманные и бессвязные, создавал нетерпимую обстановку спутанности всех дел и отношений, случайности всех личных судеб и решения всех важнейших и мельчайших очередных вопросов. Главный же толчок, который скрепил нараставшее недовольство в организованный заговор, был дан крутым поворотом во внешней политике Павла: к выходу из антифранцузской коалиции, разрыву с Англией, союзу с Наполеоном. Поворот этот слишком сильно ударял по интересам русской торговли и русской правящей знати, казался безумным нарушением «английской ориентации», скрепленной недавними договорами. Панин предполагал передачу регентства Александру, по-видимому, по решению Сената, быть может, в расширенном составе, с привлечением высших военных и гражданских чинов, предполагал даже, что Александр лично примет на себя руководство исполнением всего плана, чтобы не допустить излишних крайностей. Дело обсуждалось еще в конце 1799 г. между Паниным, адмиралом Рибасом и английским послом Витвортом; заговор созрел в гостиной О.А. Жеребцовой, сестры Платона Зубова; охватил широко гвардейские и сановные круги Петербурга; был известен старшим членам царской семьи, не выключая, по-видимому, и самой императрицы Марии Федоровны, лелеявшей, однако, по свидетельству ее вюртембергского племянника, свои планы на регентство; получил согласие Александра, хотя и уклонившегося от личного участия в выполнении. Но в роковую ночь с 11 на 12 марта 1801 г. дело получило иной оборот. Группа заговорщиков, взявшая на себя выполнение, руководимая петербургским военным губернатором Паленом, вошла во дворец с актом об отречении Павла от престола, чтобы вынудить его подписать и арестовать его, а кончила безобразной расправой над ним, с побоями и удушением.
Через труп отца прошел Александр к престолу. Переворот получился не английский – государственный, а русский – дворцовый; иного и не могло быть при самодержавном строе: дело шло о личной власти, не о «национальных полномочиях» конституционализма. Александр получил власть не от Сената, не от правящих сил дворянского класса, а по собственному праву, по «основному» закону о престолонаследии, применительно к которому и присяга принесена была при вступлении на престол Павла не только на имя отца-императора, но и сына – законного наследника. Убийцы Павла лишь ускорили вступление на престол сына, отстранили неуместные притязания матери на власть (о проявлении которых сохранились любопытные свидетельства), расчистили ему дорогу.
Несомненно, что память об 11 марта нависла тяжелой тенью над всей дальнейшей жизнью и деятельностью Александра-императора. И не столько потому, что он не мог считать себя чистым от кровавой грязи события. Он был участником заговора; он принял его кровавый исход, не объявил выполнителей убийства преступниками, сохранил их себе сотрудниками, а если кого и отдалил, то по иным мотивам; тот, кого надо признать главным виновником кровавого исхода (он же и Марию Федоровну сумел поставить на место), Беннигсен, не испытал никакой «опалы», а если и получил временно назначение вне столицы, то и это не было какой-либо карой, а лишь тактическим приемом Александра. В общем, нет оснований строить на этой стороне воспоминаний Александра об 11 марта какую-либо личную его драму. Пережитое легло, конечно, на семейные отношения петербургского двора. Поведение императрицы-матери, о которой Чарторыйский, например, сообщает, что она в ту ночь «казалась в первые моменты решившейся на смелое выступление, чтобы захватить бразды правления и отомстить за убийство мужа», вызвало Александра на недоверчивый надзор за ней, доходивший до перлюстрации ее переписки, особенно с вюртембергским двором. А Мария Федоровна то и дело пыталась повлиять на политику сына своими наставлениями, вызывая с его стороны почтительные, но твердые разъяснения, группировала около себя недовольных его решениями, сумела сохранить за собой первенствующее положение во дворце, не щадя в письмах к сыну упоминаний о том внимании, с каким относился к ее желаниям «незабвенный» покойник. В ином смысле шантажировал Александра памятью о Павле Аракчеев. Надпись на памятнике, который он воздвиг Павлу в своем Грузине: «Сердце чисто и дух прав перед Тобою», проявлялась им так: «Кто чист душою и помышлением моему единственному Отцу и Благодетелю, также вечно будет предан и всеавгустейшему его семейству». Такими ходами Аракчеев попадал в самую суть значения 11 марта для Александра. Этот последний образец дворянских дворцовых переворотов XVIII в. был грозным для самодержца напоминанием об его зависимости от окружающей престол среды. А сознание такой зависимости, тревожившее Александра в течение всей его деятельности, во всех важнейших вопросах и внешней, и внутренней политики, в корне противоречило всей идеологии Александра, всем усвоенным им воззрениям на власть, на ее задачи и способы действия, как и вскормленным на этой идеологии личным свойствам его характера.









































