Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
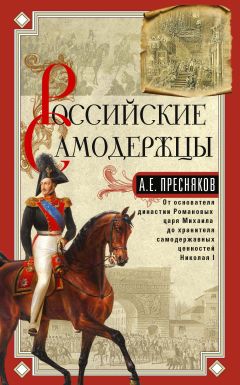
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
III. Дела церковные при царе Алексее Михайловиче
Строители Московского царства в XVI в. и книжники их времени опирали то представление о православном Московском царстве, которое заняло столь большое место в мировоззрении царя Алексея, на определенной мысли о значении Москвы в истории человечества. Москва – Третий Рим, последняя столица христианской мировой монархии, последнее хранилище истинной вселенской веры; она будет стоять до страшного дня судного, ее падение возможно только в связи с теми апокалипсическими бедствиями, какие предсказаны на последние времена жизни мира сего. Эта прегордая национальная мечта подверглась тяжкому испытанию в годину Смуты, когда вообще русским людям пришлось пережить перелом многих привычных воззрений. Смута в жизни государственной и общественной неизбежно сопровождалась смутой в мыслях и чувствах московских людей, выбитых из привычного уклада политических и бытовых отношений. Мысль, возбужденная резкими впечатлениями переживаемых событий, упорно искала ответа на вопрос об их причинах и, по всему укладу тогдашней духовной жизни, приходила к выводу о каре Божьей, которой Господь наказует грешных людей Московского государства, исчерпавших своими сквернами Его долготерпение. Покаянное и обличительное настроение охватило широкие общественные круги. Русские люди «измалодушествовались», потеряли уверенность в устоях своего быта и поведения, видя «разруху» привычного строя всей своей общественной жизни. Москва разорена, унижена, попала в руки врага, предалась ему. Пал Третий Рим, и жуткая мысль, что настают «времена последние», охватила взбаламученную совесть и сбитые с привычных путей умы. Карающая десница Господня слишком тяжко опустилась на русских людей, чтобы могли они усомниться в тяжести греховной вины своей и не задуматься над ее проявлениями в своем общественном и частном быту. Отсюда два течения московской мысли XVII в., определившие ряд ее исканий в церковной жизни и в быту общественном.
Когда миновала «великая разруха», пришло время восстановления не только внешнего порядка. В общественной жизни московской поднялся ряд церковных и религиозно-нравственных вопросов, сильно волновавших особенно те поколения, которые выступают на сцену с 30-х гг. XVII в.
К тому времени церковное управление было восстановлено, подобно государственному, и в том же духе усиления центральной власти и ее приказных органов. «Великий государь», святейший патриарх Филарет, создал систему патриарших приказов, по образцу светских, сосредоточил в них суд и расправу над всем духовенством и всеми церковными людьми, установил нелегкую систему тягла приходского духовенства, платившего пошлины и подати с земель, с треб и со всякого дохода в патриарший Казенный приказ. Высоко поднял патриарх Филарет значение патриаршего сана, как отец государя и его соправитель, управляя властно церковными и земскими делами. Но и в области церковной жизни, как в государственной, внешнее восстановление организации сопровождалось сознанием необходимости пересмотреть и уяснить ряд вопросов, в которых старые традиции уже не соответствовали новым условиям, старые отношения – назревшим потребностям. Испытания Смутного времени в значительной мере пошатнули старую московскую самонадеянную исключительность, и перед Русской церковью стал, в связи с ее внутренним состоянием и отчасти с международными делами, вопрос об ее отношениях к православным церквам Греции и Юго-Западной Руси. Постепенно подготовлялось то сближение с ними, которое в дни царя Алексея окончательно взяло верх над острым недоверием к чистоте их вероисповедной и церковной традиции. К такому сближению приводили разные мотивы. С одной стороны, самый идеал Московского царства издавна побуждал дорожить ролью покровителей православия на греко-турецком Востоке, тем более что она переплеталась с давними культурными отношениями к южному славянству; в официальных кругах ожило с новой силой представление об этой «вселенской» роли Москвы, и его усердно поддерживали греки – ходатаи о милостыни царской. Так, в 1649 г. иерусалимский патриарх Паисий, приехав в Москву, приветствовал царя Алексея пожеланием, чтобы Бог сподобил его «восприяти превысочайший престол великаго царя Константина», а патриарха Никона «освящати соборную апостольскую церковь Софию»; вторили ему и другие, поддерживая в царе Алексее мечту о византийском наследстве, которая была так родственна его воззрениям на свое царство как на орудие Божьего правления на земле. По отношению к Южной Руси в том же направлении действовали, наряду с церковно-религиозными и национальными, мотивы политические, но в малороссийском вопросе царь Алексей особенно резко выдвигал вероисповедную тенденцию против тех из своих советников, кто удерживал от борьбы с Польшей за Украйну.
Живое сознание связи Москвы со всем славянским и православным миром питало стремление углубить ее церковные отношения к вселенской восточной церкви, столь сильно ослабевшие в XVI в. Но в жизни Русской церкви была и другая сторона, приводившая к тому же результату. Московское общество вышло из Смуты с сознанием слабости своих культурных сил, и это сознание только утверждалось по мере роста затруднений в работе над очередными задачами государственной и общественной жизни. Как в других ее областях, так и в церковных делах все яснее выступает недостаточность старых источников и приемов просвещения, отсутствие подготовленных людей для важного и нужного дела. Московская Русь потянулась за знаниями, сведениями и материалами более развитой книжной премудрости туда, где они были, в Киев и к грекам. Но многое тут смущало, и не без основания. Ближе были, по языку и народности, киевляне. Но их образованность почерпнута от католического Запада, пропитана не только его приемами мысли, но и элементами латинских воззрений. Прилив церковной письменности из Юго-Западной Руси встретили в Москве с большим недоверием, подвергали ее произведения бдительной цензуре и находили там то и дело «латинския мудрования» в темах богословских. У греков собственное просвещение было в упадке, жило старыми соками и все больше воспринимало те же западные влияния; самые книги церковные печатались для греков на Западе, преимущественно в венецианских типографиях, и не были свободны от погрешностей, вольных и невольных. Наконец, моральный уровень греков, приходивших в Москву просить о материальной поддержке и старавшихся угождать милостивцам лестью и интригами, был не таков, чтобы поднять их авторитет. Трудно было москвичам разбираться в этих смущающих впечатлениях и, отделив их от существа большого дела, использовать новые средства церковного просвещения, притом в духе единения в нем всего православного Востока. Однако неотложная нужда двинула эти искания в определенном направлении. Еще при патриархе Филарете им служил с редкой вдумчивостью и теплым убеждением кружок церковных деятелей, почитателей памяти Максима Грека, группировавшийся около троицкого архимандрита Дионисия. Против гонителей своего дела они нашли поддержку в иерусалимском патриархе Феофане, который приезжал в Москву в 1619 г. и посвятил Филарета в патриархи всея Руси. Феофан обратил внимание русских иерархов на отличия московского и греческого церковных обрядов, добился частичного их согласования в некоторых деталях, а главное, поучал о необходимости «православныя греческия книги писать и глаголать и философство греческих книг ведать»: несмотря на всю важность греческой богословской школы для православия, «до сего Феофана патриарха во всей России редкие по-гречески глаголаху». По-видимому, от Феофана идет и воззрение, что только путем исправления русских книг и обрядов по тем, которые приняты в современном греческом церковном обиходе, достигнет Русская церковь возможности «единомудрствовати, о еже держатися старых законов греческаго православия и древних уставов четырех патриаршеств не отлучатися». Во всяком случае, воззрение это стало постепенно крепкой традицией на иерархических верхах московской церкви и в царском дворце, хотя по существу страдало большой односторонностью: многие из обрядовых отличий московских от греческого образца имели основание в греческой уставной старине, изменившейся с течением времени. Оно возобладало в силу идейной ценности единства, а для царя Алексея имела немалое значение сама эстетика выработанной и богатой обрядности греческой церкви и византийского царского обихода. Недаром выражал он просьбу, чтобы патриарх Антиохийский Макарий молился о нем Богу, дабы ему уразуметь эллинский язык, и выписывал с Афона Чиновник византийских царей – «всему их царскому чину». Но греки, сами по себе, мало могли послужить работой на Русскую церковь, по незнанию славянского языка. В патриаршество Иосифа обратились поэтому к южнорусским монахам, «которые эллинскому языку навычны и с эллинского языка на словенскую речь перевести умеют и латинскую речь достаточно знают». В 1649–1650 гг. по царскому призыву прибыли Арсений Сатановский, Епифаний Славенецкий, Дамаскин Птицкий и, принявшись за дело книжного исправления, поставили его по-новому, и притом на таких началах, которые вскоре вызвали немало споров и раздоров: они стали руководствоваться в исправлении текстов не столько старыми славянскими рукописями, а более современными печатными изданиями, греческими и южнорусскими. С них началось сильное влияние выходцев из Малороссии на московскую церковную жизнь, непопулярное среди великорусского духовенства и общества, тем более что ученость киевская, за редкими исключениями, носила печать заметной односторонности. «Наши киевляне, – жаловался сам Епифаний, – учились и учатся только по-латыни и чтут книги только латинские и оттуда мудрствуют, а гречески не учились и книг греческих не чтут и того ради истины не ведают». С усилением значения малорусской образованности в московскую культуру проникала струя латинского просвещения. Типичным ее представителем был, например, наставник царских детей влиятельный Симеон Полоцкий, который почти не знал греческого языка, а книгу его, знаменитый «Жезл правления», составленную по поручению собора 1667 г. в обличение раскольников, пришлось очищать от «латинскаго мудрования»; ученик же его, Сильвестр Медведев, поднял несколько позднее целую смуту, защищая католическое толкование учения о времени пресуществления Святых Даров. Такова была постановка отношений, когда Никон вступил на патриарший престол.
Но к тому же времени вполне определилось и другое течение московской церковной жизни, также выросшее из потребности ее коренного обновления. Подобно тому как в деле государственного строительства почин выяснения различных нужд и указания средств их удовлетворения исходил, на первых порах, преимущественно от заинтересованных общественных групп, так и задача упорядочения современного церковного быта и общественной нравственности была поставлена «ревнителями» из среды белого духовенства и светских людей. Проявления этих настроений шли из разных мест, но сильнейший центр нашли в Нижнем Новгороде, откуда вышел ряд деятелей церковной жизни XVII в. В 1636 г. девять нижегородских приходских священников подали патриарху Иосифу челобитную «о мятежи церковном и о лжи христианства», обличая леность и нерадение поповское, неуставный порядок богослужения, пение «поскору» и «голосов в пять и в шесть и более», бесчинство среди молящихся, распущенность в народе, преданном пьянству и языческим забавам, как скоморохи и медведчики, «бесовские» игрища и кулачные бои; челобитчики требовали патриаршего указа о «церковном исправлении» и «безсудстве христианства», чтобы в «скудности веры до конца не погибнути». Их голос был услышан, патриарх внес требуемые постановления в свои указные памяти; дело, поднятое ревнителями, встретило поддержку влиятельных кругов благодаря энергии и связям одного из челобитчиков, Иоанна Неронова. В молодости близкий к архимандриту Дионисию, Неронов был известен и патриаршему двору, и царскому «верху». Не раз бывал он в столице и добивался там «повелений царевых и святейшего патриарха на безчинствующих и соблазны творящих в народе, да упразднится всякое небогоугодное дело». Но не патриарх Иосиф был главным его покровителем и союзником, а царский духовник протопоп Стефан Вонифатьев, а с ним и сам царь Алексей Михайлович. В 1649 г. Неронов назначен протопопом в московский Казанский собор и примкнул к кружку лиц, тесно связанных через Вонифатьева с царским дворцом, – радетелей о возрождении силы слова Божия в церкви и в жизни. Этот кружок сложился постепенно, с тех пор как Стефан стал – в первый же год нового царствования – духовным отцом государя. Тут видим боярина Ф.М. Ртищева, крупного благотворителя и покровителя обновленному церковному просвещению, неукротимого в ревности о Боге и правде Божьей Аввакума, властного, энергичного Никона, с 1646 г. архимандрита Новоспасского монастыря. Близостью к царю и влиянием на него они пользуются, чтобы, сплотившись, выдвигать на протопопские места и в Москве, и в провинции людей, способных послужить заветному делу перевоспитания духовенства и его паствы; таковы Аввакум – в Юрьеве-Польском, Логгин – в Муроме, Лазарь – в Борисоглебске, Даниил – в Костроме. Основная цель их – подчинить русскую жизнь строгим религиозно-нравственным требованиям путем царских указов, проповеди и реформы богослужения. Под их влиянием развилось законодательство царя Алексея против народных празднеств, игрищ и скоморошества как остатков языческой старины, опасных для нравственности и религии. Под влиянием Вонифатьева в царском дворце водворялся дух суровой, пуританской чинности. В дни брачного торжества молодого государя отец Стефан «молением и запрещением устрои не быти смеху никаковому, ниже кощунам, ни бесовским играниям, ни песням студним, ни сопельному, ни трубному козлогласованию»; свадьба царская совершилась в тишине и пении песен духовных. Патриарх Никон продолжал позднее традицию Стефана, когда приказывал отбирать и истреблять по боярским домам народные музыкальные инструменты. Изгнав суетное веселье из дворца, ревнители тот же дух сосредоточенной и строгой религиозности пытались внести вообще в московскую общественную жизнь. Их борьба со скоморошеством и иными «студными» обычаями запечатлена большим рвением, доходившим до кулачной расправы, надругательств и гонения. Наряду с этим тот же круг священников и иноков выступил с насаждением учительного слова. Стефан Вонифатьев неустанно наставлял царя и его бояр блюсти правду в делах правления и суд иметь правый, для всех равный, «да не внидет от обиденных и разоренных вопль и плач в уши Господа».
Проповеди Неронова собирали огромную толпу, какой не могла вместить Казанская церковь; сам царь с семьей ездил почасту слушать его. И другие «ревнители» поучали и обличали в церкви и вне ее, в домах боярских, на площади. Но мало было умелых в деле проповеди; и тут пытались найти помощь у греков. У них был навык «поучать изоуст в слух всем людям», а московские ревнители больше держались поучительного чтения – житий святых, святоотеческих слов и посланий. В 1651 г. проповедничество в Богоявленском монастыре было поручено митрополиту Назаретскому Гавриилу, владевшему русской речью; он, видно, знал и жизнь русскую, так как сумел внести в свои проповеди ряд обличений ее пороков.
Средством живого и разумного научения молящихся стремились «ревнители» сделать и богослужение, искаженное обычаем «многогласия» и «пения поскору». Стефан и Ф.М. Ртищев первые ввели единогласное и согласное пение в домовых церквах, затем – по воле царя – оно установлено в Казанском соборе при назначении туда Неронова. Весь круг единомышленных с ними священников горячо взялся за распространение этой реформы. Но остальное духовенство и миряне в большинстве отнеслись к ней враждебно; дело осложнялось тем, что на Руси богослужебный устав был принят из самых строгих монастырей греческих и требовал очень много времени на выполнение всех служб; на практике предпочли «многогласное» служение разумному сокращению службы. И церковный собор, созванный в феврале 1649 г. для введения единогласия по всем церквам, отверг его, но царь не утвердил такого «уложенья и приговору», побудил патриарха Иосифа снестись с греческой церковью, и в 1651 г. новый собор постановил, согласно с отзывом, полученным из Константинополя, отменить многогласные служения. С этим связана была и реформа церковного пения по старым нотным книгам, которое делало тексты невразумительными, так как сохраняло произношение глухих гласных, так что, например, написание «людьми» – читалось «людеми», «снедаяй» – «сонедаяй» и т. п. Все эти мероприятия возникали помимо патриарха и вызвали сильно натянутые отношения между ним и вонифатьевским кружком, который через царя проводил те назначения на церковные должности и те общие установления, какие находил нужными. В последний год патриарх Иосиф чувствовал себя вовсе отстраненным от управления церковью и говаривал: «Переменить меня, скинуть хотят». Конечно, благочестивому царю и его близким было «и помыслить страшно на такое дело». Только кончина Иосифа в 1652 г. отдала патриарший престол в их руки. Казалось, что отныне вся сила иерархии церковной должна вступить на путь «ревнителей». Есть известие, что они подавали царю Алексею челобитную «о духовнике Стефане, что ему быть в патриархах», но Стефан уклонился и вскоре ушел в монастырское уединение. Тогда на патриаршество был призван царем Никон, с 1648 г. занимавший митрополичью кафедру в Новгороде Великом.
Особенностью вступления Никона на престол патриарший было условие, поставленное им царю, иерархам и боярам: «Послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца крайнейшаго, елико он возвещать будет о догматах Божиих и о правилах», – и все во главе с царем Алексеем дали ему обещание «сохранити непреложно» такое повиновение. Никон ни по натуре, ни по воззрениям не мог сжиться с такой ролью патриарха, какая выпала на долю Иосифа. Он принял высокий сан, получив гарантию, что за ним будет признана полнота власти в правлении церковном, что царь возложит на него всю заботу о церковных делах, склоняясь перед авторитетом святейшего патриарха. Царь Алексей принял условие, быть может, вовсе без колебаний. Раздвоение церковных отношений между патриаршим двором и придворным духовенством не могло не тяготить его мягкую натуру той боевой ролью, какую подчас ему навязывали. Никона он привык чтить и слушать в течение ряда лет, а твердый и властный характер нового патриарха покорил на время царя, которому всегда не хватало этих качеств. Но тем уклад их отношений не ограничился. Царь отстранился от вмешательства в дела церкви, так что Никон с епархиальными владыками поставляли архимандритов и протопопов «самовольством, кто им годен, без указу великого государя», и все новшества Никона шли мимо его участия. Царь поддался во многом влиянию Никона, признал за ним титул «великаго государя», совещался с ним о делах правления, предоставлял патриарху значение своего заместителя во время частых и продолжительных отлучек на театр военных действий против Польши. Властительный не менее Филарета, Никон должен был повлиять на решительный переход от усложнившихся отношений с Земскими соборами к приказной автократии, но крупной личной роли в направлении государственных дел сыграть не мог, так как не был в них сведущ, да и застал сложившуюся политическую жизнь, со многими особенностями которой, как Монастырский приказ и другие новины Уложения, должен был скрепя сердце мириться. Но за всем тем положение Никона до его разрыва с царем было близко к положению главы церкви, царю неподвластного, а поставленного рядом с ним в руководстве судьбами Московского государства. В правлении церковном Никон поставил себя носителем полной, независимой и единоличной власти. Торжественная обстановка его патриаршего обихода, его двора и «выходов» ни в чем не уступала царской, уподобляясь тому, «как бывает чин перед великим государем»; главу его украшала митра необычной формы, подобная царскому венцу, под ноги ему стлали ковер с вышитым двуглавым орлом. Вся эта пышность отвечала воззрению Никона, что «священство и самого царства честнейшее и большее есть начальство». Торжественно запечатлел он величие священного сана, побудив царя Алексея, по перенесении мощей митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву, преклонить «честь своего царства», «сан свой царский» перед ними за тяжкую вину царя Иоанна. И предисловие к Служебнику 1655 г. призывало народ благодарить Бога, избравшего в начальство людей своих, «двух таковых великих государей», как царь Алексей и патриарх Никон, и славить Его «под единым их государским повелением». В таком же настроении вел Никон, «Божией милостью великий господин и государь», как он титуловал себя в некоторых грамотах, и управление церковное, будучи тяжким властителем для всего духовенства. Архиереев он признавал не сослужителями своими, а лишь исполнителями своих велений, требуя с них, при поставлении, обещания, «аще что сотворят без патриаршаго ведома, да будут лишены, без всякаго слова, священнаго сана»; как «отец отцов» и «крайний святитель», патриарх, по взгляду Никона, «образ Христов носит на себе», а епископы подобны его апостолам. Но вместе с тем церковная политика Никона возвышала власть епископов, ставя их независимо от светской власти и признавая пастырские полномочия только за ними, отнюдь не за священниками. И быть может, никогда не было так тяжко рядовому священству и монашеству под управлением патриарших приказов, как при патриархе Никоне.
Такая постановка патриаршей власти не замедлила отразиться на ходе церковной реформы. Никон не пошел об руку с прежними друзьями и требовал от них не совета и сотрудничества, а покорности. Царь отстранился от вмешательства в дела церковные. Дело «ревнителей» заглохло в тот момент, когда они могли мечтать о торжестве. Никон не пошел их путем. Его энергия сосредоточилась на усилении иерархической власти и на исправлении церковных книг и обрядов. Порыву к работе над обновлением религиозно-нравственного быта проповедью и личной боевой деятельностью «ревнителей» не стало больше опоры у царского и церковного авторитетов. Личная обида, а еще более различие по духу и целям сделало прежних союзников непримиримыми врагами. Сурово обличал Неронов Никона, что «от него всем страх и его посланники паче царевых всем страшны», и убеждал «смирением Христовым, а не гордостью и мучением сан держати». Дело исправления церковного, по мнению Неронова и его друзей, не должно быть в единоличной власти патриарха. Но и те соборы, какие созывались Никоном для обсуждения и утверждения исправлений, их не удовлетворяли: истинный собор, по убеждению Неронова, должен состоять не из одних архиереев, к нему надлежит призвать и белое священство, и представителей паствы – мирян. Разлад шел и дальше, захватывая самые приемы исправлений. «Ревнители», став противниками Никона, не отрицали надобности поправок, но настаивали, что в основу надо положить древние славянские книги. Для патриарха и для царя Алексея это было неприемлемо, ибо такой прием убил бы основную задачу реформы – согласование московского церковного обихода с современным греческим; этой цели не удовлетворила бы и работа с помощью древних греческих рукописей, так как и в них было многое, что с течением времени отпало и изменилось. Принципиально реформа признавалась восстановлением старины; Арсений Суханов дважды ездил на Восток и вывез богатое собрание древних греческих богослужебных книг. Но он же привез точные сведения о различиях между русским и греческим обрядом и даже об осуждении на Афоне наших книг за их ошибки и отступления от принятого у греков. Ученые-справщики из малороссов работали преимущественно не по старинным рукописным книгам, русским или греческим, а по новым венецианским изданиям, какими пользовалась греческая церковь. Так сложилась почва отношений и фактов, на которой вырос тяжелый разлад, а затем и церковный раскол. Противники Никона резко осуждали его деятельность – и как патриарха-управителя, и как исправителя книг и обрядов. Гневно встречал он критику, видя в ней прежде всего непокорность людей из рядового по сану духовенства своей высокой власти, и громил их ссылками и заточениями. Царь верил патриарху, был подавлен его сильной волей, хотя скорбел о прежних близких и почитаемых людях, с которыми было сердце всего дворца, царицы Марьи и ее близких. Но по существу царь мог быть только с Никоном, а не с ними. Их вражда к грекам и малороссам, их стремление сохранить национальную церковную старину противоречили основным настроениям царя Алексея, увлеченного идеалом вселенского православного Востока с московским царем во главе.
Пока все спорные вопросы не сходили с почвы разлада между патриархом и группой священников, они могли казаться частичной, хотя и острой смутой, лишенной общецерковного значения. Спорные исправления и распорядки воспринимались противниками Никона как его личное дело, которое с ним и погибнет. Они считали возможным апеллировать на патриарха царю, подавая ему челобитные, полные жалоб и обличений. Они чувствовали себя в лоне вселенской церкви, а в раздоре только с временным управителем Русской церкви, которой сами были духовными членами. Однако весь разлад приобрел иной и более принципиальный характер, как только дело церковных преобразований отделилось от личности Никона. Толчок к тому подал разрыв согласия между царем и патриархом. Все поведение Никона выражало то представление о преимуществе духовной власти перед светской, которое являлось отрицанием не только исконной зависимости Русской церкви от московских государей, но и дорогого царю Алексею учения о святости царского сана. Царь мог еще допустить самостоятельность действий патриарха и его влияние на дела государства как следствие личного доверия своего к Никону. Но Никон не довольствовался ролью своего рода временщика и подчеркивал, что свою опору видит не в милости царской, а в правах своего сана. Как во внутреннем строе церковных отношений, так и в отношениях церкви к государству Никон шел путями не обычными. Его манил образ патриарха – неограниченного властителя церкви, не зависимого ни от какой земной силы, наместника Христова, и он узнал его в римском первосвященнике: Никон внес в издание «Кормчей книги» перевод знаменитой Donatio Constàntini, грамоты, обосновывавшей папские притязания на светскую власть легендой об уступке императором Константином Великим папе римскому прав на Западную империю. К идейному спору эти тенденции привели только после падения Никона, но пропитанная ими практика всех отношений обусловила резкий разрыв царя с патриархом.
Своей безудержной «властительностью» Никон скопил много раздражения в духовенстве и боярах. Тяготила она и царя Алексея, которому близкие люди настойчиво указывали, как патриаршее самовластие унижает сан царский. Личное охлаждение между царем и Никоном дало последнему почувствовать, что почва под ногами заколебалась, и он решил уходом с патриаршества поразить царя и заставить его смириться. Но царь Алексей предоставил ему удалиться в Воскресенский монастырь и испросил через бояр его благословения на передачу блюдения патриарших дел крутицкому митрополиту Питириму. Так настало в 1658 г. положение, трудное и для церкви Русской, и для царя Алексея. Никон недолго мирился с потерей власти и развернул ряд притязаний, совершив крайне резкие политические выпады против светской власти и повинующегося ей духовенства. Он держался того взгляда, что, и отстранившись от фактического правления, он не теряет патриаршего сана, осуждал действия своего заместителя, настаивал, что, кроме него, некому поставить нового патриарха. На соборе, который был созван царем в 1660 г. для обсуждения создавшегося положения, раздались голоса против признания Никона низложенным или суда над ним: его можно только «молить сыновним повиновением, да исправится во нраве своем». Правда, собор пришел к выводу, что Никон достоин лишения не только патриаршества и архиерейства, но и священства; но это решение было оспорено по существу Епифанием Славенецким и Игнатием Иевлевичем, а последний указывал, что без участия вселенских патриархов дело Никона вообще неразрешимо. Оно и затянулось на несколько лет – до 1667 г., в течение которых руководство делами церкви фактически сосредоточилось в руках царя. На это царское господство в церкви обрушилась негодующая и не знавшая меры полемика Никона. Видя, как «царское величество расширился над церковию», Никон решался утверждать, что все духовные лица, назначенные по царскому велению, «не избрани от Бога и недостойны», а все их церковные действия недействительны, так что «такова ради беззакония все упразднилося святительство, и священство, и христианство», и, видно, пришло уже время, когда Антихрист «повелит себе кланятися нечувственно, якоже ныне архиереи… кланяются царем», так что, заключал раздраженный Никон, «от сего разумеем, яко последний час есть». Мало того, он пытался призывать духовенство к активному сопротивлению светской власти, дал волю своему раздражению против Уложения, требуя, чтобы духовенство не подчинялось его узаконениям и суду Монастырского приказа. Но Никон был одинок и бессилен. Был момент в 1664 г., когда он решился на попытку вернуться патриархом в Успенский собор, но царь его не принял. Пришлось уехать, согласиться на формальное отречение от патриаршего престола. Никон еще ставил условия – сохранение титула, управления и доходов нескольких монастырей и т. п., но было уже поздно: передача его дела на суд собора при участии восточных патриархов была решена окончательно.
В таких условиях выяснялась в то же время судьба церковных преобразований. Царь Алексей взял этот вопрос в свои руки. Казалось, что с устранением Никона падет главное препятствие к установлению мира в Русской церкви. Ведь Никон, не без настояний царя Алексея, примирился с Нероновым, тогда уже иноком Григорием, на компромиссе взаимного признания старых и новых книг равноценными. Церковные новшества входили в жизнь, царь сам распространял новые книги через Тайный приказ, буря разногласий как бы затихла. В 1664 г. призван в Москву Аввакум, принят ласково и с почетом. Однако разногласия оказались слишком коренными, чтобы уладить их личными переговорами и уступчивостью. Неронов настаивал на избрании нового патриарха собором Русской церкви, человека кроткого, «со всеми христолюбцы единомудреннаго»; все его единомышленники отрицали греческое и малорусское влияние в церковных делах, стояли за московскую старину против Никоновых исправлений, а все частные спорные темы сливались в общем осуждении того нового духа, которым проникались чем дальше, тем больше, официальная государственная и церковная жизнь, а равно и быт общественных верхов. Аввакум в челобитной царю против церковных новшеств уже произнес слово «никониане», отделяя свою «истинную веру» от их воззрений, а в массе народной ощущение перелома в традициях московского быта уже отливалось в страх близкого или наставшего прихода Антихриста, в тревогу ожидания «последняго времени». В оппозиции против «никонианства» звучали ноты отрицания власти и авторитета иерархии, осуждение царской церковной политики обобщалось в осуждение ее полномочий по управлению церковью, приводило к суровому отвержению новых культурных отношений и навыков. Тут спорили два мира, разно строившие понятия о должном и желательном в государственном, общественном и церковном быту, и примирение их было вне исторической возможности.









































