Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
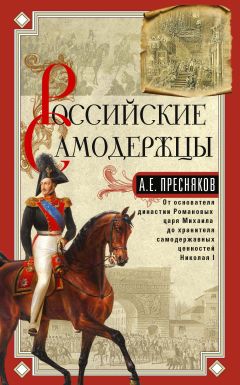
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
VII. Последний кризис
«Когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря; от этого устаю» – так говорил Александр в 1824 г., объясняя случайному собеседнику то впечатление глубокой утомленности жизнью, какое он производил в последние годы. Он перестал обманывать себя иллюзиями, которыми прожил всю предыдущую жизнь. Вигель, острый наблюдатель, сравнивал его с помещиком, который, наскучив сам управлять имением, сдал все на руки строгого управителя и успокоился на уверенности, что в таких руках крестьяне не избалуются. У самого Александра руки опустились; с живым интересом он относится только к военному делу, как его понимает, – к внешней фронтовой выправке войск на смотрах и парадах. Остальное, почти целиком, в руках Аракчеева. «Продолжительным затмением» назвал последние годы Александра один из его современников, тот же Вигель: «Он был подернут каким-то нравственным туманом».
Глубоко разочарованный, он отрекается от каких-либо идеологических исканий. Былой либерализм – грех юности. Впечатление от европейского революционного движения раскрывает ему коренную противоположность между той консервативной законностью, опорой сильной правительственной власти, о водворении которой он мечтал, и политической свободой в условиях правового государства, общественного и национального самоопределения, какого добивались либеральные идеологи. Отрекается он и от своей «мистики», от попыток связать с политикой свой идеал в невероисповедной, интернациональной религиозности. Нечего мудрить: «Одни лишь беспокойные умы находят отраду в тонкостях»; «обязанности, возлагаемые на нас, надо исполнять просто». В эти последние годы Александр пассивно переживает возврат и внешней и внутренней политики своего правительства к национально-консервативным началам. Нет больше речи о реформах. Нет больше и стремления водворить в России религиозно-просветительную идеологию Священного союза.
По возвращении из Лайбаха Александр получил как бы подтверждение своей уверенности, что дело Семеновского полка есть только одно из отражений общего европейского революционного движения. Генерал-адъютанты Васильчиков и Бенкендорф встретили его докладами о деятельности тайных обществ, о политическом заговоре, охватившем многих офицеров гвардии и армии. Имена ряда будущих декабристов были известны Александру с 1821 г. Известен рассказ Васильчикова об отзыве Александра на эти разоблачения: «Вы служили мне с начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и эти заблуждения; не мне применять строгие меры». Заговор казался неопасным, заговор идей, не борьбы и дела. Быть может, Александр думал, что эти идеологические увлечения пройдут, как у него, угаснут при встрече с жизнью? Он не принял строгих мер, даже никаких не принял. Но суровая муштровка войск, которой он по-прежнему увлекается, на проверку которой отдает, пожалуй, всего больше времени, продолжается с новой настойчивостью. Эта система обучения войск и их дисциплинарного воспитания отравила вместе с родным ей духом крепостнического деспотизма и пренебрежения к личности человеческой быт военных поселений, того из преобразовательных начинаний Александра, которое оказалось наиболее живучим и проводилось руками Аракчеева с беспощадной, жестокой настойчивостью. Дрессировка в слепой и покорной исполнительности должна была искоренить тонкости беспокойных умов.
Исполнительность как принцип всех отношений и суровая муштровка в безгласном повиновении олицетворена в Аракчееве. В нем и опора реакции в сторону традиционных начал политики, одинаково враждебных и «либеральным», и «мистическим» увлечениям. Консервативная и националистическая оппозиция ставила их за одну скобку, сводила к общему источнику. Столп церковно-православной реакции, пресловутый архимандрит Фотий, считал сектантские и мистические течения в религии источником революционных движений, а правоверную церковность – оплотом государственного и общественного порядка. Адмирал Шишков противопоставлял и либерализму, и всей политике в духе Священного союза свое «истинно русское» воззрение, согласно которому и библейские общества, и мистический пиетизм выросли из тех же корней, как конституционные и радикальные политические движения – из враждебного старым традициям рационализма, из «хаоса чудовищной французской революции»; все это – разные стороны одного направления темных сил, цель которого – поколебать в России православие и вызвать в ней внутренние раздоры для сокрушения ее могущества. Весной 1824 г. А.С. Шишков, поклонник Екатерининской эпохи, ее внешней славы и крепких традиций дворянской монархии, сменил князя А.Н. Голицына в управлении и народным просвещением, и духовными делами. Но само министерство, объединявшее «веру и ведение», было при этом разделено на два ведомства: Министерство народного просвещения и Главное управление делами иностранных исповеданий; полномочия министра по делам православной церкви достались в наследство синодальному обер-прокурору. Шишков сразу определил задачу своего министерства как боевую – реакционную: оберегать юношество от заражения «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием», а наукам обучать только «в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет»; обучать же грамоте весь народ или хотя бы «несоразмерное» количество людей признал вредным. При первом же докладе своем Александру он настаивал на усилении цензурных строгостей, на закрытии библейских обществ и других мерах для «потушения того зла, которое хотя и не носит у нас имени карбонарства, но есть точное оное». Александр воздержался от подписания заготовленного Шишковым рескрипта, сурово осуждавшего всю прежнюю систему просвещения и цензуры, с поручением новому министру их решительного преобразования, но оставил злополучное ведомство в руках Шишкова, который и подготовил переход русской политики просвещения к национально и сословно-консервативной системе Николая I.
Возврат к традиционным началам русской политики вполне определился и в отношениях международных. Английский министр иностранных дел, преемник Кэстлри, Каннинг, приветствовал распад «европейского союза» после Веронского конгресса словами: «Так дела возвращаются опять к здравому состоянию; каждая нация за себя, а Бог за всех». По отношению к России это сказалось особенно ярко в восточном вопросе. Александр настаивает на активном вмешательстве в балканские дела, но не с точки зрения «легитимизма» и прав султанской власти, а чтобы заставить Турцию признать автономию не только Дунайских княжеств, но и Греции, а когда Петербургская конференция представителей России, Австрии, Пруссии и Франции решительно отклонила это предложение (февраль 1825 г.), он заявил (в циркулярной ноте от 6 августа 1825 г.), что возвращает себе самостоятельность действий в восточном вопросе и будет руководиться в отношении к Турции только интересами и престижем России, а затем вступил в сношения по этому вопросу с Англией, опасаясь, что дальнейшая пассивность России в балканских делах приведет только к окончательному вытеснению ее влияния в пользу Англии. И тут Александр уступал давлению русской правящей среды, опиравшейся на настроение широких общественных кругов, хотя и с меньшим противоречием своим личным воззрениям в данном вопросе, но с несомненным разрывом по отношению к политике конгрессов.
Он идет на новые пути почти пассивно, с острым ощущением, что личная его роль не только сыграна, но и проиграна. Его окружала атмосфера общего недовольства его правлением различных кругов, осуждавших его деятельность с самых разных точек зрения. И это понятно, так как никакой устойчивой, выдержанной основы в этой деятельности не оказалось. «Проследив все события этого царствования, что мы видим? – записывает в своем дневнике один из сенаторов при получении известия о смерти Александра. – Полное расстройство внутреннего управления, утрата Россией ее влияния в сфере международных сношений… Исаакиевская церковь, в ее теперешнем разрушенном состоянии, представляет точное подобие правительства: ее разрушили, намереваясь на старом основании воздвигнуть новый храм из массы нового материала… это потребовало огромных затрат, но постройку пришлось приостановить, когда почувствовали, как опасно воздвигать здание, не имея строго выработанного плана. Точно так же идут и государственные дела: нет определенного плана, все делается в виде опыта, на пробу, все блуждают впотьмах…» И автор заключает свой перечень разных противоречий и сбивчивых черт в действиях правительства такими словами: «Объяснить все эти несообразности довольно трудно, их можно только понять до некоторой степени, допустив, что они происходили от особенностей характера Александра I». Объяснение, конечно, недостаточное, но естественное.
Восприимчивый к различным течениям жизни, мысли и настроений, традиций и исканий, Александр сам был сыном своего времени, оказавшимся не в силах преодолеть, хотя бы для себя, их разнородных и противоречивых влияний и требований. Пирлинг, так внимательно присмотревшийся, в частности, к его религиозным интересам, приходит к выводу: «Что особенно заметно, так это – склонность к эклектизму; его беспокойный и нерешительный ум мучительно не хотел запираться в какую-либо определенную догму». Отзывчивый на самые различные течения мысли и чувства, «Александр прекрасно чувствует себя в этом удивительном смешении принципов и не дает увлечь себя этому круговороту». Что в религии, то и в политике: удивительное смешение принципов, круговорот разнородных интересов, с постоянным исканием их компромиссного синтеза, но без цельного увлечения и без сильной воли, которые одни могли бы дать выход к синтезу определенному и устойчивому.
Таков Александр, судя по всему, что о нем знаем, и в личной жизни, в отношении к людям: неустойчивый, неуловимый. Сам Аракчеев говаривал про него: «Вы знаете его – нынче я, завтра вы, а после опять я». Самолюбивый и недоверчивый, занятый своей ролью, он пользуется людьми, умеет играть в откровенность и доверчивость, но они для него средства, и всегда не очень надежные. «Занимаясь вещами, пренебрегает людьми», – заметил про него Сперанский. Он всего искреннее, по-видимому, тогда, когда заявляет, что никому не верит. И прожил Александр свою жизнь, по существу, очень одиноко. Семейные отношения, полные взаимной подозрительности, оглядки и притворства, наложили неизгладимую печать на все его отношения к людям. По воцарении он роль императрицы в большом дворце оставляет за матерью, покушения которой на политическое влияние его тяготят и заставляют быть постоянно начеку, вступать в объяснения, даже защищаться. Жена – Елизавета Алексеевна – в тени, не сотрудница императору и не играет существенной роли в личной его жизни. Частая усталость от напряжений императорства заставила его особенно дорожить связью с М.А. Нарышкиной, урожденной Четвертинской, которая дала ему (с 1804 г.) суррогат семейной жизни, жизни вне дворца и политики: ей был строгий запрет касаться общественных дел и политических тем; смерть их 18-летней дочери в 1824 г. Александр пережил как большое горе, которое подкосило его и без того расшатанные силы. Утомление ролью правителя и всей напряженностью связанных с ней отношений часто звучит в беседах Александра с молодых лет и все нарастает; в его повторных заявлениях о намерении отказаться от власти – не одни слова в духе сантиментального века; в них, надо это признать, звучит с трудом преодолеваемое сознание непосильности для него огромной роли, какая выпала ему на долю. Моменты самокритики, и острой, у него бывали, но их одолевали большое самолюбие и личное увлечение этой самой ролью. Но осадок от них оставался – в подозрительной оглядке на окружающих, в повышенной чувствительности к каждому суждению о себе, в щекотливости к любой наслышке. Это настроение, повышенное физическим недостатком – ослаблением слуха, – придавало особую остроту его общему пессимистическому мнению о людях, какое он вынес из общения с придворной средой.
Тяжким кошмаром прошла над ним кровавая ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Пережитого в те дни он никогда не забывал. Эти воспоминания входили в его политические расчеты, влияли на оценку им людей и положений. «Мне Пален не нужен, – вырывается у него в отзыве о проделках за его спиной министра полиции Балашева, – он хочет завладеть всем и всеми, это мне нравиться не может». Но он готов использовать тех, кого называет «злодеями», для интриги, для того, чтобы иметь повод избавиться от докучных людей.
Окружающие считают Александра склонным и способным к интриге, к намеренной сплетне, сознательной клевете. Он мелочно подозрителен, боится интриг и впутывается в них, сам их создает, охотно слушает доносы, требует от своих сотрудников, чтобы они следили друг за другом. Совет Наполеона – ссорить между собой министров и генералов, чтобы они выдавали друг друга, поддерживать вокруг себя безграничную зависть таким обращением с окружающими, чтобы то один, то другой считал себя предпочтенным, и никто не был бы никогда уверен в его расположении, совет, о котором сам Александр рассказывал госпоже де Сталь, – не пропал даром и попал на подходящую почву.
Эти приемы составили бытовую подкладку выполнения советов Лагарпа: пользуясь министрами и другими сотрудниками, все направлять и все решать самому. Александр не желал быть только главой правительства, зависеть от группы сотрудников, связанных установленной программой, «запереться в определенную догму». Он органически не годился в конституционные государи. В министрах ему нужны исполнители, способные уловить его мысль, разработать его планы, выполнить его намерения. Самостоятельность и разногласия быстро вели к расхождению. Так было с «негласным комитетом», так было со Сперанским. Загадка «падения Сперанского» совсем не так загадочна, как о ней много писали. Александр разошелся с ним по существу. Разочаровался в его «плане всеобщего государственного образования», которым не разрешалась искомая задача соглашения самодержавия с законно-свободными учреждениями и работа над которым была лишь этапом его личной политической идеологии. Разочаровался и в финансовом плане Сперанского. А занятое Сперанским положение первого министра тяготило, как отдаление от власти. Несомненно, что Александр испытал ощущение захвата слишком большой доли влияния чужими руками. В этом и было «преступление» Сперанского, осознанное обоими: Александр знал, по-видимому, что Сперанский им тоже недоволен как сотрудником в делах правления за то, что он «все делает наполовину», и за то, что он «слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Призрак таинственности придан этой истории приемами Александра, чтобы найти повод для разлуки, и не простая отставка, а опала и высылка лица, накануне всемогущего. Но отставной Сперанский был бы невозможен в столице именно как вчерашний полудержавный властелин, а колебания Александра и его самолюбивая подозрительность могли найти выход только в «падении» этого своего рода соперника. Сознание, что получился эффектный политический жест накануне разрыва с Францией, пришло, по-видимому, только потом, под впечатлением общего раздражения против павшего деятеля. Презрительно отзываясь о людях, которые вчера угодничали перед временщиком, а теперь кидали в него грязью, Александр, однако, находил оправдание своей меры в общем, как казалось, ее одобрении.
Человеком, на которого нельзя положиться, считали Александра наиболее близкие люди. За недоверие платили ему недоверием. Упомянутый отзыв Аракчеева был, возможно, не без горечи; даже он, личный друг, не всегда чувствовал себя прочным: по-видимому, он знал, что у Александра и за ним есть наблюдение. И той же чертой Александра – ревностью к единоличной власти в связи с недоверчивостью к людям – всего, по-видимому, естественнее объясняется странное дело о престолонаследии. Младшие братья, Николай и Михаил, иной раз жаловались, что Александр держит их только военными командирами. Намеченный в преемники, Николай не только не был объявлен наследником, но не получил и подготовки к будущей роли правителя ни постановкой его образования, ни участием в государственных делах. Александр держал братьев в строю и в строгой субординации. Отречение Константина было оформлено только келейно, между членами императорской семьи, а заготовленным актам о престолонаследии придан небывалый характер посмертных распоряжений, которые будут опубликованы, только когда их автор ляжет в могилу и, стало быть, перестанет быть носителем власти. Этот государственно-правовой парадокс, который можно назвать политической бестактностью, не смущал Александра. В состоянии моральной депрессии, в каком он доживал последние годы, он готов был откладывать крупные и требовавшие решимости действия до времени, когда не ему придется их совершать. Так в деле будущих декабристов, так в деле о престолонаследии. А черты этой моральной депрессии явственны в его закате. Он точно места себе не находит. Потеряв устои своей европейской роли, он отдает много времени поездкам по России. Эти продолжительные поездки, иногда по дальним областям и севера, и востока империи, не связаны с какими-либо правительственными задачами и не приводят к каким-либо мероприятиям. От них остается впечатление погони за новыми впечатлениями, за отдыхом от правительственных дел, за тревожным уклонением от запросов власти, потерявшей для ее носителя личный смысл с крушением прежних планов и внешней и внутренней политики. Почва для наивной легенды о старце Федоре Кузьмиче, с которой научно-критически покончил только в наши дни К.В. Кудряшев, была подготовлена всем поведением Александра в последние годы его жизни. Силы ему изменяли – и духовные, и физические. Былой интерес к религиозным течениям, некогда связанный с широкими политическими планами, переходил в попытку найти успокоение и утешение в личной набожности и беседах с духовниками, носителями «высшего» авторитета.
В одну из дальних поездок, в далеком Таганроге, угасла жизнь Александра, пережившего все свои иллюзии и все свои разочарования. Настала новая, Николаевская эпоха, с ее резким утверждением самодержавия, решительным противопоставлением России и Европы, «порядка» и «революции», без всякого, хотя бы условного, компромисса с «новыми идеями».
Николай I. Апогей самодержавия
I. Военно-династическая диктатура
Время Николая I – эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы. Там, на Западе, государственный строй принимал новые конституционные формы, а Россия испытывает расцвет самодержавия в самых крайних проявлениях его фактического властвования и принципиальной идеологии. Во главе русского государства стоит цельная фигура Николая I, цельная в своем мировоззрении, в своем выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Все сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчетливыми, как параграфы воинского устава, и скреплены были идеей долга, понятой в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства.
В течение всей жизни, не только в официальных заявлениях начала царствования, но и позднее, даже в личных письмах, Николай повторял при случае, что императорская власть свалилась на него неожиданно, будто он не знал заранее, как порешен вопрос о престолонаследии между старшими братьями. Получается впечатление, что он частым повторением этой легенды, которую сам же счел нужным пустить в оборот, хоть она и не соответствовала действительности, довел себя до того, что почти ей поверил. Он хотел считать ее верной по существу: она хорошо выражала его отношение к власти как к врученному ему судьбой «залогу», который он должен хранить, беречь, укреплять и передать в целости сыну-преемнику. Далекий от той напряженной работы мысли, которая заставляла Екатерину подыскивать теоретические оправдания этой власти, а брата Александра искать ее согласования с современными политическими идеями и потребностями, он держится за нее, как за самодовлеющую ценность, которая вовсе и не нуждается в каком-либо оправдании или пояснении. Самодержавие для него – незыблемый догмат. Это вековое наследство воспринималось им, однако, в иной, конечно, культурно-исторической оболочке и на иной идеологической основе, чем те, с какими оно появлялось в стародавней Московской Руси, средневековой родине этого политического строя. Традиции самодержавия, в которых воспитан Николай, особенно ярко характеризуются двумя чертами, выработанными заново в русской правящей среде конца XVIII в., – укреплением его династической основы и развитием его военно-армейского типа.
Русская императорская династия сложилась только во времена Павла I; династию эту в Германии называли Голштейн-Готторпской, но она титуловала себя «домом Романовых», больше по национально-политической, чем по кровной связи со старым царствовавшим родом, подобно австрийским Габсбургам, которые также только по женской линии происходили от своих «предков». Династическое право «царствующего дома», еле намечавшееся при первых Романовых, не могло установиться в XVIII в., когда верховная власть оказалась в полном подчинении у господствовавшего дворянского класса, а престолом распоряжался его высший слой руками гвардейских воинских частей. К концу XVIII в. определилось и окрепло положение России в международном обороте Европы. Внутри страны обострялись противоречия ее экономического быта и общественного строя, назревала потребность в их обновлении для высвобождения производительных сил страны из тяжких пут «старого порядка». А жуткие потрясения пугачевщины породили в настроениях господствующего класса тягу к усилению центральной власти ради укрепления сложившегося «порядка» и подавления грозных порывов социальной борьбы. Обе эти тенденции, друг другу противоположные, создавали благоприятную обстановку для самоутверждения верховной государственной власти как вершительницы судеб страны.
На рубеже XVIII и XIX столетий эта власть организуется заново в административной реформе, усилившей централизацию управления, и в «основном» законодательстве, цель которого – утвердить государственно-правовое положение монархии и династии. Такую задачу разрешил Павел в узаконениях 1797 г. «Общим актом» о престолонаследии и «учреждением» об императорской фамилии он создал новое династическое право. Притом оба этих акта объявлены «фундаментальными законами империи».
Преемник ряда случайных фигур на императорском престоле, а сам – отец многочисленного семейства (четыре сына и пять дочерей), Павел чувствовал себя настоящим родоначальником династии. «Умножение фамилии», в которой утвердится правильное наследие престола, он ставит, с большим самодовольством, на первое место среди «твердых оснований» каждой монархии и считает необходимым, как «начальник фамилии», определить, наряду с «утверждением непрерывных правил в наследии престола», положение всей «фамилии» в государстве и внутренний ее распорядок. В этом законодательстве Павла, построенном по образцу «домашних узаконений» (Hausgesetze) немецких владетельных фамилий, императорская династия впервые получила свое определение. Весь ее состав – и мужской и женский – во всех его линиях и разветвлениях потомства объединен возможным, предположительно, правом на престол по порядку, предусмотренному с крайней подробностью уже не «домашним», а «фундаментальным» законом империи. Вся «фамилия» резко выделена из гражданского общества. «Императорская фамилия», «царствующий дом» с той поры – особая организация, все члены которой занимают совершенно исключительное положение вне общих условий и публичного и гражданского права. Это выделение династии еще усилено дополнением, какое сделал Александр I в 1820 г., по случаю женитьбы его брата Константина на графине Иоанне Грудзинской (княгине Лович): династия может пополняться только путем браков ее членов с лицами, принадлежащими также к какому-нибудь владетельному роду; в противном же случае этот брак, граждански законный, является политически незаконным, т. е. не сообщает ни лицу, с которым вступил в брак член императорской фамилии, ни их детям никаких династических прав и преимуществ.
Эти законодательные постановления отражали ряд бытовых явлений. «Фамилия» жила своей особой жизнью, в узкой и замкнутой придворной и правящей среде, оторванная и отгороженная множеством условностей от русской общественной жизни и вообще от живой русской действительности. Особый склад получили внутренний быт, воззрения и традиции этой семьи, полурусской не только по происхождению, но и по родственным связям. Двор родителей Николая был в бытовом отношении под сильным немецким влиянием благодаря вюртембергскому родству императрицы, голштинскому наследству и прусским симпатиям Павла.
Известно значение «прусской дружбы» во всей жизни и деятельности Александра. Родственные чувства и отношения царской семьи охватывали, кроме русских ее членов, многочисленную родню прусскую, вюртембергскую, мекленбургскую, саксен-веймарскую, баденскую и т. д. и т. д., связи с которой создавали новую опору европейскому значению русской императорской власти и переплетались с ее международной политикой. Фамильно-владельческие понятия немецких княжеских домов сильно повлияли на русские династические воззрения. Николай вырос в этой атмосфере, она была ему своя и родная. Эти связи углубились и окрепли с его женитьбой в 1817 г. на дочери Фридриха Вильгельма III Шарлотте, по русскому имени Александре Федоровне. Тесть стал ему за отца. Родного отца он, родившийся в 1796 г., почти не знал; к брату-императору, старшему его на 18 лет, относился с чувством скорее сыновним, чем братским, но близок к нему никогда не был. Воспитание младших Павловичей было всецело предоставлено матери, Марии Федоровне. Благоговейно усвоил Николай политические заветы Александра эпохи Священного союза, но без той интернационально-мистической подкладки и тех мнимо либеральных утопий, какими Александр их усложнял. Николай усвоил и принял только то из этих заветов, в чем сходились Александр с Фридрихом Вильгельмом, память которого он чтил всю жизнь и которого в письмах к его сыну и преемнику, любимому брату императрицы, Фридриху Вильгельму IV, называл не тестем, а отцом. Прусский патриархальный монархизм в соединении с образцовой воинской дисциплиной и религиозно-нравственными устоями в идее служебного долга и преданности традиционному строю отношений прельщали его, как основы тех «принципов авторитета», которые надо бы (так он мечтал) восстановить в забывающей их Европе. Их он разумеет, когда ссылается на дорогие ему заветы «отца» – Фридриха – и брата Александра, которых он только верный хранитель. В русскую придворную среду и вообще в петербургское «высшее» общество входит с этих пор, все усиливаясь, немецкий элемент. Роль Ливенов и Адлербергов началась с того, что их родоначальницам (в составе «русской» аристократии) поручено было первоначальное воспитание младших Павловичей. Среда остзейского дворянства – с ее аристократическими и монархическими традициями – стала особенно близкой царской семье в тревожный период колебания всего политического европейского мира. «Русские дворяне служат государству, немецкие – нам», – говаривал Николай позднее, вскрывая с редкой откровенностью особый мотив своего благоволения к остзейским немцам. Курляндец Ламсдорф, бывший директор кадетского корпуса, стал воспитателем младших Павловичей, когда они подросли; жесткая грубость приемов кадетской педагогики привила Николаю немало усвоенных им навыков, для которых был, впрочем, и другой мощный питомник в его военном воспитании.
Монархическая власть милитаризуется повсеместно к началу XIX в., кроме Англии. Особенно сильно и ярко – в Пруссии и в России. Прусская военщина водворилась в быт русской армии при Петре III, заново – и в самых крайних формах – при Павле. В придворной и правительственной среде вельмож XVIII в. сменили люди в военных мундирах и с военной выправкой; в дворцовом быту все глубже укоренялись формы плац-парадного стиля; во все отношения правящей власти проникают начала военной команды и воинской дисциплины. Властная повелительность и безмолвное повиновение, резкие окрики и суровые выговоры, дисциплинарные взыскания и жестокие кары – таковы основные приемы управления, чередуемые с системой наград за отличия, поощряющих проявления «высочайшего» благоволения и милости. Служба и верность «своему государю» воплощают исполнение гражданского долга и заменяют его при подавлении всякой самостоятельной общественной деятельности: «гатчинская дисциплина», созданная Павлом и разработанная Аракчеевым, породила традицию далеко не в одной армейской области.
Школа воинской выправки многое выработала и определила в характере и воззрениях Николая. Есть известия, что императрица-мать пыталась ограничить военные увлечения сыновей. Но успеха она не имела и иметь не могла. Слишком глубоко пустила эта военщина корни. На мучительных для войск тонкостях вахтпарада Александр отдыхал от тонкостей своей политики и сложности своих безнадежных политических опытов. Николай стал артистом воинского артикула, хотя и уступал пальму первенства брату Михаилу. Вышколенная в сложнейших искусственных приемах, дисциплинированная в стройности массовых движений, механически покорная команде, армия давала им ряд увлекательных впечатлений картинной эффектности, о которой Николай упоминает с подлинным восторгом в письмах к жене. «Развлечения государя со своими войсками, – пишет близкий ему Бенкендорф, – по собственному его сознанию – единственное и истинное для него наслаждение». Никакие другие переживания не давали ему такого полного удовлетворения, такой ясной уверенности в своей мощи, в торжестве «порядка» над сложными противоречиями и буйной самочинностью человеческой жизни и натуры.
«Солдатство, в котором вас укоряли, было только данью политике», – писал Николаю декабрист из каземата крепости. Слово «только» тут дань условиям, в каких письмо писано, но политика была в солдатстве Николая, как немало было и солдатства в его политике. Оба элемента его воззрений и деятельности переплетались, срастаясь в органическое целое. Армия, мощная и покорная сила в руках императора, – важнейшая опора силы правительства и в то же время лучшая школа надежных исполнителей державной воли императора. Смотры и парады, воинские празднества, которым с таким увлечением отдавался Николай, не только «истинное наслаждение», но и внушительная демонстрация этой силы перед своими и чужими, а быть может, всего более перед самим собой.









































