Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
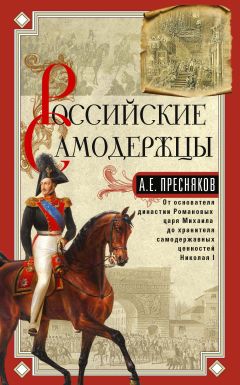
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Задача объединения под царской властью всего русского и православного населения Восточно-Европейской равнины далеко не была разрешена при царе Алексее. Но политическая и культурная жизнь русская развернулась много шире, чем во времена великорусского государства Даниловичей. Малорусские силы потянули к Москве, которая овладела – хотя и с большим трудом – и их киевским центром. Это было крупным шагом в политике, подготовлявшей перерождение Московского царства в монархию всероссийскую. Все основные черты такой политики отчетливо поставлены в царствование царя Алексея: борьба за Балтийское море и за подчинение русской государственной власти всего русского населения Речи Посполитой, расширение южной границы все дальше к Черному морю, пока русская государственность не станет твердо на его берегах, избавившись от вековечной крымской тревоги. Широко раскидывается в это время русская колонизация на восток, где поиски новых земель привели к занятию Анадырского края, Забайкалья и к первым попыткам утвердиться на Амуре. Всем этим очерчен круг задач и отношений, которые наполнят собой внешнюю работу государства на весь XVIII в. В то же время Московское государство значительно углубило свои связи с Западной Европой. Ордин-Нащокин, заново регулируя внешнюю торговлю в «Новоторговом уставе», деятельно заботится об укреплении торговых сношений с Англией и Голландией, ищет новых путей для русской торговли, завязывает переговоры с Францией, Испанией, Венецией, заключает торговые договоры с Пруссией и Швецией. Московское государство при царе Алексее сознательно готовилось вступить в «ранг первоклассной европейской державы», в который и было возведено его великим сыном.
Александр I
Первая четверть XIX в. – наиболее сложный, насыщенный противоречиями и своеобразным драматизмом период в истории императорской России. Общую характеристику этого периода можно бы озаглавить: «Россия на распутье» – между самодержавно-крепостническим строем русской государственности и русских общественных отношений и поисками новых форм социально-политической организации страны, соответственно назревшим и остроощутимым потребностям развития ее материальных и культурных сил. В центре интереса к этой эпохе стоит у историков личность императора Александра I, независимо от того, преувеличивают ли они роль личности властителя в судьбах страны или ставят ее в надлежащие рамки как создание условий данного времени, как индивидуальную призму, сквозь которую можно рассмотреть скрещение, в определенном, конечно, преломлении, тех или иных основных жизненных тенденций данной эпохи. Личная психология Александра, которой больше всего занималась наша историография, представляется обычно крайне неустойчивой, путаной и противоречивой; такой казалась она и его современникам, даже близко его знавшим, хотя не всем и не всегда.
Прозвали его «северным сфинксом», точно отказываясь разгадать его загадку. Эти отзывы любопытны и ценны, при всей своей неопределенности и своих противоречиях, как отражение того бытового впечатления, какое производил Александр на всех, имевших с ним дело, на каждого по-своему. Это-то впечатление и стараются уловить его биографы, на нем пытаются построить характеристику своего героя, а вернее сказать, свое личное суждение о нем и впечатление от него, всматриваясь в его слова и действия, вчитываясь в его письма и в рассказы мемуаристов или авторов различных «донесений» за границу о его беседах и настроениях.
А между тем Александр I – подлинно историческая личность, т. е. типичная для своего времени, чутко и нервно отразившая в себе и силу сложившихся традиций, и нараставшую борьбу с ними, борьбу разнородных тенденций и интересов, общий эмоциональный тон эпохи и ее идеологические течения. Отразила их, как всякая личность, по-своему, субъективно, и притом в сложнейших условиях деятельности носителя верховной власти в эпоху напряженнейшей внешней и внутренней борьбы такого типичного «переходного времени» от расшатанного в основах, но еще очень крепкого старого, веками сложившегося уклада всей общественной и государственной жизни к назревавшему, еще слабому, но настойчиво требовательному новому строю всех отношений, как первая четверть XIX в. Александр I – «прирожденный государь» своей страны, говоря по-старинному, воспитанный для власти и политической деятельности, поглощенный мыслью о ней с детских лет, а в то же время – питомец XVIII в., его идеологического и эмоционального наследия, и вырос и вступил в жизнь для трудной, ответственной и напряженной роли правителя в бурный и сложный момент раскрытия перед сознанием правящей среды глубоких и тягостных противоречий русской действительности. Драма русской исторической жизни, как и его личная, разыгрывалась в тесной связи и на общем фоне огромного европейского кризиса Наполеоновской эпохи.
Его «противоречия» и «колебания» были живым отражением колебаний и противоречий в борьбе основных течений его времени. Более восприимчивый, чем творческий, темперамент сделал его особенно человеком своего времени. Только на фоне исторической эпохи становится сколько-нибудь понятной индивидуальная психология таких натур.
I. Российская империя в Александровскую эпоху
К исходу XVIII в. только сложилась Европейская Россия в своих «естественных» границах от моря и до моря. Закончена вековая борьба за господство на восточном побережье Балтийского моря (присоединение его северного, Финляндского края, выполненное Александром I, имело лишь второстепенное значение упрочения и обороны этого господства); закончена была борьба и за Черноморье, оставив в наследие преемникам Екатерины II «вопрос о проливах»; разделы Польши закончили вековую борьбу за Поднепровье, географическую базу всего господства над Восточно-Европейской равниной, хотя и с отступлением от петровского завета русскому императору – сохранить всю Польшу опорой общеевропейского влияния России. Основные вопросы русской внешней политики были исчерпаны в их вековой, традиционной постановке, связанной со стихийным, географически обусловленным стремлением русского племени и русской государственности заполнить своим господством великую Восточно-Европейскую равнину, овладеть ее колонизационными и торговыми путями для прочного положения в системе международных, мировых отношений Запада и Востока.
Территория Европейской России стала государственной территорией Российской империи. Обширность пространства, значительное разнообразие областных условий, экономического быта и расселения, племенных типов и культурных уровней сильно усложняли задачу организации управления. Захват территории был только первым шагом к утверждению на ней устойчивой и организованной народно-хозяйственной и гражданской жизни. Само распределение по ней населения было еще в полном ходу. Переселенческое движение – столь характерное явление в быту русских народных масс – развертывалось не только в первой четверти, но и в течение большей части XIX в. преимущественно в пределах Европейской России. На юг, в Новороссию, на юго-восток, к Прикавказью и Нижнему Поволжью, отливают с севера и запада все новые элементы. «Новопоселенные» в этих областях «сходцы» и «выходцы» составляют значительный, даже преобладающий, процент местного населения. И на новых местах они оседают не сразу, а ищут, в ряде повторных переходов, лучших условий хозяйственного обеспечения и бытового положения. Эта неизбежная подвижность населения стоит в резком противоречии со стремлением центральной власти к установлению повсеместно порядков «регулярного государства» на основе закрепощения трудовой массы и стройно организованных губернских учреждений. Русское государство все еще в строительном периоде. Оно строится в новых, расширенных пределах приемами, окрепшими и созревшими в Великороссии, – на основе государственного «крепостного устава»[1]1
Ср.: Пресняков А.Е. Закрепощение в императорской России // Архив истории труда. Пг., 1922. Кн. 4. С. 14–21.
[Закрыть]. Процесс закрепощения, завершенный для центральных областей первыми двумя ревизиями XVIII в., систематически проводится в малороссийских и белорусских губерниях на основе 4-й и, особенно, 5-й ревизии рядом правительственных указов в развитие и дополнение основного акта – указа 1783 г. о прекращении «своевольных переходов», которыми – по мнению верховной власти – нарушалось «водворяемое ею повсюду благоустройство». Эта борьба государственной власти со всеми более или менее уцелевшими элементами «вольности» в составе населения настойчиво завершалась при Александре I на всей территории империи – в Малороссии, потерявшей характер автономной провинции, в Новороссии и Белоруссии; завершалась торопливо, с назначением краткого – годичного – срока на подачу исков для «отыскания свободы от подданства помещикам», по истечении которого все сельское население закрепощалось по записям в 5-й ревизии.
Массовое закрепощение «вольного» люда рассматривалось как водворение «благоустройства», как основа государственного строительства. Объединение обширной территории укреплялось повсеместным насаждением губернской власти, обычной для 36 центральных губерний, усиленной в форме генерал-губернаторов и военных губернаторств для остальных областей[2]2
С 1815 г. в России было 12 генерал-губернаторств и военных губернаторств, не считая особого управления столиц, а также военных управлений земли войска Донского и Кавказа.
[Закрыть]. Углублялась эта административная спайка всех частей имперской территории традиционными для центра социально-экономическими связями помещичьего землевладения и крепостной организации сельского хозяйства. По областям-окраинам растет и крепнет не только местное помещичье землевладение; сильное развитие получает крупное землевладение дворянства вельможного, столичного – по связям его с властным правительственным центром – и в Малороссии, и особенно в областях, захваченных в эпоху польских разделов из состава бывшей Речи Посполитой. Раздача крупных населенных имений связывает материальные фамильные интересы правящего общественного слоя с завоевательной политикой центральной власти, развивает и питает в его среде воинственный, наступательный патриотизм, а затем тенденцию к безусловному подчинению присоединенных областей, с устранением их местных «привилегий», общему для всего государства шаблону не только управления, но и землевладельческих, социально-экономических отношений.
Российскую империю строила дворянская, крепостническая Россия. Но развитие внутренних сил страны требовало уже иных, более сложных приемов, не укладывавшихся в тяжкие традиционные рамки крепостного хозяйства и «крепостного устава». Закрепление за империей черноморского юга принесло решительное углубление и усиление тяги России к торговым связям с общеевропейским, мировым рынком. Конечно, подавляющее значение Балтийского моря в русской внешней торговле остается в силе в течение всей первой половины XIX в. Но русская экономическая политика прибегает со времен Екатерины II, с первых моментов утверждения России в Черноморье, к ряду мер покровительства для развития южного, черноморского торга. Сама колонизация края и систематическое его огосударствование, уничтожение Запорожской Сечи, подчинение донского казачества военной администрации как иррегулярной боевой силы, упразднение всяческой «вольности» на южных пространствах империи связаны не только с организацией разработки местных почвенных богатств в привычных формах крепостного хозяйства, но не менее – с насаждением в новоустраиваемом крае гражданского порядка и казенного благоустройства как основы для южных торговых путей и черноморской заграничной торговли. Императорская Россия, еще Петром возведенная в ранг первоклассной европейской державы, усиленно стремится сохранить, утвердить и развернуть это свое международное значение, закрепляя его политические формы своей внешней политикой и расширяя его хозяйственную базу своей политикой экономической. Внутреннее развитие страны тесно связано с этими ее внешними отношениями. Возможно большее их расширение и углубление – неизбежный путь к росту ее производительных сил, ее материальной и духовной культуры, в частности – расширение торгового обмена. «Отпуск собственных произведений, – говорил первый министр вновь учрежденного в 1802 г. Министерства коммерции граф Н.П. Румянцев, – оживотворяет труд народный и умножает государственные силы». Открыть возможно шире для внешней торговли Южный морской путь представлялось делом крайне заманчивым, особенно при тягостном для нее испытании в континентальной блокаде (1807–1811), когда и фактически несколько оживилось движение товаров через южные порты, и сложились планы о порто-франко для Одессы, Феодосии, Таганрога. С мыслью об этих южных портах связывались планы об усилении хлебного экспорта, который занимал весьма незначительное место в тогдашней русской торговле, и даже об активной роли России в торговом обмене между Европой и азиатским Востоком. Весьма было Министерство торговли озабочено также усилением торга по сибирским путям с Китаем, созданием транзитной торговли со Средней Азией и далее через нее с далекой Индией.
Невелики были результаты всех этих опытов, порывов и проектов, по крайней мере, для относительного веса России в мировом обороте: 3,7 % – в начале XIX в., 3,6 – в его середине: таковы цифры русской доли в этом обороте, по известным исчислениям Гулишамбарова[3]3
Как и для конца XIX в., всего 3,4 %. См. статью «Внешняя торговля» (Энцикл. словарь Брокгауз-Ефрон. СПб., 1899. Т. 54. Раздел «Россия»).
[Закрыть]. Сравнительно незначительным был и рост русского вывоза за 25 лет александровского царствования[4]4
С 75 на 85 млн руб. золотом примерно. Цифры в ассигнациях – с 63 на 207 млн, приводимые Н.Н. Фирсовым в его очерке «Зарождение капитализма и первый приступ к революции в России в первой четверти XIX в»., – зависят от падения курса и потому непоказательны.
[Закрыть]. Русский торговый капитал и русская предприимчивость, им обусловленная, были слишком слабосильны для такого размаха. Внешняя торговля остается преимущественно пассивной. Не имея своего торгового флота, сколько-нибудь стоящего такого названия, Россия не только на Балтийском море была по части транспорта в руках иностранцев, преимущественно англичан, но и на Черном обходилась греческими и турецкими судами, хотя бы часть их плавала под русским флагом. Ведь даже в Азии русская торговля была почти целиком в руках армянских, бухарских, персидских купцов.
Конечно, сугубо отражалось на русской торговле почти монопольное вообще господство Англии в мировом обороте. Единственная – в первой четверти XIX в. – страна крупного машинного производства, Англия снабжала все страны своими изделиями. Для этой промышленности ей нужен был обширный ввоз различного сырья. А сырьем ее снабжала в значительных размерах, наравне с британскими колониями, Россия. Она же, также наравне с колониями, являлась значительным рынком сбыта произведений английской промышленности. В таком обмене Англия даже не теряла, если торговый баланс оказывался в пользу России: этим только увеличивалась покупательная сила контрагента. По всему складу русского социально-экономического быта этим контрагентом Англии было преимущественно русское крупное землевладение. Дворяне-помещики сбывали за границу продукты своего хозяйства, а из Англии получали сукно и тонкое полотно, мебель и посуду, украшения быта и писчебумажные принадлежности, всю обстановку барской жизни. Зарождавшаяся русская фабрично-заводская промышленность работала английскими машинами, а свои полуфабрикаты сбывали опять-таки в Англию, вывозившую, например, много русского железа, чтобы сбывать на русском же рынке свои законченные изделия. Англомания, широко распространенная в высших слоях русского общества начала XIX в., имела значительную материальную основу – экономическую и бытовую – в интересах, вкусах и привычках русского дворянства. Подобно тому как в начале XVIII в. Голландия служила образцом – почти воплощенным идеалом – страны с высоким уровнем народного богатства, техники и экономики, общественной и духовной культуры, так и в еще большей мере Англия стала к исходу XVIII в. обетованным краем высокой культуры и политического благоустройства для наиболее влиятельных, крупноземлевладельческих групп русского дворянства. В той же среде весьма были популярны политические идеи Монтескье, сквозь призму которых наши англоманы обычно смотрели и на английские учреждения. В применении новых политических представлений к русской деятельности большую роль играло различение, согласно Монтескье, между деспотизмом и монархией: задачей желаемого преобразования русского государственного порядка ставилось устранение «самовластия» и утверждение начал «истинной монархии», что означало, в их понимании, устранение личного произвола с подчинением действий верховной власти основным действующим законам империи (в том числе жалованной грамоте дворянству 1785 г., которой его привилегии были утверждены «на вечные времена и непоколебимо») под активным контролем Правительствующего сената, полномочия которого должны быть также оформлены «основным» законом, а политическое влияние усилено не только несменяемостью сенаторов, но и их избранием из состава «знатного сословия», не столько вообще дворянства, сколько его вельможных слоев – правящих групп высшей дворянской бюрократии. Этот своеобразный, весьма умеренный конституционализм российских ториев был по заданиям своим глубоко консервативен, имел целью закрепить в формах политической организации и «основного» законодательства достигнутое в XVIII в. преобладание дворянства над государственной властью и вводил в свою идеологию элемент некоторого формального ограничения самодержавной власти, отнюдь не пытаясь ослабить по существу эту свою опору, пока она послушно обслуживает данные классовые интересы; он был европеизированным на английский манер и с помощью французской теории о дворянстве как основе «истинной монархии», о парламентах как контрольном аппарате закономерности в деле государственного управления (тут их роль переносилась на Сенат), плодом традиций XVIII в., подобно тому, как в начале века те же притязания искали опоры в усвоении форм шведской аристократической конституции.
Однако нарастающее усложнение жизни обширной страны повело значительно дальше брожение новых политических идей в русской правящей среде. Чем напряженнее работала правительственная машина страны, вовлеченной в расширенный экономический и политический оборот Европы, чем сложнее становились задачи управления, государственного хозяйства и экономически разросшейся империи, тем ощутительнее становились коренные противоречия между все нараставшими потребностями обширного государства и дозревавшим в его недрах вековым строем самодержавной власти и крепостного хозяйства. Несоответствие этим потребностям уровня материальных и культурных средств – эта неизбывная, поистине трагическая черта всей русской исторической жизни – рано выдвинула тройственный лозунг новой политики, новых исканий: торговлю, промышленность, просвещение. Бесплодные, по существу, попытки Петра I и Екатерины II «создать» на Руси сильную и активную городскую буржуазию, организовать из русских посадских настоящий класс «третьего чину людей» беспощадно разбивались о крепостной уклад русского народного хозяйства; медленно нарастал сколько-нибудь значительный торговый капитал на основе помещичьей и крестьянской торговли; более крупные коммерческие предприятия, ориентированные на заграничный сбыт, искали опоры в крупных землевладельцах, если не были прямо ими организованы, требовали казенной поддержки в виде монополий и разных привилегий и попадали в зависимость от иностранного купечества. «Оживотворение труда народного» внешней торговлей, о котором толковал министр коммерции, сказывалось постепенным перерождением крепостного хозяйства в предприятие, работающее на рынок, деятельным участием помещиков и их оброчных крестьян («крестьян-капиталистов», как означали их в некоторых барских конторах) в развитии торговли и промышленности. Внешняя торговля ставила русской промышленности ее наиболее устойчивые задачи, ограничивая ее рост непосильностью конкуренции с иностранным ввозом, несмотря на покровительственную политику правительства. Русская промышленность росла и крепла, с трудом пуская корни в крепостнической народно-хозяйственной почве, сохраняя зависимость от государственного и помещичьего хозяйств, которые и поддерживали, и тормозили ее самостоятельное развитие. В такой социально-экономической обстановке туго приходилось и государственным финансам; общая доходность народного хозяйства непрерывно отставала от роста их запросов; фискальный мотив определял в первую очередь экономическую политику власти, искавшую расширенной и более выносливой базы для государственного хозяйства, чем крепостническая сельскохозяйственная экономика страны. Подъем материальных и культурных ее средств до уровня западноевропейских стран стал заветной руководящей мыслью правительственной власти, проникшейся идеалом «просвещенного абсолютизма» и сознававшей себя передовой, творческой силой в отсталой и косной общественной среде. Преобразовать эту среду в «новую породу людей», пробудить ее силы разумным просвещением – казалось делом возможным и насущным; но и в этой сфере проектов и опытов создания системы всенародного образования «от азбуки до университета включительно», как писала императрица Екатерина одному из своих заграничных корреспондентов, на первых же шагах пробуждалось сознание, что подобные затеи утопичны без коренной перестройки всего социального фундамента империи.
Богатые возможности роста производительных сил, разработка природных богатств страны, лежащих втуне, развитие трудовой и творческой энергии населения, подавленной порабощенностью масс и косной распущенностью господствующего класса, представлялись благодарной задачей «просвещенного» правительства, вооруженного неограниченной властью для реорганизации сил и средств страны на новых, более рациональных основаниях. Но русские деятели, мечтавшие о такой широкой творческой деятельности правительственной власти, скоро излечились – на примере Екатерины Великой – от наивной веры в «просвещенного» государя-философа, благодетеля человечества. Мысль таких людей, передовых в правящей среде, пошла по пути конституционных размышлений, близких к идеологии консерваторов-англоманов, но с иным, отчасти, уклоном в понимании реальных задач преобразования. Это – люди более молодого поколения, сверстники Александра, из среды которых составился и первый кружок его советников – знаменитый «негласный комитет» первых лет его правления.
«Класс, который в России должен всего более привлекать внимание, – пишет П.А. Строганов по поводу обсуждаемых в этом комитете преобразований, – крестьяне; этот многочисленный класс состоит из людей, которые в большей части одарены значительным разумом и предприимчивым духом, но, связанные лишением прав свободы и собственности, осуждены на прозябание и не дают на пользу общества того вклада их труда, на какой каждый из них был бы способен; они лишены прочного положения, лишены собственности». Так преобразовательная мысль, в поисках выхода из тягостного бессилия русских противоречий, неизбежно наталкивалась на отрицание основ данного социального строя, на требование свободы труда и собственности – перехода к буржуазному порядку, торжествовавшему свои победы в Западной Европе. Столь же неизбежно наталкивалась она и на отрицание самодержавия, на требование перехода к конституционному строю. Тот же Строганов в той же записке так рассуждает о конституции: «Конституция определяет признание законом прав нации и формы, в которых она их осуществляет; чтобы, далее, обеспечить прочность этих прав, должна существовать гарантия, что сторонняя власть не сможет воспрепятствовать действию этих прав; если такой гарантии не существует, утрачена будет цель этих прав, которая в том, чтобы препятствовать принятию какой-либо правительственной меры в противность подлинному народному интересу». Старшему поколению так называемые «молодые друзья» Александра казались слишком смелыми, так как шли, по-видимому, дальше их в вопросах социальной реформы и ограничения самодержавия. Но только – по-видимому. И Строганов основой русской конституции признает установление сословных прав в двух хартиях – жалованных грамотах дворянству и городам, а сводит конституцию к охране приобретенных сословных прав установлением определенного и неизменного порядка издания законов, который устранил бы всякую возможность произвола. Конечно, его мысль шире и идет дальше – к определению и установлению сословных прав крестьянства, на помянутых началах свободы и собственности, однако с безнадежной осторожностью, так как задача состоит, по его мнению, в том, чтобы достигнуть этой цели «без потрясения, а без этого условия лучше ничего не делать»; и поясняет: «Необходимо щадить владельцев, довести их до цели рядом распоряжений, которые, не раздражая их, произвели бы улучшение в положении крестьянства и довели бы его с незаметной постепенностью до намеченного результата». Такая безнадежная связанность правящей среды с интересами господствующего сословия делала ее беспомощной перед задачей сколько-нибудь широких преобразований. Интересы, с возможно широким удовлетворением которых были, по существу, связаны весьма реальные потребности государственной жизни, – интересы торговли, промышленности и просвещения, – имели лишь весьма ограниченную и притом искаженную в условиях крепостного строя общественную опору. Получался неисходный «ложный круг»; задачи, представлявшиеся очередными и насущными, требовали перестройки социальной основы всего государственного здания, а разрешимы были только на обновленной, переродившейся в существенных интересах своих общественной почве. Обычный парадокс критических периодов исторической жизни.
В такие моменты особым кредитом пользуется иллюзия всемогущества государственной власти. Недаром Карамзин писал императору Александру в известной своей анонимной записке: «Народы всегда будут то, чем угодно правительству, чтоб они были»; топорно и упрощенно он выразил мысль XVIII в. – идею «просвещенного» абсолютизма. Век «великих преобразователей», активной экономической и просветительной политики, обслуживавшей подъем буржуазных сил и буржуазных форм общественных отношений, повсюду ставил монархическую власть в противоречие с традициями безусловного классового господства дворянства, но нигде не довел этих противоречий до полного разрыва с прошлым, до полного преображения всего строя без революционной встряски. Покровительством развитию торговли и промышленности правительственная власть вскармливала в недрах старого режима новые общественные силы, вводила в круг своих мероприятий элементы крестьянской реформы, содействуя процессу приспособления помещичьего землевладения к новым условиям торгового обмена и производства, ускоряя этот процесс под давлением государственных интересов, требовавших новой социально-экономической базы для своего обеспечения. В России эти внутренние противоречия старого режима были вскрыты для правящей среды в Екатерининскую эпоху. Сознательная продолжательница дел Петра Великого, Екатерина капитулировала в своей политике перед дворянским засильем. Сын ее не хотел быть «дворянским царем». Неумело и суетливо пытался он, в порывах нервического личного деспотизма, пробить брешь в крепости дворянских привилегий, свод которых дворяне зачисляли в состав «основных» законов империи, пробовал властно вмешаться в отношения помещиков к крестьянам, всех сравнять в одинаковом бесправии перед своей самодержавной властью, по формуле: «У меня велик только тот, с кем я говорю и пока с ним говорю». Этот «принцип» (а это был принцип) нашел яркое выражение в уродливых и жестоких формах гатчинской воинской дисциплины, которую Павел пытался распространить и на двор свой, и на весь быт Петербурга, и, по возможности, на всю свою империю. Его планы государственного преобразования проникнуты крайней напряженностью державного своевластия, не связанного обязательными формальностями и действующего через рабски послушных доверенных лиц, по своей царской милости и царской справедливости, по личному усмотрению венценосца. От подчиненных властей Павел требует строгого исполнения законов, но сведенных к «высочайшим повелениям» и зависимым от перебоев личного настроения властителя. Милитаризируя и придворный быт, и все управление, Павел в новой форме воскрешал стародавнее, средневековое, личное, вотчинное властвование; оно лишь обострено слиянием с военным командованием по прусскому образцу. Недаром Павел в конце концов увлекся Наполеоном, с которым готов был разделить власть над Европой: ему Наполеон был понятен, как правитель, утверждавший, что «править надо в ботфортах». Многое в личности и действиях Павла может быть предметом индивидуальной патологии. Но общее содержание его правительственной деятельности ярко отразило парадоксальность положения русской императорской власти к исходу XVIII в. Попытка выйти из положения, при котором «дворянство через правительство управляло страной», расшатывала социальные корни самодержавия, не давая ему другой общественной опоры. Увлечение его своим самодовлеющим значением обострено и омрачено свежей памятью о ряде дворцовых переворотов, когда престол стал игрушкой гвардейских сил дворянства. Для Павла «основные» законы империи сводились к закону о престолонаследии и положению об императорской фамилии. Самодержавие выступило при нем в полном обнажении своей сущности, несовместимой ни принципиально, ни практически с утопией «истинной монархии», примиряющей монархический абсолютизм с кое-какими конституционными гарантиями правового государства.
Дворянский конституционализм на рубеже XVIII–XIX вв. не шел дальше осторожного упорядочения деятельности верховной власти установлением некоторых гарантий законности ее действий. Его предпосылкой было сохранение всей полноты государственного абсолютизма в руках монарха и высших правительственных учреждений, сопричастных делу законодательства и верховного управления. Сперанский метко вскрыл коренное противоречие этой мысли в проекте 1803 г., определив задачу преобразования как сохранение самодержавия, только прикрытого формами, относящимися к иному, т. е. конституционному, порядку. Мотивы, которые вели политическую мысль этих поколений, заработавшую по-новому под влиянием знакомства с западными теориями и западной практикой, к такому уклончивому результату, были различны у разных групп. Острая память о недавно пережитой пугачевщине побуждала к усилению центральной власти и ее полицейско-административных сил как опоры помещичьего господства и того процесса закрепощения масс по окраинным областям, который был реальной основой всего государственного строительства империи. С другой стороны, брожение преобразовательных идей в правящей среде вызывало в одних группах стремление связать верховную власть «основными» законами дворянского господства, а в других – организовать ее работу, не оставляя ее самостоятельности в деле необходимых преобразований, вне тормозов дворянского консерватизма, но в то же время с гарантией умеренности и постепенности реформ, чтобы избежать «потрясения» и охранить интересы землевладельческого класса. Дальше этих оттенков не шли разногласия в среде влиятельных групп начала XIX в., нашедшие наиболее яркое выражение в борьбе между старшим поколением вельможных сенаторов и «негласным комитетом» молодых друзей – советников Александра I за первые годы его правления. В лице императора Павла державная власть резко противопоставила всем подобным тенденциям утверждение своей «абсолютности» и ищет опоры в безусловной покорности бюрократических органов управления и безгласной, дисциплинированной в суровой муштровке воинской силе.









































