Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
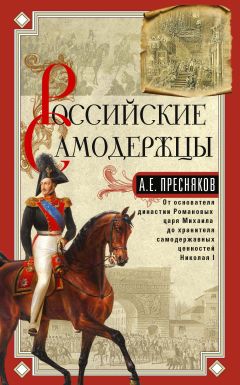
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Православие – одна из опор этой власти, отнюдь не та «внутренняя правда» самостоятельной и авторитетной Русской церкви, о которой мечтали славянофилы, а вполне реальная система церковного властвования над духовной жизнью «паствы», притом церковность – орудие политической силы самодержавия, вполне покорное гражданской власти под управлением синодального обер-прокурора. А под «народностью» разумелся казенный патриотизм – безусловное преклонение перед правительственной Россией, перед ее военной мощью и полицейской выправкой, перед Россией в ее официальном облике, «в противоположность России по бумагам с Россией в натуре», по выражению историка-националиста М.П. Погодина, перед Россией декоративной, в казенном стиле, притворно уверенной в своих силах, в непогрешимости и устойчивости своих порядков и умышленно закрывающей глаза на великие народно-государственные нужды. Во внутренней жизни страны эта система «официальной народности» воплощает полный застой органической, творческой деятельности и прикрывает агонию разлагавшегося старого порядка. В отношениях международных она ведет к выступлениям, полным чрезмерной самонадеянности, к политическому авантюризму, который через перенапряжение сил страны, расшатанных внутренним кризисом, увлекает государство к роковой катастрофе.
V. Россия и Европа
В течение всего царствования Николая Министерством иностранных дел управлял граф Карл Нессельроде. Штейн, великий патриот единой Германии, яркий выразитель национальной идеи, отзывался о нем крайне жестко: «Нет у него ни отечества, ни родного языка, а это много значит; нет у него одного основного чувства; отец – немецкий авантюрист, мать – неведомо кто, в Берлине воспитан, в Москве служит». Тип служилого немца, выходца из мелкого германского княжества на простор иностранной карьеры; сын католика и еврейки, принявшей протестантство, случайно крещен по англиканскому обряду; воспитан в Берлине в духе модной французской культуры; рано, по службе отца, связан с русским двором, в 16 лет – флигель-адъютант Павла, в 20 – камергер, баловень придворной карьеры. При Александре – дипломат по особым поручениям, орудие личной политики императора по части секретных сношений с предателями Наполеона – Талейраном и Коленкуром, с 1816 г. – его статс-секретарь по дипломатической части. При раздвоении русской внешней политики между общеевропейскими тенденциями эпохи конгрессов и русскими интересами в Восточной Европе Нессельроде был носителем первых, как другой статс-секретарь – Каподистрия – вторых, по их связи с его греческим патриотизмом. Поворот к большей независимости русской политики в восточном вопросе, происшедший в исходе александровского царствования и усвоенный Николаем, был сформулирован Нессельроде в первом же его докладе новому императору, где умело разграничивались общеевропейские вопросы и непосредственные интересы России. Николай выполнил требование брата Константина, заявленное при знаменательных их сношениях о судьбе русского престола, – в виде совета сохранить Нессельроде как представителя заветов Александра. Он и остался при Николае носителем традиций эпохи конгрессов, «политики принципов», которая отводила России роль силы, охраняющей монархический порядок в Европе и те формы «политического равновесия», какие установлены на Венском конгрессе. Николай дорожил этими принципами Фридриха Вильгельма III и Александра I, дорожил и Нессельроде как удобным и опытным сотрудником. Он внимательно вчитывался в доклады Нессельроде, учился у него, но по существу сам вел свою политику; Нессельроде не особенно преувеличивал, когда называл себя «скромным орудием его предначертаний и органом его политических замыслов». Нессельроде стал вице-канцлером и государственным канцлером Российской империи, но оставался все тем же статс-секретарем по дипломатической части.
Соотношение России и Европы приняло во второй четверти XIX в. новый характер. Созревает усиленная реакция против александровского интернационализма, взявшая верх еще при нем. Крепнет тенденция обособления России от Европы. Политика Александра слишком чувствительно ударяла по господствовавшим в России интересам. А вопросы, с этим связанные, особо обострены в польских и в ближневосточных делах.
Присоединение герцогства Варшавского сильно осложнило западные отношения России. Польские земли были в давней и географически обусловленной связи с Пруссией. Польский экспорт и польский рынок для сбыта ввозимых товаров служили выгодным объектом прусской эксплуатации. Льготные условия, установленные на Венском конгрессе и в последующих соглашениях для торгового обмена между частями разделенной Польши, обеспечивали и в дальнейшем эти прусские выгоды, а получали крайне расширенное значение, с одной стороны, потому, что охватывали бывшие польские земли «в границах 1772 г.», а с другой – потому, что за Пруссией строился немецкий таможенный союз. Пруссия стремилась использовать эти условия для захвата в пользу своей торговли и промышленности польского и русского рынков. Таможенная самозащита со стороны России и Польши стала на очередь и привела к новому торжеству покровительственной системы в русской имперской экономической политике. Привела она и к другому результату, не менее существенному: к экономическому сближению царства Польского с Россией с ослаблением, а затем и полной отменой русско-польской таможенной границы, притом по почину не русских, а польских финансовых деятелей, во главе которых стоял Ксаверий Любецкий.
Все эти экономические отношения, которые тут могут быть упомянуты лишь мимоходом[7]7
См.: Пресняков А.Е. Экономика и политика в польском вопросе начала XIX в. // Борьба классов. 1924. № 1. С. 29–49.
[Закрыть], значительно усложняли проблему самостоятельности царства Польского в составе русской империи. Вопросы общеимперской политики все больше ее захлестывали. И не только таможенные или торгово-промышленные и финансовые. Николай подходил к польскому вопросу также со стороны политико-стратегической. Западная граница империи представлялась ему не усиленной, а ослабленной с присоединением царства Польского. Вполне пренебрегая, со своей русско-имперской точки зрения, судьбами польской народности, он предпочел бы иной раздел Польши, с имперской границей по Нареву и Висле и с уступкой соседям земель на запад от этой границы, по возможности в обмен на Восточную Галицию, а то и даром. Самостоятельное существование конституционной Польши было несовместимо со всем укладом его воззрений; ее создание он считал ошибкой Александра, «достойной сожаления» в такой же мере, как конституционные обещания Фридриха Вильгельма III своим подданным; в этих пунктах он решительно отступал от благоговейного уважения к своим излюбленным авторитетам. К принципу национальных самоопределений он относился с полным отрицанием. Связь национальных движений с либерально-освободительными придавала этому принципу революционный характер. Это был принцип антимонархический, несовместимый с идеей самодержавия. Призыв к возрождению народностей, сошедших с арены активной политической жизни, казался лишь предлогом, только формой революционной агитации. Отсюда враждебное, например, отношение николаевского правительства к панславизму, подозрительное – к славянофильству. Официально разъяснялось, что русский патриотизм должен исходить «не из славянства, игрою фантазии созданного, а из начала русского, без всякой примеси современных идей политических».
Польское восстание 1830–1831 гг. было для Николая ярким подтверждением этих его воззрений. Россия сама создала польские силы для борьбы с собой: финансы Польши (налаженные Любецким) «позволили образовать в казначействе резервный фонд, который затем оказался достаточным для поддержки нынешней борьбы», отметил Николай в собственноручной записке о польском восстании, «армия, созданная по образцу имперской, была всем снабжена от России», получила отличную организацию на основе русских кадров, польская промышленность поднялась за счет русской на имперском рынке, а внутренняя автономия Польши, при которой там считалось допустимым и даже похвальным многое, что в империи признавалось преступным и каралось, подрывала «то, что составляет силу империи, т. е. убеждение, что она может быть сильной и великой только под монархическим правлением самодержавного государя». Польское восстание сильно тревожило Николая, стоило ему «девятимесячных мучений», за избавление от которых он благодарит Паскевича. Но тревога осталась. С Польшей надо покончить. Нескрываемая радость звучит в словах Николая: «Я получил ковчег с покойницей конституцией, за которую благодарю весьма, она изволит покоиться в Оружейной палате». Он заменил «покойницу» мертворожденным «органическим статутом», который превратил царство Польское в имперскую провинцию, а на деле отдал ее под военно-полицейскую диктатуру наместников и намечал для подрыва влияния землевладельческой шляхты «увольнение крестьян в королевстве по примеру, указанному в Пруссии». Его идеалом была бы полная русификация Польши для объединения всей империи, с ее польскими, немецкими, украинскими и другими окраинами, на началах самодержавного властвования и «официальной народности». Но в польской политике приходилось считаться с соседними странами. Николай крайне недоволен уступками, какие делает Фридрих Вильгельм IV познанским полякам и в национальных, и в церковных вопросах, пытается и лично, и через жену-императрицу воздействовать на ее брата, чтобы он согласовал свою польскую политику с его национальной системой подавления польской жизни. Недоволен он и действиями австрийского правительства в Галиции. Он полагал, что согласные действия трех правительств могли бы уничтожить польскую национальность, и вовсе не сознавал, насколько его репрессии только крепче выковывают польский патриотизм… Польские впечатления и тревоги, несомненно, усиливали консерватизм Николая, укрепляли его уверенность, что его политическая система – единственно возможная для сохранения «спокойствия и порядка» в Российской империи, даже самого ее существования.
Опасность грозила этим «устоям» по-прежнему с Запада. Этот Запад переживал все более глубокие революционные потрясения, перерождался в самых основах своего быта. Крепли связи России с Европой, все глубже отражались в ее быту процессы общеевропейской эволюции. Остановить колесо русской истории можно было бы, только остановив или хоть задержав роковое движение Европы. Николай всю жизнь провел в непосильной борьбе с «духом времени».
Эта борьба за «принципы» и «традиции» своеобразно переплеталась с его представлениями о русских международных интересах. От брата Александра и прусского тестя он твердо усвоил понятие «законной» власти, законной по происхождению ее права на властвование. Наследственная монархическая власть должна быть «священным залогом» в руках ее носителей, которые и права не имеют ее умалять, делиться ею c народными представителями. Любопытный эпизод с завещанием Фридриха Вильгельма III, которое составлено при участии Николая и предоставляет членам династии право опротестовать всякую попытку своего главы умалить державную власть конституционными уступками, весьма показателен. Он дал Николаю лишний повод для покушений на вмешательство во внутренние дела Пруссии. Пользуясь личной близостью с прусским королем, Николай пытается воздерживать его от малодушного либеральничанья, от созыва «генеральных чинов» и признания за ними права голоса в финансовых вопросах, особенно при заключении государственных займов. Он дорожил прусской дружбой. «Но, – писал он Фридриху Вильгельму, – Россия всегда будет верною союзницей своего старого друга – доброй, старой и лояльной Пруссии», а не Пруссии новой, вошедшей в компромисс с «революцией». Ему нужна старая, военно-феодальная и монархичная Пруссия как оплот против революционного Запада, а не Пруссия, увлеченная подъемом своего торгового и промышленного капитализма на новые пути политического развития. Эта нарождающаяся новая Пруссия тягостна покушениями на эксплуатацию не только Польши, но и России как своего Hinterland’a для своих коммерческих оборотов. После встряски 1848 г., после попытки избрать Фридриха Вильгельма главой объединенной Германии Николай готов на разрыв с Пруссией, раз она бросается в объятия новой Германии, «Германии федеративно объединенной, демократической, агрессивной, жаждущей главенства и территориальных захватов». Буржуазно-революционный переворот в Германии страшил Николая не только как крушение старого порядка, построенного на абсолютизме монархической власти, но и как источник грозного капиталистического империализма в международных отношениях. И он всю силу своего влияния употребляет на подавление этих тенденций, на противодействие объединению Германии, на поддержку против Пруссии Дании в шлезвиг-гольштинском вопросе, Австрии и второстепенных германских государств в вопросах общегерманского устройства. Защита «принципов порядка» приобретает вполне реальный смысл борьбы против подъема национальных сил, опасных для международного положения Российской империи: в новой форме воскресает старая политика XVIII в. – разделенные и слабые соседи гораздо удобнее.
Не менее опасным считал Николай и революционное движение в австрийских землях. Монархия Габсбургов – исконный оплот старого порядка – должна быть сохранена. Венгерское восстание Николай понял как большую опасность по выдающемуся участию в нем поляков: успех этого восстания грозил бы новым подъемом польского движения, которое проявлялось беспрерывными вспышками в течение 1840-х гг. и которому Николай в 1846 г. нанес чувствительный удар, настояв на уничтожении «вольности» Кракова. Подавление венгерского восстания русскими войсками было актом самозащиты со стороны Николая, моментом его личной политики, а не услугой союзнику, как это не раз изображали официально и неофициально.
Инстинкт самозащиты вносил Николай во всю свою общеевропейскую охранительную политику. И западная публицистика была права, когда видела в русском самодержце главного врага революционному обновлению Европы (мысль, которую так настойчиво развивал Карл Маркс в ряде горячих статей). Понятно, что с особой тревогой Николай следил за источником всех революционных потрясений, за Францией. Предвидя неминуемый взрыв, он осуждал слишком резкие ультрареакционные меры Карла X, но его падение и переход власти к Луи-Филиппу принял как вызов остаткам «старого порядка». «Он покусился на подрыв и крушение моей позиции как русского императора, – говорил Николай про Луи-Филиппа, – этого я ему никогда не прощу». Власть, созданная революцией и полагавшая свою законность в «воле народа», не могла быть признана «законной»: ее легализация международным признанием подрывает все основы «порядка». Такова первая мысль Николая. Недавние события Наполеоновской эпохи заставляли думать, что революционный взрыв освобождает массу национальной энергии в стране и грозит перевернуть все международные отношения интенсивной внешней политикой. Николай встретил новую власть во Франции враждебно; сгоряча велел всем русским выехать из Франции, запретил появление трехцветного французского флага в русских портах, не хотел признавать «узурпатора». Это означало разрыв дипломатических и торговых отношений с Францией. С трудом удалось русскому послу в Париже Поццо ди Борго разъяснить рассерженному самодержцу консервативный характер монархии Луи-Филиппа как компромиссной приостановки революционного движения, устранение которой привело бы к низвержению монархии и провозглашению республики. Признание Луи-Филиппа другими державами заставило Николая уступить и ограничиться политически бестактным третированием короля, за которым он никак не хотел признать равенства с настоящими государями. Это чувство было столь сильно в Николае, что он даже со злорадством отнесся к падению монархии Луи-Филиппа в 1848 г.: «негодяй», каким был этот король в его мнении, потерял власть тем же путем, как ее получил, и получил только то, что заслужил. Такое отношение к Луи-Филиппу усиливалось польскими симпатиями Франции и отражениями Июльской революции в странах Европы. Особенно возмутил Николая распад Нидерландов на Бельгию и Голландию; он настаивал на вооруженной защите другими державами «прав» нидерландского короля и готовил для этого русские войска. Но независимость Бельгии имела поддержку в Англии и во Франции; Пруссия и Австрия держались пассивно – пришлось отступить и тут. Все эти отступления прикрывались канцелярско-дипломатическими фикциями, на которые Нессельроде был мастер: вроде признания Луи-Филиппа заместителем Карла X, который будто сдал ему полномочия своим отречением, или признания Бельгии, когда ее голландский король признает, и т. п. Такие уступки тяжело переживались Николаем, как моменты разложения тех «основ порядка», на страже которых он пытался стоять. Система Венского конгресса, сила трактатов 1815 г. окончательно подорвана. Их сменила система соглашений, установленных в 1833–1835 гг., и Николай твердо за нее держался, но уже без доверия к устойчивости «порядка» в Европе. Дипломатические фикции настойчиво поддерживались николаевским правительством до конца: русская дипломатия продолжает постоянно ссылаться на «трактаты 1815 г.». 1848 г. нанес новый удар николаевской «системе». Снова произошел порыв Франции к новому будущему. Республиканское правительство объявило трактаты 1815 г. упраздненными; Национальное собрание провозгласило руководящими началами французской политики союз с Германией, независимость Польши, освобождение Италии. Это был прямой вызов.
«Наступила торжественная минута, которую я предсказывал в продолжение 18 лет; революция воскресла из пепла, и нашему общему существованию угрожает неминуемая опасность» – так писал Николай прусскому королю по поводу февральской революции. Революционное движение разливалось по всей Европе. Но первая мысль Николая о сосредоточении контрреволюционных сил для его подавления сразу ограничена задачей «подавления смуты» в Польше, Галиции, Познани.
Прежние союзники – Пруссия, Австрия – сами потрясены революционным движением. Пруссия преображается, вовлечена в общегерманское движение. «Старой Пруссии больше не существует, – пишет Николай, – она исчезла – в Германии, и наш древний близкий союз исчез вместе с нею». Пришлось признать, что реакция в плане «эпохи конгрессов» невозможна; оставалось ее поддерживать частичным вмешательством в германские и австрийские дела. А по существу, русской реакционной системе оставалось замкнуться в своих национальных пределах.
Николай, несомненно, пережил момент тревоги, как бы движение не захватило и его империю. Рядом с усилением полицейского террора, он обращается, как в 1826 г., к дворянству с призывом содействовать власти в охране «порядка» и с заявлением, что землевладельческие привилегии священны и неприкосновенны. Казалось, что предстоит и внешняя борьба, которую готова поднять революционная Европа против восточного самодержца.
Николай лично написал известный манифест 14 (26) марта 1848 г., в котором говорил о «новых смутах», взволновавших Запад Европы после «долголетнего мира», о «мятеже и безначалии», которые возникли во Франции, но охватывают и Германию, угрожают России; Николай призывает всех русских защитить «неприкосновенность пределов» империи, призывает их к борьбе «за веру, царя и отечество» и к победе, которая даст право воскликнуть: «С нами Бог, разумейте народы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Это восклицание он с тех пор любил повторять по любому поводу.
Манифест был опубликован и по-немецки в берлинских газетах и прозвучал встречным вызовом русского самодержца революционному движению Запада. Нессельроде пришлось даже разъяснять в циркулярной дипломатической ноте, что манифест этот отнюдь не означает каких-либо наступательных намерений России. «Пусть народы Запада, – говорилось в этой ноте, – ищут счастья в революциях. Россия смотрит спокойно на эти движения, не принимает в них участия и не будет им противодействовать; она не завидует судьбе этих народов, даже если бы они вышли из смут анархии и беспорядка к лучшему для них будущему. Сама Россия спокойно ожидает дальнейшего развития своих общественных отношений от времени и от мудрой заботливости своего царя». Резко противопоставлялась консервативная Россия революционной Европе. Николай выступал перед Западом охранителем и опорой консерватизма и реакции. А обширная страна, ему подвластная, казалась безмолвной, покорной и крепкой базой для замкнутой в своих традициях тяжеловесной власти северного самодержца. Кипучая политическая жизнь Запада замирала у русской границы. И поэту, хвалителю николаевского режима, Россия представлялась спокойным и надменным, неподвижным и неизменным утесом-великаном, о который разбиваются волны взбаламученного революцией западного моря[8]8
Ф.И. Тютчев. «Море и утес» (1848).
[Закрыть].
В идеологии николаевского времени Россия и Европа противопоставлялись как два культурно-исторических мира разного типа, несравнимых и несоизмеримых ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Политическая действительность, отражавшаяся в таких воззрениях, сводилась ко все большей изоляции России в системе европейских международных отношений. С мнимой уверенностью в своих силах николаевская Россия противопоставила себя и свои интересы европейскому политическому миру – на почве восточного вопроса. Назревший и все нараставший конфликт разразился по поводу борьбы за господство на Ближнем Востоке, привел к крушению всю николаевскую политическую систему, разбил и личную жизнь Николая.









































