Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
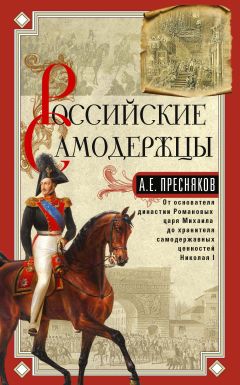
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Два течения в германском протестантизме привлекли сочувственное внимание Александра как пригодные для идеологического увенчания и практического укрепления возводимой им политической системы: разложение догматики и подчинение религиозной общественности светским властям. Корни обоих исконные – в самой сущности Реформации XVI в. Протестантский идеал субъективной религиозности искал у светской власти защиты от деспотизма духовной иерархии, какой бы то ни было, что неотделимо от падения силы авторитетной догмы. В развитии сектантства – естественного продукта Реформации – разлагалось значение церкви как общественной и политической силы, разлагалась и ее идеология, воплощенная в догматах и в организованном культе. Протестантские круги отдавали «епископскую» власть в руки светского государства, в расчете купить за эту цену полную веротерпимость при равнодушии власти к различиям исповеданий. От христианской религии оставался только «закон Христов» – стремление жить по нравственным заповедям Евангелия, без всякого противопоставления церковной общественности светскому государству. А такой скромной (в политическом смысле) религиозностью государственная власть весьма даже дорожила, как надежным средством против распространения революционных идей и настроений. Благочестие – залог законопослушности, а неверие, по отзыву Александра, – «величайшее зло, которым надо заняться», чтобы его искоренить.
Акт Священного союза не был случайным явлением, которое было бы вызвано теми или иными личными переживаниями Александра или сторонними влияниями на него. Идеология этого акта была подготовлена определенными течениями мысли на русской почве и в то же время имела опору в традициях и отношениях немецкого культурного мира, с которым Александр вошел в тесное общение. Она указывала ему ту общественно-психологическую почву, на которой, будь она реальна, он мог бы осуществить свои политические планы. Она соблазняла его своей мнимой широтой, соответствующей размаху его интернациональных планов, и своей гарантией политической благонадежности общественной массы. Де Местр передает свою беседу с Александром по поводу «христианской конвенции», как он называет акт Священного союза, вскоре после его появления. Он спросил Александра, не добивается ли тот «смешения всех вероисповеданий»? И получил такой ответ: «В христианстве есть нечто более важное, чем все вероисповедные различия (и в то же время он поднял руку и обвел ею кругом, словно строил собор всеобщей церкви): вот вечное. Начнемте преследовать неверие, вот в чем величайшее зло, которым надо заняться. Проповедуем Евангелие, это довольно великое дело. Я вполне надеюсь, что когда-нибудь все вероисповедания соединятся, я считаю это вполне возможным, но время еще не пришло». Такова «химера», по выражению де Местра, которая должна была лечь в основу братского единения всех правительств и покорных им смиренномудрых народов в Священном союзе.
Александр пытался сделать идеологию Священного союза принципиальной основой «европейской федерации». Все христианские правительства Европы были призваны присоединиться к «христианской конвенции». Дело не вполне удалось. Правитель Англии, принц-регент, уклонился от официального признания акта, ссылаясь на неодолимые конституционные препятствия, на невозможность представить подобный акт парламенту, и ограничился личным письмом, в котором выражал готовность содействовать влиянию христианских истин на утверждение мира и благоденствия народов. Римский папа, глава католической церкви, также отклонил приглашение примкнуть к Священному союзу. В Риме теократическая окраска «христианской конвенции» не могла не вызвать возмущения, как попытка Александра выступить в роли главы (хотя бы и не единоличного, а триединого) и руководителя христианского мира от имени божественного провидения, да еще на некатолической религиозной основе. Недаром представитель папского престола на Венском конгрессе, кардинал Консальви, заявил при заключении конгресса торжественный протест против отказа держав восстановить традиционный «центр политического объединения» Европы – католическую Священную Римскую империю. В скором времени Римская курия еще яснее убедилась, насколько политика Александра, построенная на началах подчинения церкви государству и превращения религии в орудие политической дисциплины, противоречит принципам и интересам католической церкви: на возражения папы против его церковно-административных мероприятий по управлению «иностранными исповеданиями» в России Александр ответил в личном письме к Пию VII указанием на свою твердую решимость устранить всякое вмешательство в эти вопросы со стороны власти, «не совместимой с системой покровительства, единения и братства, под знаменем которой мирно существуют все христианские церкви на всем пространстве России».
«Императором Европы» прозвали Александра патриотически настроенные русские люди с укоризной за то, что он поглощен в годы «эпохи конгрессов» европейскими делами, фактически отстранившись от прямого управления Россией, которое оставил на Комитете министров под руководством Аракчеева. А сам Александр на широкой европейской арене ищет применения своих планов переустройства Европы на им намеченных основах, чтобы затем вернуться к преобразованию своей империи на тех же началах, которые казались ему гарантией мира, гражданского и международного. Наметив содержание своей политической и духовно-культурной программы в акте Священного союза и пытаясь придать ей значение международной, общепринятой директивы, он не считает ее реакционной, так как обманывает себя мыслью, что она согласима с господством умеренного конституционализма как формы сотрудничества сильной монархической власти, патриархальной по духу и либеральной по приемам, с народным представительством благодарного и скромного в своем благонамеренном благочестии населения. Он как бы предвосхищает сентиментальную формулу славянофилов о единении царя с народом при разделе между ними функций: царю – сила власти, народу – сила мнения. То же начало единодушия и мирного единения стремится Александр провести в организации европейских международных отношений.
Тут мысль его в том, чтобы расширить и упрочить организацию союзной власти, намеченную Парижским союзным трактатом от 20 ноября 1815 г., до размеров и устойчивости органа международной федерации европейских держав. Предположенные там периодические конгрессы должны принять в свой состав представителей всех держав «христианской Европы» и получить широкую компетенцию в улаживании и предотвращении международных конфликтов, в борьбе с непорядками и бедствиями международного значения, а их совещания должны стать средством объединения внутренней политики всех государств на общих началах Священного союза. Властная гегемония четырех коалиционных держав должна перейти в «братский и христианский союз» всех. Гегемония сильных не может дать прочную гарантию общего мира. Она навлекает упрек в новом захвате «всемирного владычества» союзом четырех держав и рискует повторить историю Наполеона, с одной стороны, и освободительных войн и национальных восстаний – с другой, когда государства, оставшиеся вне этого союза, заключат для самозащиты новую коалицию. Общему миру грозят две опасности: революция и насилие завоевателей. Это, по пониманию Александра и советников, разрабатывавших его мысли (теперь эта роль выпала на долю преимущественно Поццо ди Борго), две родственные силы. «Ведь каждая революция, – рассуждают они, – будучи олицетворенною, есть не что иное, как завоеватель, посягающий на законную собственность и право, государи-завоеватели, равным образом, – не более не менее как революция, покрытая королевскою мантиею». Александр, в увлечении пацифистской своей мечтой о всеобщем умиротворении, ставит за одну скобку и революцию, и реакцию, и международные захваты, ведущие к борьбе коалиций. Общему спокойствию Европы угрожают опасности от революционеров и от самих правительств, поскольку они держатся прежней политики – произвола во внутреннем управлении и сепаратных союзов в международных отношениях. Такую теорию всеобщего мира внесло русское правительство на первый же европейский конгресс (в Аахене, осенью 1818 г.). Тут представители России отстаивали идею «всеобщего союза», который заменил бы союз четырех, и «всеобщей гарантии» установленного в Европе порядка. Тут и потерпела свое первое и решительное крушение излюбленная утопия Александра. «Союз» был только тем расширен, что в него была официально включена Франция: тетрархия стала пентархией, и только. Да и то весьма условно: недоверие к прочности бурбонского режима и опасение перед возможностью новых взрывов французской революционной и национальной энергии побудили четыре державы «секретно» подтвердить свой особый союз 1815 г. «на случай войны с Францией». Весьма платоническим, как показал дальнейший ход событий, оказалось проведенное Россией постановление конгресса, ограничивавшее международный деспотизм пентархии, о том, что вопросы, касающиеся других держав, стоящих вне основного союза, могут быть поставлены на обсуждение конгресса не иначе как по формально заявленному желанию их самих и при их участии. Александр видел в этом шаг к утверждению за конгрессами значения высшего учреждения, направляющего ход мировых отношений к охране «порядка и справедливости» в мировом масштабе, притом без нарушения «законного суверенитета» каждой страны, без насильственной интервенции в ее дела. Но чем шире развертывалась проблема организации солидарности, тем острее и резче выступали конкретные антагонизмы. В поддержке Россией самостоятельности и прав внесоюзных держав другие, а прежде всего Австрия и Англия, Меттерних и Кэстлри, видели ее стремление сохранить и усилить свое международное влияние за счет остальных «великих держав» и проявление традиционной ее политики – поддерживать мелкие германские государства против Австрии и Пруссии, объединять морские державы против английского морского господства. Так, русский проект образования международной морской силы для систематической борьбы против торговли неграми и пиратства сорван возражениями английского правительства, зато английский проект вмешательства держав в борьбу Испании с восставшими колониями и ее умиротворения путем посредничества сорван возражениями России и Франции, из опасения усилить то английское влияние и в колониях, и в Испании, с которым их дипломатия и так неустанно боролась по мере сил, хотя и с малым успехом. И в ряде вопросов выявлялась нараставшая противоположность между русской и австрийской, русской и английской политикой. Однако не только разрозненность и соперничество великодержавных интересов членов союза подрывали и разлагали намеченную было «федеративную солидарность». Глубже и грознее была другая опасность для пацифистской утопии Александра. Общий мир, говорил один из русских дипломатов, нуждается в опекающей его силе; если не допустить, чтобы этой силой стала демократия, надо взять ее в руки великих держав. Тщетной и бессильной была попытка Александра разрешить неразрешимую задачу: вырвать знамя «свободы, права и справедливости» у сил революционных, сохранить абсолютизм, облекши его господство в формы законности, избежать реакции, подавляя самочинные проявления общественного движения. Неустойчивой оказывалась новая система международных отношений из-за не разрешенных, а только прикрытых ею державных антагонизмов, но она поддерживалась не столько потребностью сохранить внешний мир после стольких лет изнурительных войн, сколько страхом власть имущих перед смятым временно, но не угасшим стремлением общественных сил к свободной самодеятельности. В Англии, стране относительно зрелого промышленного капитализма и нараставшего рабочего движения, парламентарный строй государственной власти обеспечивал буржуазии иные пути к завершению своего преобладания над пережитками феодально-аристократических сил; ее представитель Кэстлри возражал против рискованной политики союза правительств для подавления народов, и Меттерних вынужден убедиться, что нечего рассчитывать на участие в активной реакции власти, «столь связанной в своих формах», как английское правительство. На континенте – дело иное. Тут далеко не законченной оказывалась борьба буржуазного либерализма против сил «старого порядка», которые не только упорно отстаивали свои расшатанные, но еще крепкие позиции, но и стремились, в союзе с монархической властью, вернуть утраченное господство. Из государственных деятелей того времени Меттерних всего ярче ощущал подъем революционной волны. Революционный порядок во Франции сломлен коалицией и Реставрацией, но революционный дух лишь усилился, нарастает и распространяется все шире и шире. В борьбе с ним сложилось своеобразное воззрение Меттерниха на всю политическую и общественную жизнь как на арену борьбы двух начал – положительного и отрицательного, охранительного и разрушительного. Подавлять всеми доступными средствами движение, рвущееся к новому, неизвестному, и охранять по мере сил существующий строй – вот и вся программа Меттерниха. Подводя итог своему житейскому опыту, он чувствует себя «подобно человеку, который уцелел бы, стоя на острове во время Всемирного потопа»: вся его работа только в том, чтобы «класть камень на камень и, где можно, стать еще выше», отдалить роковой момент, когда подъем жизненных волн, ему чуждых, захлестнет последнее убежище, вырвет из-под ног последнюю почву. Компромиссы Александра казались ему смешными и жалкими по существу, а на деле – опасной игрой. «То, что я хотел сделать с 1813 г., этот ужасный император Александр всегда портил» – таков его отзыв.
Он сделал то, что хотел, помимо Александра, в 1819 г., знаменитыми Карлсбадскими постановлениями, которые возвели для всей Германии в систему безудержную реакцию.
Таков был ответ Меттерниха на акт Священного союза, только полицейским террором можно если не подавить, то сдерживать жизнь, готовую вырваться из-под опеки «законных» властей. Александру на это нечего было возразить. На русской почве опыт насаждения «начал Священного союза», проделанный его Министерством духовных дел и народного просвещения с целью водворить «постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и властью», привел к тому же результату, что и Карлсбадские постановления Меттерниха, – к разгулу полицейского и цензурного произвола.
Александр сдался не сразу. В инструкциях своим представителям при иностранных державах он продолжает развивать свои излюбленные мысли о том, что «современные правительства вовсе лишены опоры в сочувствии общества, тогда как, напротив, вся их сила должна бы состоять в силе тех либеральных учреждений, какими они предоставят пользоваться своим народам», что «время, в какое мы живем, требует, и требует настоятельно, чтобы правительства, и особенно те, которые прошли через революционные кризисы, сами, по своей воле, приняли на себя обязательство управлять на основаниях, точно определенных, и в формах, твердо установленных». Союз великих держав не может иметь «нелепые интересы неограниченной власти», но для него возможно только отрицательное отношение к политическим нововведениям, которые были бы навязаны правительствам революционным путем или вырваны у их слабости, как вынужденные уступки. Меттерних, не сочувствуя «законным революциям», тем «революциям сверху», о которых Александр отзывался более чем сочувственно, готов был, однако, согласиться, что конституционные реформы, исходящие от самого правительства, «вообще говоря, не оправдывают иностранного вмешательства», тогда как революция «незаконная» вызывает «общую опасность», а потому оправдывает «иностранную интервенцию». Эти утверждения и были приняты на конгрессе в Троппау (октябрь – декабрь 1820 г.), признал их и Александр, настаивая притом, что основанием всей политики союзных правительств должен служить акт Священного союза и что в этом акте надо видеть основание и для вмешательства во внутренние отношения государств, потрясенных смутой. Так свершилась естественная судьба Священного союза. Отпал на деле утопический либерализм Александра, а реальным содержанием «христианской конвенции» стали Карлсбадские постановления. Тщетно протестовал Кэстлри, представитель Англии, против превращения союза в какую-то «общеевропейскую полицию», против «учреждения в Европе своего рода общего правительства с верховной директорией, разрушительной для правильных понятий о суверенности отдельных стран», против опасного отделения правительств от их народов и основания прочности этих правительств на иностранной интервенции. Революции Неаполя и Пьемонта окончательно разбили возможность компромиссной политики в духе Александра, вскрывая противостояние в европейской жизни реакции и революции; испанская революция и греческое восстание выявили общеевропейский характер их борьбы. Конгрессы в Лайбахе (январь – апрель 1821 г.) и Вероне (октябрь 1822 г.) берут на себя определенно роль «директории» той общеевропейской полиции, которую предвидел Кэстлри, и доводят «пентархию» до распада: Англия отреклась от союза, Франция использовала его для своего вмешательства в испанские дела, но не пошла слепо за политикой Меттерниха. В эти годы родилось то разделение Европы на два лагеря, та противоположность тройственного союза старых монархий политике двух конституционных государств, которая определяет европейскую политику 1830-х гг., чтобы затем, когда новые течения охватят всю Западную Европу, создать роковую изоляцию России Николая I.
Александр уже в Троппау приехал сильно изменившимся, готовым подчиниться «консервативной системе» Меттерниха. В интимной беседе с ним он выражал сожаление «обо всем, что говорил и делал между 1815 и 1818 годами», признавал, что Меттерних вернее его судил об «обстоятельствах положения», высказывал готовность исполнять предначертания австрийского премьера. Это была капитуляция идеолога-дилетанта перед политиком-практиком. Но это была также капитуляция русского императора перед австрийским министром. Александр терял силу и возможность противодействовать торжеству австрийской политики в Германии и Италии; под флагом принципиальной защиты «старого порядка» и борьбы с революционным движением Австрия водворяла свою гегемонию в этих странах, парализовала русскую политику в восточном вопросе. Рухнула фантастическая утопия о построении европейской федерации на консервативных началах, рухнула и вся утопическая идеология Александра. Внутренние ее противоречия, противоречия попытки согласовать несогласимые политические принципы и отраженные в них интересы раскрылись с неодолимой силой. Подводя итог положению политического мира после Веронского конгресса в «циркулярной ноте» от 14 декабря 1822 г., Александр признает силу революционного движения, охватившего европейские страны: «Современность происшествий не дозволяет сомневаться в однородстве начал и причин оных», союз монархических правительств должен сосредоточить свои усилия на одной «великой цели»: на защите общими средствами своей власти как «священного залога», в сохранности которого им придется дать отчет потомству; «всякие иные побуждения» надо устранить из их политики.
Революции Неаполя и Испании носили характер военных «пронунциаменто». Революционность регулярных войск производила на Александра, питомца гатчинской школы, особо потрясающее впечатление. В Троппау он получил донесение о беспорядках в лейб-гвардии Семеновском полку, состоявших в массовом протесте солдат против мелочной требовательности и чрезмерной строгости полкового командира. Александр сразу решил, что «не кто иной, как радикалы, устроили все это, чтобы застращать его и принудить вернуться в Петербург», так что даже Меттерниху пришлось возражать, указывая, насколько невероятно, чтобы в России «радикалы» уже могли располагать целыми полками. Однако Александр остался при своем мнении. В письме к Аракчееву он настаивает, что тут было «внушение» со стороны, притом «не военное», он приписывает это «внушение» агитации «тайных обществ, которые, по доказательствам, которые мы имеем, состоят в сообщениях между собой и коим весьма неприятно наше соединение и работы в Троппау». Дело Семеновского полка для Александра – одно из проявлений международной революции, направленной против международного союза «законных» властей. Мнение это поддерживалось сознанием, что протест семеновцев – не случайность, что в его основе – общее осуждение мелочного и жестокого военного режима, распространенное прежде всего в офицерской среде, и влияние на военную среду новых гуманитарно-либеральных веяний, распространенных в обществе. «Заражение умов есть генеральное», – говорил Константин Павлович.
Покаянный тон, каким Александр заговорил с Меттернихом в Троппау, дал естественное выражение отречению его от «заражения умов», поскольку сам он был к нему причастен. В тронной речи при открытии осенью 1820 г. второго польского сейма Александр еще не отрекался от мечты о согласовании либеральных учреждений с полнотой монархической власти на общей консервативной задаче охраны «порядка». Он говорил полякам: «Еще несколько шагов, направленных благоразумием и умеренностью, ознаменованных доверенностью и правотою, и вы достигнете цели моих и ваших надежд», он пока не забросил занятий проектом общеимперской конституции, хотя, видимо, уже без веры в ее осуществимость. Но в той же речи он уже подчеркивает значение конституции как произвольного дара с высоты престола, говорит о «духе зла», который «парит над частью Европы», и предупреждает о необходимости сильных средств для его подавления. Александр уехал, раздраженный проявлением оппозиции против правительственных законопроектов, со словами сейму при его закрытии: «Вы задержали развитие дела восстановления вашей отчизны, на вас ляжет тяжелая ответственность за это», и дал Константину carte blanche в приемах охраны покорности и порядка. На очередь стало не развитие конституционных начал в Польше и в империи, а стремление обезвредить их рядом ограничительных стеснений в царстве Польском с фактическим отказом от мысли дать им применение в общеимперском масштабе. Лично для Александра настало время последнего кризиса; с отречением от общеевропейской роли и от роли преобразователя империи на тех же «европейских» началах, на которых строились все его планы, он теряет почву под ногами. Гаснет в нем сила и охота к жизни.









































