Читать книгу "Российские самодержцы. От основателя династии Романовых царя Михаила до хранителя самодержавных ценностей Николая I"
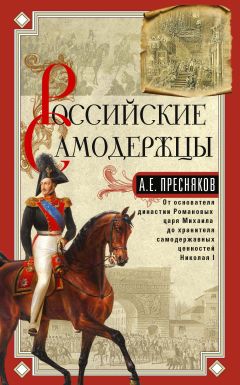
Автор книги: Александр Пресняков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Так, в личной жизни Александра война 1812 г. осталась лишь тягостным эпизодом, о котором он не любил вспоминать. Эпизод кончился. Страна очищена от вражеских сил. Александр свободен от «крайней необходимости»; ему возвращена свобода решений и действий. Он возвращается на прежние пути, с большими возможностями, с большей определенностью. Высшему командованию своей армии он заявляет: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Основной вопрос дальнейшей политики ставится так: «Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать». Эти формулы выношены годами, от них нет отступления. Александр не подчинится впредь национальному движению, поднятому войной. И политика, и армия останутся в его руках. Вожди русского национализма против его планов. Их выразитель – тот же Кутузов, противник войны с Наполеоном до конца, с ним и Аракчеев, и Константин, и Румянцев, и многие, многие другие. По мнению Кутузова, падение Наполеона приведет только к мировому господству Англии, которое будет и для России, и для всего континента еще более невыносимым; остается заключить выгодный мир, за который Наполеон, конечно, заплатит какой угодно ценой. Но Александр пошел своим путем, глубже вникая в строй европейских отношений. «Если хотеть, – говорил он, – мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже».
Теперь он выступит; роль Кутузова кончена. «Отныне, – говорит он, – я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасностям подобного предводительства». Он недоволен армией, растерявшей в походе выправку и дисциплину, приводит ее в прежний порядок муштрой, смотрами и парадами – от Вильны до Парижа, в антрактах боевых действий. Он недоволен ее настроением, ее классовым дворянским духом, который пытается подчинить его политические планы своему националистическому патриотизму, неразлучному с землевладельческими притязаниями. Предположения, выдвинутые Кутузовым, о награждении русских генералов и офицеров за отличия в войне 1812 г. землями литовских и белорусских помещиков, ставших в ряды польских легионов Наполеона, парализованы общей амнистией полякам Западного края, принявшим сторону неприятеля. Для великой борьбы и будущего переустройства Европы Александр ищет более широких оснований, чем русское господство. Ему надо увлечь на свою сторону местные общественные силы. А всюду еще ждали, что Наполеон вернется. Уверены были в этом и на Литве, и во всем Западном крае, где в ополяченной помещичьей среде тяга на французскую сторону и враждебность России были даже сильнее, чем в самом герцогстве Варшавском. Александр думает переломить этот антагонизм созданием Польского королевства, связанного с Россией и построенного из земель бывшей Речи Посполитой, которые у него в руках после оккупации герцогства: это по объему до 9/10 ее территории, и для него все это – бывшая Польша; национальный вопрос сводится, по его разумению, к настроениям политически активных, господствующих классов. Ему важно добиться, чтобы Россия получила Варшавское герцогство в силу международного договора, а там, поясняет он Чарторыйскому, он без затруднения выполнит остальное властью, какой у себя обладает, как сделал он и с Финляндией: присоединил к ней «старую Финляндию» и дал конституцию. Но подобные проекты – предмет сложной борьбы. Среди русских большинство против них: «Пусть, говорят, Александр царствует в Польше, если хочет вернуть полякам королевство»; великий князь Константин и почти весь военный и гражданский генералитет настаивает на прямой инкорпорации герцогства как русской губернии и на захвате от Пруссии земель до Вислы. Против польских планов Александра – и его союзники, члены возобновляемой коалиции, правительства Англии, Пруссии, Австрии. Эта коалиция вообще налаживается на первых порах с трудом и большими колебаниями: много опаски и недоверия правительств друг к другу, особенно – к России. Притом и в Пруссии, и в Австрии настроение власть имущих еще глубже расходится с настроениями армии и населения, чем это было в России 1812 г. Общественные настроения эти – главный союзник Александра в освободительной борьбе против Наполеона и французов; их сила увлечет правительство, сплотит коалицию, даст Александру почву для широкой общеевропейской роли. Однако в подобном союзе русского самодержца с европейским освободительным движением много двусмысленности, которая раскрывается шаг за шагом и ведет Александра к неизбежному крушению его идеологии, его личного дела, его индивидуального самочувствия.
Польский вопрос – главное препятствие в союзе трех континентальных держав; а польские планы Александра известны и в Вене, и в Берлине, так как его переписка с Чарторыйским была перехвачена. Но едва ли меньшие опасения внушает союзникам деятельность Штейна, не только советника Александра по германским делам, но и полномочного представителя его политики. Этот крупный государственный деятель, великий патриот своего германского отечества, преобразователь Пруссии, заложивший основы ее возрождения после пережитого разгрома, связал свои обширные планы освобождения и возрождения всей Германии с деятельной ролью России в европейских делах. Начатое Россией дело национального освобождения от ига Наполеона должно охватить всю Европу. Цель Штейна – поднять, опираясь на русские силы, такое же национальное восстание в Германии, какое встретило Наполеона в Испании, и в общем порыве разрушить устарелые формы дробной политической организации и на их развалинах создать единую и сильную Германию. В таком деле нечего считаться с существующими немецкими правительствами: Штейн не скрывает враждебного пренебрежения к ним. Александр не поддавался таким планам; объединение Германии в подъеме не только освободительной борьбы против французской гегемонии, но и национального движения, революционно сокрушающего существующие правительства, весьма далеко от его желаний. Штейн – ценное орудие для организации европейской борьбы и для давления на колеблющиеся правительства, не более того. Когда Йорк, командовавший прусской армией на восточной границе, самовольно вошел в союз с русскими, не дождавшись решения своего короля и вопреки его колебаниям, Штейн является в Восточной Пруссии с полномочиями от Александра, чтобы организовать тут управление, мобилизацию ополчения, всего, что нужно для освободительной войны. Успокоительные заверения Александра, что не в его намерениях подрывать дисциплину прусских владений, могли ли снять тревогу о дальнейшей судьбе этих земель – давнего объекта и русских, и польских притязаний? Ведь было известно, что Александр думает о пересмотре территориальных владений и границ со сложной системой компенсаций. Когда же прусский король заключил, наконец, в феврале 1813 г. союзный трактат с Александром в Калише, он этим восстановил свое значение самостоятельного и державного члена коалиции, но для управления другими немецкими государствами, по мере их изъятия из-под власти Наполеона, организован временный правительственный совет из четырех членов: двух – по назначению прусского короля и двух – по назначению Александра (Кочубей и Штейн).
Порядки государственного территориального властвования в Западной Европе были настолько сбиты и подорваны бурной деятельностью Наполеона, что почва казалась в значительной степени расчищенной для различных новообразований. Предположения, проекты предварительных соглашений, переговоры о будущих судьбах Европы, насыщенные соперничеством, смелыми притязаниями, взаимным недоверием и интригами из-за грядущего дележа, идут непрерывно между европейскими державами со времени первой антифранцузской коалиции. Простой возврат к прежнему положению дел был невозможен, да и не желала его ни одна из крупных держав. На смену Наполеону поднимались другие силы, готовые по-своему поделить его наследство. И крупнейшим наследником, для других опасным, казался Александр – и в Берлине, и в Вене, и в Лондоне. Приемы его политики, его воззвания, его планы и проекты напоминали европейское хозяйничанье Наполеона. Нарастала в реакционных кругах и в напуганных правящих группах тревожная легенда об ужасном сговоре русского самодержца с европейскими якобинцами для замены диктатуры Наполеона такой же диктатурой Александра: Александр, действительно, популярен в патриотических и либеральных кругах, окружен приветами общественных масс как «освободитель». Александр, искусный дипломат, ловко лавирует между разными течениями и настроениями, которые надо обезопасить, согласовать и использовать для «общего дела». Но, по существу, коалицию сплотила проявленная Наполеоном сила сопротивления, его новые победы, бесплодные, но грозные. Все соперничества, все притязания на время отложены для объединения в последнем усилии. Лейпцигская битва, наступление в пределах Франции, вступление в Париж – конец «великой эпопеи», ее финал, режиссером которого был, несомненно, Александр, прошедший к конечному итогу через ряд сложных препятствий и больших напряжений. Отречение Наполеона и восстановление монархии Бурбонов казались заключением великой драмы. И тотчас все «объединение Европы» повисло на волоске. Первый опыт конгресса для ликвидации великого наследства чуть не привел к новой европейской войне трех держав – Австрии, Франции и Англии – против двух – России и Пруссии – по вопросу о Польше и Саксонии. Проекты Александра оказались взрывной миной, заложенной под еле намеченное здание европейского мира. Наполеон и на этот раз спас положение своим возвращением с острова Эльбы и восстановлением французской империи на сто дней. Силы, готовые к междоусобию, снова сплотились, чтобы окончательно свалить грозного колосса, каким еще оставался «маленький капрал». Только замуровав его на острове Святой Елены, Европа смогла заняться своими делами. Но эпизод «ста дней» имел и другой еще смысл. Показал, какими опасностями грозит, по крайней мере на французской почве, безудержная реакция, не желающая и не способная считаться с безвозвратным банкротством «старого порядка». В этом новом уроке истории Александр нашел опору для своей политики преодоления непримиримых противоречий в компромиссе всеобщего мира, и внутреннего, государственно-полицейского, и внешнего, международного, – пока его самого не разбило крушение всей им созидаемой системы.
VI. «Император Европы»
Наполеон, заново переживая былые деяния свои на глухом островке в дальних водах Атлантики, подвел им итог в широкой мысли о будущих судьбах Европы. Его целью, так пояснял он своему секретарю Лас Казу, было сконцентрировать народные массы Европы, искусственно разделенные на множество политических единиц, и составить из крупных наций европейскую федерацию, с общим конгрессом, по американскому образцу или по типу древнегреческой амфиктионии, для решения общих дел и охраны общего благосостояния. Эта европейская федерация была бы объединена не только внешними, политическими связями, но также «единством кодексов, принципов, воззрений, чувств и интересов», единством правового строя и духовной культуры. Он высказывал при этом уверенность, что рано или поздно такая организация Европы возникнет «силой обстоятельств». «Толчок дан, – говорил он, – и я не думаю, чтобы после моего падения и крушения моей системы могло существовать иное равновесие Европы вне концентрации и конфедерации крупных наций». А Чарторыйский еще в 1806 г. характеризовал политические планы Наполеона как «федеративную систему, сторонником которой он себя провозглашает с некоторых пор и которая превращает его союзников в вассалов Франции, так что образует одну огромную империю, будущие размеры которой никто не в состоянии пока определить». Эта «великая федерация» под военной диктатурой Бонапарта должна была получить прочную спайку однообразной организацией управления, господством эгалитарно-индивидуалистического права французского гражданского кодекса, единством экономической политики в пределах континентальной системы и повсеместным распространением рационального просвещения французского типа. В характерном для него сознании своей зависимости от хода самой жизни и создаваемой ею «конъюнктуры обстоятельств», которую было бы безумно «скручивать» (tordre) применительно к построенной системе, Наполеон переживал свои стремления как отклик деятельной воли на объективное течение событий, свои планы, как осмысление его основных тенденций. Быть может, дальнозоркий видел слишком даль будущего, быть может, утопичной была не эта отдаленная перспектива. Но несомненной утопией было представление о путях и средствах достижения конечной цели, о ее близости и о тех основах, на которых ему мыслилась «европейская федерация». На деле это была федерация под диктатурой, административное, экономическое, культурное объединение под господством французских властей, интересов французской промышленности и торговли, даже французской школьной системы и французской цензуры.
Наполеон сильно преувеличивал устойчивость заложенных им основ. Не он, впрочем, один. Широкие общественные круги и выдающиеся общественные деятели ожидали всеобъемлющего преобразования европейской политической системы, прочных гарантий общего мира, – чуть не «возвращения золотого века», по ироническому замечанию цинично-умного Фридриха Гентца, меттерниховского сотрудника по части сокрушения таких иллюзий. Однако и Гентц полагал, что постановления Венского конгресса имеют значение для подготовки мира к более совершенной политической организации.
Венский конгресс принес много разочарований. 9 июля 1815 г. подписан его заключительный акт, которым закреплены разные реставрации и переделы, плод деловых соглашений между великими державами, беспринципные итоги «трезвой» политики, одинаково свободной и от романтического увлечения феодальной стариной, и от новых идей политического либерализма или национальных самоопределений.
Александр не мог принять Венских трактатов за подлинную основу нового устройства Европы. Это для него – только внешние, условные соглашения. Он ищет, по-своему, пути к устойчивому объединению Европы – на иных, однако, основах, чем те, какие рисовались воображению Наполеона. Те, французские основы, наследие революции и орудие Наполеона, сулят миру новые потрясения и должны быть подавлены. Союз великих держав скрепляется заново парижским договором 20 ноября 1815 г. для этой цели. Дело коалиции еще не исчерпано, так как, по мысли этого трактата, «пагубные революционные правила, кои способствовали успеху в последней преступной узурпации, могут снова под другим видом возмутить спокойствие Франции, а через то угрожать и спокойствию прочих держав»; поэтому четыре коалиционные державы решили не только немедленно условиться о мерах для охраны «общего спокойствия Европы», но и согласились возобновлять в определенные сроки совещания или самих государей, или полномочных министров о «важнейших общих интересах» и мерах, какие признаны будут нужными для «охраны спокойствия и благоденствия народов и мира всей Европы». Франция взята была под строгий и бдительный надзор. Оккупационная армия держала ее под стражей, конференция иностранных послов в Париже следила за действиями правительства Людовика XVIII и ходом французской общественной жизни, обращалась к его министрам с советами и указаниями, настойчиво и требовательно. Задача была в том, чтобы укрепить во Франции «порядок», обеспеченный строем конституционной монархии. Для Александра тут – испытание консервативной силы законно-свободных учреждений: сдержать обе крайности – разгул реакции и новый взрыв революции, – наладить мирное существование буржуазной монархии – такова программа. Александр хотел бы придать ей общий, европейский характер, значение основы для замирения взбаламученных национальных и социальных страстей. Проявления резкой, непримиримой реакции, которые все нарастают и во Франции, и в других странах, представляются ему не менее опасными для мира всего мира, чем выступление революционных сил. Он ищет компромисса в умеренном монархическом либерализме «октроированной» хартии, в половинчатом конституционализме, понятом как прием монархического управления.
К этому времени слагается у Александра свое особое представление и о той духовной основе, которая должна сменить традиции Великой революции иной культурной атмосферой, иным мировоззрением, господство которого обеспечит мирное и властям покорное состояние общества. Буржуазный либерализм сходился с реакционным клерикализмом в отрицании принципов революции, хотя и по разным основаниям. Если для де Местра в этих принципах проявляется дух сатанинский, то для Бентама они – ложные выводы из ошибочных предпосылок. Но не эти отрицания – романские и английские – дали новую опору идеологии Александра, а немецкий романтизм в его политическом применении, в том возрождении средневековых понятий о государстве, которое, несколько позднее, нашло себе законченное выражение в политических теориях Лудвига Галлера и Адама Мюллера. Еще ранее союзного трактата – именно в сентябре 1815 г. – Александр подписал вместе с австрийским императором и прусским королем знаменитый «Акт Священного союза». Этот акт выражал «непоколебимую решимость» участников союза руководствоваться в управлении государствами и в международных отношениях заповедями святой веры, «вечным законом Бога Спасителя», так как применение этих заповедей отнюдь не должно ограничиваться частной жизнью, а, напротив, должны они «непосредственно управлять волею царей» и всеми их деяниями. Таков принцип, в котором – единственное средство утвердить «человеческие постановления» на прочном основании и «восполнить их несовершенства». Примкнувшие к союзу монархи будут впредь «соединены узами действительного и неразрывного братства», признавая себя «как бы единоземцами», а своих подданных – «как бы членами единого народа христианского». А внутри своих владений государи будут управлять «подданными и войсками своими», как «отцы семейств». А этим подвластным, так характерно поделенным на подданных и армию, рекомендуется «с нежнейшим попечением» одно: «Со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей»; деятельно упражняться в исполнении обязанностей, «преподанных Божественным Спасителем», чтобы наслаждаться миром, который создается доброй совестью и один только прочен.
Этот акт вызвал своим странным стилем и необычным содержанием немало недоумений. Кто отнесся к нему как к бессодержательной болтовне (таково было первое впечатление, например, Меттерниха), а кто – и с большой опаской. В нем увидали попытку возродить старинную идею союза всех сил христианской Европы против мусульманского Востока, прямую угрозу Турции, тем более что Александр возбуждал на Венском конгрессе вопрос о вмешательстве европейских держав на защиту христианских подданных султана, особенно сербов, от «турецких зверств» во имя «священного закона» – этого палладиума политического порядка, во имя которого «вожди европейской семьи» постановили отмену торговли неграми и борьбу с ней всеми международными силами. Пришлось Александру официально разъяснять, что акт Священного союза чужд агрессивных задач. Ближе к реальному содержанию этого акта было опасение, что в нем звучит прямая угроза для стремления народов к национальному самоопределению, так жестоко поруганному в постановлениях Венского конгресса, и для всяких порывов к политической свободе, которым тут противопоставлялась патриархальная власть монархов. Действительно, отрицание национального принципа выдержано тут весьма определенно: акт Священного союза знает только одну нацию – «христианскую», он по идее своей космополитичен на религиозной основе. Столь же определенно отрицание общественной самодеятельности и политической активности населения: в составе «христианской» нации он видит только носителей власти и их подданных, вне «частной жизни» признает только «волю царей».
Акт Священного союза написан рукой Александра и получил некоторое значение только благодаря ему, как его личное дело. Поэтому естественно, что и объяснить этот акт пытаются из личных настроений Александра, причем его содержание представляется обычно настолько противоречащим всему воспитанию Александра и всему его мировоззрению молодых лет, что тут находят черты какого-то перелома во всей его психике. Чтобы иметь какой-нибудь опорный пункт при решении вопроса о том, как это воспитанник Лагарпа стал «мистиком», приводят рассказ о том, что осенью 1812 г. императрица Елизавета Алексеевна впервые дала ему в руки Библию, в текстах которой он стал искать утешения от тяжелых переживаний, особое значение придают его мистическому флирту с баронессой Крюднер, которая выступает его нимфой Эгерией, вдохновительницей Священного союза и т. п. Во всем этом много любопытного для подробной личной биографии Александра. Но типические черты его деятельности и его воззрений едва ли выяснимы анекдотическим методом, а натура Александра, способная к большим колебаниям, едва ли обладала той мощной цельностью переживаний и глубиной увлечений, какая необходима, как психологическая предпосылка, для внезапных и потрясающих коренных перерождений всего мировоззрения и мироощущения. Во всяком случае, исторически существенно отметить прецеденты той идеологи – церковно-политической и теоретической, – которая отразилась в акте Священного союза. А таких прецедентов было немало и на русской почве. Их влияние подготовило Александра к тому направлению мысли, которое оформилось в нем под воздействием немецкой реакционно-пиетической атмосферы, столь сильной в близком ему Берлине.
Не следует прежде всего упускать из виду, что акт Священного союза был политическим манифестом и что Александр был прежде всего политиком, чьи религиозные «искания» неотделимы от политических планов. Весь так называемый «мистицизм» Александра сложился в обстановке сложной политической борьбы, и, каковы бы ни были его личные, интимные переживания, их направление и результаты определялись, по существу, условиями политического момента, которыми ему необходимо было овладеть.
Представление о религии как одном из орудий властвования над общественной массой, о церковной организации как органе государства в управлении страной унаследовано им от XVIII в. Такое назначение церкви в государстве получило твердую постановку в синодальной реформе Петра Великого, который, в значительной мере под прямым влиянием протестантских воззрений на роль светской власти в религиозном быту населения, окончательно ввел церковное управление в ряд правительственных учреждений империи. А эта петровская церковная реформа получила полное свое развитие именно в начале царствования Александра I, с тех пор как он назначил своего статс-секретаря князя А.Н. Голицына на должность синодального обер-прокурора и сделал его своим докладчиком по церковным делам. «Царский наперсник» – вопияли тогда церковные иерархи – стал править всеми делами церкви, и «все утихло, а дух монарха водворится в Синоде». Александр обсуждал с Голицыным и Сперанским планы коренных преобразований в Русской церкви, с целью поднять положение белого духовенства, освободить его от зависимости по отношению к прихожанам, поднять его материальное обеспечение и уровень его образования. Реформа духовных училищ проведена Голицыным и Сперанским вне влияния Синода, а заведование ими возложено на особую комиссию; состав самого Синода определялся очередными вызовами архиереев, по представлениям обер-прокурора, т. е. в полной зависимости от него. Бюрократизация церковного управления захватила не только «ведомство православной церкви», но также «инославных» – с учреждением в 1810 г. главного управления духовных дел иностранных исповеданий, под ведением того же обер-прокурора. Это делало его органом государственного управления не только господствующей церковью, русской и православной, но религиозным бытом населения вообще. Так еще в первой половине царствования Александра были заложены основы всей его дальнейшей церковной политики. Принцип этой политики – вероисповедный индифферентизм государства. Его крайним организационным выражением явилось учреждение в 1817 г. Министерства духовных дел и народного просвещения (в соответствии такому же министерству царства Польского), первый департамент которого делился на 4 отделения: 1) по делам греко-российского исповедания; 2) по делам исповеданий римско-католического, греко-униатского и армяно-григорианского; 3) по делам всех протестантских исповеданий и 4) по делам еврейским, магометанским и всех прочих нехристианских религий.
Вероисповедный индифферентизм был, прежде всего, принципом полицейского государства. Власти просвещенного абсолютизма, подчиняя себе организацию всего быта подчиненного населения, в частности и народного просвещения, видели в разноголосице исповеданий лишь досадное препятствие для планомерного воспитания общества согласно своим предначертаниям, а в их суетливых раздорах – ненужное и вредное нарушение общего успокоения на полной покорности государству. Но дело не только в этом. В духовной культуре русского общества накопилось к началу XIX в. немало веяний, которые вели к тому же результату. Рационализм с его учением о «естественной» религии, единой в основе для всего человечества, и с его преодолением теизма в пользу отвлеченного философского деизма сходился с реакцией в пользу прав «чувства и веры» и с масонством, искавшим самоусовершенствования «на стезях христианского нравоучения», но при освобождении людей «от предрассудков их родины и религиозных заблуждений их предков», от фанатизма и суеверия, от всех причин международной вражды, какие мешают слиянию человечества в «одно семейство братьев, связанных узами любви, познания и труда».
Александр вырос в атмосфере не только екатерининского двора, вольнодумного и рационалистического, но и гатчинского дворца, с его симпатиями к масонству, его немецкой, не чуждой пиетизма закваской. Его друг А.Н. Голицын, ставший из светского вольнодумца религиозным человеком в годы своего обер-прокурорства, однако, не втянулся в православную церковность, но признавал, что все исповедания, все религии и секты – «явления одного и того же духа Христова».
Характер того религиозного просвещения, которое Александр готов был признать основой желательной для него общественности, хорошо выражало Библейское общество – международная организация для распространения Священного Писания. В январе 1813 г. отделение этого общества открыто в Петербурге и затем развернуло свою деятельность по провинции. Показательны для него и состав первого собрания, и определение его назначения. Для общего религиозно-просветительного дела сошлись в доме А.Н. Голицына: два православных иерарха, ректор духовной академии, духовный цензор, католический митрополит, три пастора и несколько светских лиц, а задачу свою – распространение Библии – они поясняли тем, что в чтении этого Священного Писания «подданные научаются познавать свои обязанности к Богу, государю и ближнему, а мир и любовь царствуют тогда между вышними и нижними». Это не было списано с акта Священного союза, а ему предшествовало почти на год.
Существенно также вспомнить, что сохранился документ, собственноручно писанный Александром еще в 1812 г., если не ранее, свидетельствующий о весьма отчетливом и продуманном его знакомстве с мистической литературой. Это – записка «О мистической словесности», составленная им для сестры, Екатерины Павловны. Тут писания мистиков, литература «внутренней церкви», распределены на три разряда, по степени перевеса в них «отвлеченных теорий» или практического нравоучения, с решительным предпочтением тех, которые, не предаваясь никаким теориям, занимаются единственно «нравственным образованием». Явно, что Александр немного нового мог узнать из общения с баронессой Крюденер и другими адептами мистических учений. Он вступил в 1813 г. на европейскую сцену с достаточно определенным отношением к тем религиозным течениям, какие его там встретили. Где же источник такой осведомленности Александра в мистической литературе? Вспомним, что это – та самая литература, изучением которой занят с 1804 по 1810 г. Сперанский, пользуясь библиографическими указаниями Лабзина, притом в тех же французских переводах, какие известны Александру. Вспомним, что это – годы близости Александра со Сперанским, их долгие беседы над прочитанными книгами, и трудно будет допустить, чтобы такое совпадение было случайным. Самое отношение записки Александра к разным авторам-мистикам с уклоном от подлинного мистицизма к практическому нравоучению, как и методичность классификации, живо напоминает манеру Сперанского, тот рационализм, ту систематичность и ту логическую отчетливость, которые он вносил всюду, в том числе и в свои занятия мистической литературой. Не мистика в точном смысле привлекала обоих, а религиозно-нравственная основа этой литературы, причем Сперанский, прочитав в ссылке акт Священного союза, узнал в нем осуществление своего давнего «мечтания о возможности усовершенствования правительства и о приложении учения Богочеловека к делам общества», мечтания, эпоху приложения которой он считал «еще всегда отдаленной»[6]6
Ср.: Пресняков А.Е. Идеология Священного союза // Анналы. Пг., 1923. № 3. С. 72–81. В письме к Р.А. Кошелеву, масону, Александр упоминает (в январе 1813 г.), что он уже несколько лет ищет пути, на который вступил, и их «духовные» беседы относятся, по меньшей мере, к началу 1811 г.
[Закрыть].
Подчиняя крепче прежнего Русскую церковь своей правительственной власти и сооружая в то же время широкую систему правительственных учебных заведений, Александр приобретал два крупнейших орудия для укрепления одной из основ «силы правительства» – воспитания «в своих видах» русского общества. В эпоху первых своих исканий на путях к широким преобразованиям он увлекся было пропагандой тех либеральных идей, какими сам был занят, но разочарование в возможности разыграть роль самодержца-благодетеля, который ведет подвластное население к общему благу по своей мысли, при сознательном сочувствии подданных, пробудило иные инстинкты самодержца, стремление к переработке общественных воззрений и настроений, «согласно с видами правительства», принимает совсем иной уклад. К вольнодумному рационализму XVIII в. Александр усвоил и сохранил отрицательное отношение с юных лет, с ним он связывал ту распущенность, которую так жестко осуждал в екатерининском обществе. Это суждение он сохраняет и позднее, по адресу русского высшего дворянства. «К сожалению, – говорил он в 1812 г., – лишь немногие из окружающих меня лиц получили надлежащее воспитание и отличаются твердыми правилами, двор моей бабки испортил воспитание во всей империи, ограничив его изучением французского языка, французского ветрогонства и пороков и, в особенности, азартных игр». Светская дворянская культура, русско-французская, представлялась ему в лучшем случае пустой, в худшем – опасной и в обоих – развращенной до корня. Но не менее чужд ему русский консерватизм – националистический, дворянский, православно-церковный, как и на Западе ему чужды реакционный аристократизм и католический клерикализм роялистских кругов Парижа и Вены. Зато крепки его прусские симпатии – в прусской дисциплине, в аполитизме пиетистических кругов немецкого мещанства, в монархизме протестантского юнкерства находит он отражение тех устоев «порядка» и «мирного благополучия», каких ищет.









































