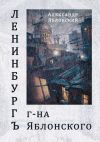Текст книги "Абраша"
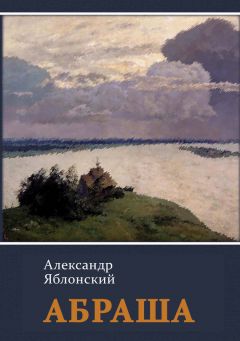
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Хорошо, Райзмана и прочих Дзержинских с «Тихим Доном» могу понять – таланта нет, так хоть гибкой поясницей надо брать. Ну а читатели, миллионы читателей – кто? Им сталинских премий не навешают за прочтение, просмотр всей этой макулатуры, а если решат превратить в лагерную пыль, то библиотека из одних бабаевских, вишневских и прочих безыменских не поможет. Это нравится, это соответствует потребностям большинства. В стране Гончарова и Тургенева! Но что самое важное – деградация нации прогрессирует, коль скоро всё это не только терпят, но востребуют. Помяни мое слово: лет через двадцать будут вспоминать всех этих жополизов…
– Саня!
… антисемитов, бездарей, как сегодня вспоминают «Поднятую целину»…
– Не думаю. Всё развивается по синусоиде. И после провала будет взлет, и после михалковых с треневыми будет новый Блок и новый Чехов.
– Михалков, к слову, не самый бесталанный.
– Это точно, только нельзя душу дьяволу продавать. Это аукается. Потом есть один неоспоримый закон – настоящий большой художник не может быть циником. Как бы Эйзенштейн ни прославлял Октябрь, он был искренен, он верил в Великую Утопию – в нее многие верили в двадцатых. Поэтому и создал шедевр. И Михалков, не ко сну будет сказано, начинал – талантливо, вровень, если не посильнее Корнея Ивановича или Самуила Яковлевича. Тогда он не был циником, тогда он только готовился им стать, дозревал, так сказать. Он им стал позже – и тут же кончился как творческая личность. Это – закон. Не он первый, не он последний. Уж лучше бездарью быть, чем талант профукать.
– Ты хотела сказать…
– Что хотела, то и сказала. Даже не профукать, а обменять на возможность барскую руку облобызать и понежиться в дарах этой руки. Для раба – счастье быть обласканным хозяином и счастье верить в искренность своего рабского восторга…
– А по поводу синусоиды ты права. Только вопрос в том, какова амплитуда этой синусоиды: десятилетия или столетия. Ты мыслишь короткими периодами: Чехов – пара десятилетий и Всеволод Вишневский – ещё лет двадцать – новый Пушкин. Нет, так не бывает – столетиями шла Россия к Пушкину и Гоголю. И столетие этот взлет продолжался – до Серебряного века, даже до Шолохова, коль скоро вспомнили этого пьяницу: «Тихий Дон», даже если его Шолохов написал – шедевр. И спад будет долгим. Не одно десятилетие. Нет, гении будут, как они есть и сейчас – живут же в одно время с холуями и, наверное, творят: и Пастернак, и Ахматова, но не они определяют эпоху. Даже не Твардовский.
– Поверь, как только рухнет этот маразм, сгинут твои парфеновы, сафроновы и михалковы.
– Никогда не рухнет, и никогда не сгинут. Это судьба наша и детей наших, и внуков. Только на смену тем, кто имел хоть зачатки таланта, придут те, кому и продавать-то дьяволу будет нечего – похуже Сурова с Бубенновым.
Вечерами мама с папой обсуждали предстоящую подписку, и Кока слышал новые заманчивые имена:
– Брет Гарта надо брать обязательно.
– Но к нему в нагрузку Парфенов. Всего шесть томов.
– Ничего, осилим. Не так много, это тебе не Леонов – всю антресоль занял.
– Потом будет Купер.
– Приложение к «Огоньку?
– А к Куперу – Фурманова присобачат, Шагинян или Горбатова какого-нибудь?
– Сань, мы столько пережили, переживем и это…
«За людей нас не считали, но явился тут Фидель»… Николенька панически испугался: со следующим звуком Эля опять прижмется к нему и почувствует, что происходит с ним, вернее с его «мужским достоинством», которое внезапно рванулось прочь из отведенного ему брючного пространства и было готово преодолеть любое ограничение, любое препятствие… Слава Богу, зашкафное пространство в этот миг было занято его мамой и Герой, и Кока избежал этого позора. Он заметил, что Гера прижимает маму к себе, мама не отталкивает его, но обнимает за шею и рука спортсмена опускается всё ниже и ниже маминой талии. В этот момент песня про лидера кубинской революции закончилась, включили свет, и он увидел папино лицо – взгляд у папы был отрешен, печален, безнадежен. Он смотрел на оплавленные свечи, на синий дымок, неспешно поднимавшийся от погасших свечей, и, казалось, всё происходящее вокруг его не интересует и не волнует. Потом зазвучало что-то быстрое, Кока прыгал – танцевал с мамой, потом Гера с Элей ушли, и они опять остались своей семьей и приступили к раздаче подарков.
Николенька получил белую нейлоновую рубашку. Причем «Made in Poland». Он давно мечтал о ней, и не мог поверить, что теперь он обладает этим сокровищем – немнущимся, легко стирающимся и таким модным. Маме достались любимые духи «Красная Москва» – папа всегда дарил маме этот подарок, а папе – свитер – белый толстый со стоячим воротником. Коке и папе сначала показалось, что это покупной импортный свитер, но потом оказалось, что его связала мама. Тайком. Папа очень обрадовался и сразу же надел его.
– Тебе очень идет.
– Ты угадала: он мне пригодится, – папа вдруг посерьезнел и опять уставился на голубые дымки погасших свечей, печально струившихся к потолку.
– Конечно, пригодится. Я специально старалась, чтобы тебе тепло было, особенно зимой.
– Да я не об этом.
– Сань, перестань. Всё обойдется.
Это был особенный Новый год. В этом году в последний раз к ним приехал из Москвы дядя Сережа. Это был последний Новый год, который они встречали втроем: мама, папа и Николенька.
* * *
Долгое время Сергачев не понимал слов Кострюшкина о том, что «антисоветчина – не самый страшный зверь, не самый главный враг». Для чего, собственно, тогда существует такая мощная организация, с такой отлаженной всепроникающей и всеконтролирующей системой, с таким самым совершенным в мире аппаратом подавления, самыми современными средствами слежения, информации, дознания, изоляции, перевоспитания и наказания, с таким богатым и славным опытом, с такими отборными штатными кадрами и такой многомиллионной сетью преданных негласных сотрудников как в СССР, так и за рубежом, с такой завораживающей репутацией во всем мире? Впрочем, с самого начала своей новой – осмысленной жизни Николай чувствовал, что самоценность Ордена Меченосцев, как выразился когда-то полковник, для него значительно важнее, нежели то, ради чего он – этот Орден – существует, что всегда влекла его именно эта гипнотизирующая сила, притягивает его и делает жизнь наполненной возвышенным содержанием это несокрушимое братство людей, объединенных общим знанием сокрытых для других смертных истин, единством мыслей, воль, поступков, устремлений, незыблемым законом взаимной выручки и поддержки. Сегодня все эти лучшие качества служат одной цели, завтра цель может поменяться, но любая цель – будь то защита социалистического строя или какого другого, этих или каких других, чуть измененных границ, той или иной идеологии, того или иного правительства или партии – всё это есть не цель, а средство, служащее высшей цели – укреплению могущества Ордена, оттачиванию каждой его детальки, совершенствованию мастерства каждого рыцаря, укреплению его традиций и законов.
Эти и подобные настроения смутно бродили в душе Николая, не воплощаясь в конкретное или даже приблизительное словесное оформление. Часто он гнал от себя подобные мысли, вернее – их предвестников, их предчувствия, но они крутились в голове, созревали, ждали малейшего толчка, чтобы отлиться в чеканную формулировку. Подобным толком послужила чуть слышная реплика Кострюшкина во время случайного разговора.
Было начало апреля, снег сошел в том году рано, почки только начинали набухать, но грачи уже осваивались в своих привычных, хотя и промерзших за зиму квартирах, совсем недавно грозно нависавшие массивные сосульки вдруг слились в сверкающие на ярком солнце гирлянды игривой весенней воды, небо смахнуло с города унылую серую пелену и залило слепящей синевой, от которой он проснулся – заблестел иглой Петропавловки, куполом Исаакия, зеркалом прозрачных луж на еще пустынных мостовых, зацокал каблучками дамских туфель, засеребрился детскими голосами, заговорил, засмеялся, зазвенел… Они вышли из серого мрачного здания и на секунду ослепли, зажмурились, прикрывая ладонями глаза, стояли, привыкая к неожиданному буйству света, затем, не сговариваясь, сняли свои головные уборы: Николай – новую фетровую шляпу, полковник – ношеную серую кепку – и, подставляя серые уставшие лица ласковому апрельскому солнцу, пошли, не торопясь, с наслаждением вдыхая вкусный воздух, наполненный ароматами талого снега, теплого подсыхающего асфальта, свежего хлеба… Обогнув массивный гранитный цокольный этаж Большого дома, они прошли через проходной двор с Каляева на Чайковского, а затем по переулку к «Спартаку» – там часть экранного времени отводилась «Повторному фильму», и Кострюшкин иногда выкраивал время, чтобы сходить на какой-нибудь старый фильм. Они постояли около сводной афиши, полковник записал на клочке бумаги: «“Мост Ватерлоо” – среда 20:45». – «Обожаю этот фильм»! Затем прошлись мимо Спасо-Преображенского собора – казалось, что вся малышня Дзержинского района высыпала на прицерковную площадку, облепила мощные жерла трофейных пушек, взятых в турецкую кампанию, установленных дулами вниз, повисла на мощных цепях, соединяющих эти пушки. – «Вот и борись с религиозным дурманом», – беззлобно пошутил Сергачев, и Кострюшкин, улыбаясь, кивнул. Потом мимо Дома Мурузи и детского садика по улице Короленко и Артиллерийскому переулку они вышли к кафе «Уют»: «Кофейку не хотите, угощаю», – предложил Сергачев, но Кострюшкин отказался: «Не хватает, чтобы вы меня угощали. Да я и не пью кофе – давление… Привык к чаю. Это у меня семейное. Дед когда-то чаем торговал. До революции. Спасибо…»
Говорили о всяком, даже не говорили – расслабленно болтали, отключаясь от постоянного служебного напряжения. Сергачев, между прочим, заметил, что анекдоты про Генсека растут, как грибы, и ничего с этим сделать нельзя, не получается, одного возьмут, два других юмориста появятся. Кострюшкин лишь махнул рукой: «Не умеют у нас люди на покой вовремя уходить, не научились еще… И не научатся. Страшно… Да и не отпустят». Потом шли молча, пока Кострюшкин не обронил вполголоса – скрежетал трамвай, поворачивая с Литейного на Некрасова, приходилось кричать, чтобы услышать друг друга, но он почти прошептал: «Они уйдут, а мы останемся». Николай не ответил, сделал вид, что не расслышал, но Кострюшкин знал – расслышал, и Николай знал, что Сократыч знает… Он всё знает.
Другой и самый важный – поворотный в профессиональной судьбе Николая – разговор состоялся тоже на улице – на Литейном, 4, на эти темы не говорили. Сидели они на скамеечке около памятника Петру у Инженерного замка – «Прадеду от правнука». Была осень, и дни стояли сухие, солнечные, ясные. Листья только начинали свое неспешное кружение, и багрянец лишь робко проступал сквозь обреченно потемневшую зелень. Кострюшкин рассказывал о своих принципах вербовки нужных людей – потенциальных негласных сотрудников, о годами наработанных приемах и методах, о том, чему он научился у Бобкова.
К Филиппу Денисовичу полковник относился с неподдельным почтением. О руководителе Пятого Управления он мог говорить пространно, но без той иронии, удивления или осуждения, как, бывало, он рассказывал о Рюмине, Абакумове или Шелепине. Полковник знал Филиппа Денисовича с 50-х, когда молодой еще «Идеолог», как звал Бобкова Кострюшкин, был замом начальника Четвертого Управления, ведавшего идеологической контрразведкой. «Всё то, о чем ты сегодня с придыханием говоришь, преподносишь, как неслыханное новшество, он использовал с виртуозностью Давида Ойстраха и Эмиля Гилельса, вместе взятых. Был мастером высшего пилотажа», – повторял Сократыч и прищуривался с видом сытого довольного кота. Вообще, Кострюшкин, а за ним и Сергачев, считали, что идеологическая работа – основа основ их Служения. И дело даже не в том, что они работали именно в этом – Пятом Управлении. По сути: именно на уровне борьбы идей, интеллектуального противостояния решаются судьбы мира и сегодня, и, особенно, завтра. Как ни важна деятельность, скажем, Первого Главного Управления, особенно Управления «К» (контрразведка), или Управления «С» (нелегалы), как ни актуальна деятельность Шестого Управления (экономическая контрразведка и промышленная безопасность), эти и другие подразделения их конторы со временем, если не отомрут, то потеряют свой вес и значение. В стремительно наступающем веке принципиально новых технологий допотопные методы разведки с персональной вербовкой, костоломной контрразведкой, киношными внедрениями нелегалов и прочим «архивным наследием» далеко не уедешь, даже в ПГУ доминирующее положения займут Управление «И» (компьютерная служба) или Управление РП (электронная разведка). Но они должны, и они БУДУТ, так или иначе, направляться, регулироваться и контролироваться Пятым Управлением или его модификациями. Говоря о бывшей «Четверке», Кострюшкин сказал – и Сергачев намотал на ус: «Ты прав, этого управления – «Четверки» – нет; Шелепин, сменивший Серова, прикрыл его. Большая ошибка была. Я, честно говоря, тогда высказал свое мнение по этому поводу. Посему и поехал “отдыхать” в Караганду – на мою родину. Да-да, не удивляйся, я оттуда, южный я… Слава Богу, недолго я проработал в Караганде, Семичастный меня вернул в питерский аппарат. Так вот, “Четверка” большие дела делала. Я соприкоснулся тогда с ними и знаю точно: практически все студенты духовных семинарий и академий были завербованы, причем спокойно и элегантно, без всякого нажима. Это – работа Филиппа Денисовича. Он сумел создать себе образ этакого удава, перед которым практически вся интеллигенция, включая духовенство, становилась кроликами. Боялись его, ох как боялись. И еще, именно он сумел приучить творческую интеллигенцию, всех этих очкастых умников работать именно на него – на Бобкова. Вернее, они, конечно, работали на органы, но, уйди он с должности, они бы продолжали стучать ему лично. Впрочем, не он это придумал, он просто развил теорию и практику своего непосредственного тогда начальника и покровителя. Так что знать надо, Сергачев, историю своей организации. В Пятое Управление Филипп Денисович пришел после 67 года, уже при товарище Андропове. Именно он и Андропов поняли значение идеологической контрразведки и вернули этому направлению его вес».
Вот обо всем этом и о том, чему научил его всесильный и мудрый Бобков в отборе и вербовке нужных осведомителей, и говорил полковник на скамейке у Петра, который – «прадед». Особенно он гордился своим испытанным кадром – «Лесником», с которым предстояло иметь дело Николаю. «У нас, ты знаешь – сам столкнулся после женитьбы, – не любят евреев. Есть, конечно, зоологические… Хотя… Прости, но в чем-то иногда коллеги правы. Но у “Моссада” поучиться нам, да и не только нам – и американцам, и англичанам, даже немцам – не грех. Ох как не грех. Тут уж любить или не любить не приходится, приходится восхищаться, завидовать и учиться… Вот кто умеет с агентурой работать, да что работать – создавать агентурную сеть, не знающую провалов, разоблачений, даже подозрений. И со стопроцентной результативностью… Как они уничтожили всех участников бойни на Олимпиаде в Мюнхене! Но главное даже не это, не физическое уничтожение, хотя и этой нацеленностью на убийство врага нельзя не восхищаться. Главное, что меня поражает, это виртуозное мастерство в деле создания агентуры. Порой непонятно: это евреи, безупречно маскирующиеся под арабов, или настоящие арабы, работающие на “Моссад”. Мой “Лесник” – заочный “ученик” еврейских ребят из “Амана”, он не мелочится антисоветчиками, он не чистоплюйствует – если надо, и своих сдаст или подставит – это только при возможности глубже вкопаться и достичь более существенной позиции, добиться глобального результата. Он работает умнее других, осторожнее, перспективнее, роет глубже».
Тогда Николай и спросил, что имеет в виду полковник, говоря о более опасном явлении, нежели антисоветчина. Сократыч усмехнулся, вытянулся, опираясь на спинку скамейки так, что хрустнул позвоночник, снял видавшую виды кепку, вытер носовым платком поблескивающий полукруг лысины, поправил – направил указательным пальцем белесые, коротко подстриженные усики и пояснил. Страшнее любого антисоветчика – идиот коммунист, тупой и безграмотный функционер – тот самый дурак, который опаснее врага. Но и это не самое страшное.
Работает в Тарту, в местном университете один юноша. Из интеллигентной профессорской семьи. В отличие от «Лесника», которого пришлось долго разрабатывать, компрометировать, подлавливать, уговаривать, угрожать и который, хоть и работает виртуозно, своего отношения к Конторе и к своей службе ей – мягко выражаясь, презрительного – не утруждается скрывать, – то этот – молодой, то есть «Аспирант», пришел сам, добровольно, воодушевленно, с полным пониманием и одобрением сути своей предполагаемой секретной службы. Ему эстонские товарищи сначала не поверили, думали, либо детство в заднице играет – начитался шпионских романов, либо провокатор. Но ничего, присмотрелись, посоветовались с ленинградскими коллегами, решили попробовать. Сейчас не нарадуются. Золотой самородок, а не парень. Так вот, его мало интересуют все эти антисоветские, националистические настроения, которыми пропитана эстонская интеллигенция, особенно в Тартуском университете. Он прилип к «Профессору». «Профессор» этот – действительно профессор и очень известный, очень авторитетный, более того, почитаемый, для многих наших интеллектуалов – своеобразный «гуру». И занимается он вещами весьма отдаленными от сегодняшнего дня – пишет комментарии к «Онегину», который Евгений, анализирует классические стихи – называется структуралистика, исследует историю культуры, короче говоря, антисоветчиной и не пахнет, всё, что делает – пишет или читает в своих лекциях – как говорится, «в русле». Есть, конечно, ненужные аллюзии, но дело не в этом – дело в том, что он является представителем того явления, которое сам же выявил и маркировал. А «Аспирант» наш, хоть и «зеленый», точно ухватил суть и этого явления, и самого профессора, как ярчайшего его представителя, поэтому и прилип к нему.
А штуковина эта весьма проста. «Профессор» сформулировал ее в лекции, или на семинаре – уже не припомню – о Новикове, был такой деятель при Екатерине Великой. Да ты, Николай знаешь. Твой тезка. Этот Новиков – издатель, журналист, писатель, масон. Это меня «Аспирант» подробно просветил. Сначала был этот Новиков любимцем Императрицы: в день коронации Екатерины стоял в карауле своего Измайловского полка, поэтому был ею произведен из солдат в унтера. Когда вышел в отставку, назначен Екатериной в состав какой-то важной комиссии. Лично докладывал царице о ее работе, потом выпускал журналы, в которых полемизировал со своей благодетельницей, она поддерживала его в разных начинаниях, особенно при издании Новиковым материалов по русской истории, короче – был в фаворе, а потом – загремел. Причем загремел по полной – на 15 лет сел в Шлиссельбург. Только при Павле вышел стариком дряхлым. Обвинения были липовые – за масонство в ту пору не сажали, за переписку с Западом, не содержащую политических тем, тогда не брали, никаких «злоупотреблений» у него не было, ему же припаяли всё. Крепостничество было ему не по сердцу, но открыто к его отмене он не призывал. И вообще – он был, казалось бы, в системе. Даже Главнокомандующий Москвы – Прозоровский, который имел зуб на Новикова и, собственно, инициировал его разработку, недоумевал по поводу такого сурового и выборочного приговора в письме к Шешковскому – нашему с тобой предшественнику – великий был специалист, последний из могикан, Ушаков и он… Что так матушка-государыня взъелась? Супротив властей Новиков не бунтовал, никаких крамол не высказывал, наоборот, европейских свободомыслей не разделял, радел за старину, что грело сердце Екатерины. Вот наш мудрый «Профессор» и растолковал, а «Аспирант» всё записал, и это – самое, что ни есть, точное определение нашей главной опасности. Новиков не боролся с самодержавием, не противопоставлял себя государству. ОН ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ! Можно быть вместе с властью, можно быть против нее, но можно, как оказалось, быть МИМО нее, ВНЕ – ее. Вот этого простить Екатерина не могла – бабка была развратная, но умная. И многие – от того же Новикова до нашего «Профессора» так и живут, не замечая всей огромной государственной пирамиды, всех усилий государственных людей – наших с тобой усилий, в том числе. Один московский поэтишка – такусенький, честно говоря, сформулировал точно: кто-то стенал по поводу нашей помощи чехам в августе 68-го – большую глупость, кстати говоря, тогда сделали, – причитал, «как же жить дальше после августовского позора», на что этот стихоплет ответил: надо жить так, как будто ИХ нет. ИХ – это значит НАС. В этом случае мы – имею в виду весь наш мощный, огромный аппарат государства – МЫ делаемся лишними, коль скоро можно обходиться без нас, мы нужны лишь самим себе. Антисоветчик с нами борется. В этой борьбе мы оттачиваем свое оружие, отвечаем ударом на удар, иногда талантливо и успешно, иногда бездарно, но наша работа, наша жизнь оправданны. Мы востребованы, мы живы и развиваемся. Если же идея Новикова о том, что общественная жизнь может и должна идти МИМО государственных механизмов, если эта идея овладеет массами, то мы оказываемся не врагами, мы – лишние. А это – гибель. И вот с этим надо бороться. Не замечают НАС? – Заметят! У параши под Воркутой. – Владимир Сократович редко бывал в таком раздражении, вернее, редко выявлял его. Нынче был именно тот случай. – Заметят, если мы того захотим, если будем над этим работать. Не хотят быть нашими врагами – сделаем! Запомни, Коля – Николай.
Коля запомнил. С особой ясностью он осознал правоту полковника, когда погрузился в «Дело “Лингвиста”».
* * *
…Господи, не сойти бы мне с ума. Только этого не хватало! И не ясно, кто «брал» Иисуса: Штраус уверял, что Иисуса арестовали служители еврейского Синедриона, Иоанн же прямо писал: «когорта и трибун» – то есть более сотни вооруженных римских воинов и начальник тысячи в сопровождении служителей «от первосвященников и фарисеев» пришли за Спасителем. Что-то много для одного тихого, спокойного человека. Сейчас приходят ночью – как правило, ночью и в будни, и в выходные, и в праздники, и не когортами, а по двое – трое, все запуганы так, что и пьяному дворнику с повесткой в трясущихся руках отдадут свою жизнь и жизнь близких на растерзание, и не ради спасения Человечества или человека идут на плаху, а потому, что так привычно, так спокойно – класть голову под топор, славя своего палача… Нет, не на римский крест обрекали фарисеи Иисуса, а что-то другое было. Что? Евангелисты, конечно, великое дело сделали, великий подвиг свершили, великую литературу и великое свидетельство оставили, но, возможно, что-то упустили, что-то не поняли или, что тоже возможно и вероятнее, кто-то что-то подправил через столетия, чтобы прибавить аргумент, аргументик…».
– Сыночек, о чем ты думаешь? – Мама появилась неожиданно, сегодня она была совсем молодая. Абраша обрадовался: раз мама такая молодая, значит и он еще совсем маленький. Он лежал, не шелохнувшись, боясь спугнуть эту призрачную встречу – то, что это сон, Абраша понимал, но в последнее время именно сны стали заменять ему явь, именно в снах он мог видеть самых близких и родных – родителей, жену…
– Где вы?
– Мы с тобой.
– Но вы же умерли.
– Скажи, о чем ты думаешь?
– Понять хочу, откуда такая ненависть.
– Не поймешь, а если и поймешь, не изменишь. Тебе мало того, что случилось?
– Мне достаточно, но не думать я не могу.
– Мы тоже не могли. И где мы?
– Вы – во мне.
– А ты в ком?
Опять знакомое голубоватое пятно стало взбухать из пола. Медуза… или пузырь… Дышать стало невозможно. Он попытался закричать, но понял, что не сможет. Для крика надо было набрать воздуха…
Абраша на мгновение в ужасе проснулся, глубоко вздохнул и тут же стал опять плавно куда-то проваливаться. «Не надо жениться. Не надо приучать к себе, потом ей же трудно будет отвыкнуть, забыть, начать всё заново. Надо всё это прекращать, помоги мне Господи… С чего началось? С Павла – Савла? Нет, у него споры, непримиримость теологическая, но не ненависть к братьям единокровным… Позже? Скорее, позже. С Златоуста… Первые века – золотое время. Возлюби ближнего своего… Мама! Помоги…»
…Абраша мощно всхрапнул, Алена на секунду проснулась, интуитивно нащупала пяткой знакомый изгиб ступни, облегченно вздохнула и продолжала досматривать сон. Сон был хороший, цветной.
* * *
УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
Пятое Управление.
Аналитический отдел.
Дело №…/… «Лингвиста».
Совершенно секретно.
В одном экземпляре.
… 5-го декабря – в день Конституции у «Лингвиста» были гости. Предосудительных разговоров, кроме реплики «Морозовой» по поводу Сталинской конституции, не было. Реплика состояла о том, что, мол, конституция – несовершенная, но «неплохо скроенная» – была таким же фиговым листом, как и песни Дунаевского вкупе с фильмами Александрова и Пырьева. Оставшись в традиционно узком кругу, опять говорили на религиозные темы. В частности, об отличиях между традиционной религиозной нетерпимостью и антисемитизмом. Разговор начал «Лесник», сказавший: то, что творится в стране после войны, есть оголтелый антисемитизм в чистом виде – с кульминацией в деле врачей, – антисемитизм, который в чуть сглаженном виде продолжается и сегодня. Хозяева дома этот тезис не поддержали, но заговорили о евреях, перед которыми открывались все пути после принятия христианства, в частности о маранах, которые после крещения становились полноценными членами испанского общества и которые заложили основу «великим фамилиям». «Лингвист» перечислил: Мигель Сервантес, Христофор Колумб, Мишель Монтень (и ряд других – я не запомнил). «Морозова» добавила: «и генералиссимус Франко» – «как же Гитлер этого не разнюхал», – заметил «Лингвист». «Морозова» продолжила (у них «спетая» семейка): и «друг наш заядлый – Тито». «Лингвист» подхватил: «и братан наш говорливый – Фидельчик». Гость участия в разговоре не принимал.
Затем разговор иссяк, и в тот вечер больше интересующие Вас темы не поднимались.
Сложилось впечатление, что «Лингвист» и его супруга – «Морозова» о чем-то догадываются. Во всяком случае, от разговора на заданные мною темы явно уклоняются.
«Лесник».12 декабря.
* * *
– Что ты сказал?
– Не смей бить!
– Ах, ты, марамой сраный.
– Не смей бить собаку!
– Ну, держи!
* * *
«Как в кино» – почему-то подумалось ему, и он закричал. Крик застрял в груди. Длинный ударил старика в голову – коротко, сильно. Тот схватился одной рукой за лицо, другой за дерево, стараясь не упасть. Длинный опять, без замаха ткнул старика в нос, и тот стал оседать. Она кинулась к ним. Полы расстегнутой шубы крыльями бабочки-махаона накрыли объектив, и он на миг потерял всех из вида. Она летела к ним, что-то кричала, он тоже кричал, но без звука, «как в немом кино», и пытался поспеть за ней, схватить за руку, за полу шубы, за шарф, но ноги врастали в землю. Длинный отскочил, она кинулась к упавшему старику, но из тени вынырнул маленький крепыш. Он легко, как бы шутя, ударил ее кулаком в спину, она остановилась, обернулась, радостно развела руками, как будто неожиданно встретила старого знакомого, и стала садиться на землю. Его взгляд поймал лежащую на земле узкую короткую железную трубу. И еще – старик подполз к собаке и накрыл ее своим телом. Труба лежала почти под ногами, но нагнуться и дотянуться до нее было невыносимо трудно. «Надо успеть, надо» и опять подумал – не к месту и не вовремя: «Как в кино, а раньше думал, в кино всё придумано». И еще: «это – сон, всего лишь страшный сон. Я проснусь, я сейчас же проснусь… А если не сон?..». Рука дотянулась до трубы. Он услышал, как через секунду хрустнет череп низкорослого, и проснулся.
* * *
«5 марта, 3 часа ночи.
Начало марта, а солнце сегодня пекло, как в мае. Завтра обещали опять заморозки. Как жить, Тимоша, с такой погодой?! Давно ты ко мне не приходил. Что так? А я всё время о тебе помню, мысленно советуюсь с тобой и всё жду, когда ты лизнешь меня в нос. Дневник давно не вела, так как много работы. Кое-что откопала, не знаю, пропустит ли шеф. Он у меня либерал, но жить-то все хотят. Только сейчас я стала понимать, что в историки идут либо проходимцы и лизоблюды – таких большинство, либо самоубийцы. Либо такие идиотки – правдолюбцы, как я, не понимающие, куда влезли. Мой Окунь – из такой породы тоже. Кока тоже что-то подсел на Иисуса – даже к переводам охладел. Ох, плохо это кончится, чует мое сердце. И еще, он все время говорит об Ариадне Скрябиной. О ее жизненной трагедии, и посмертной судьбе. У нас – в России и во Франции. Во Франции – Военный Крест с Серебряной звездой, медаль Сопротивления, мемориальные доски; В России – ничего, молчок. Он всё время об этом думает. Когда-то его папа рассказал ему об этой женщине. Прошло довольно много лет, Александр Николаевич исчез из его жизни, и тети Таты фактически уже нет – за что этой чудной семье – моей семье – столько горя?! – А он вдруг вспомнил об этой женщине, об Ариадне, погибшей в 39 лет в далеком 44-м году… Что-то его мучает в связи с судьбой этой женщины, но что, я не пойму. Ох, чует мое сердечко, Тимоша. Моей Нателле совсем плохо стало, почти не встает. Приди, Тимошечка, навести меня».
* * *
– А как у вас ночью?
– Как, как – никак – спим!
– Ну, да ладно…
– Ты что, с ума сошла спрашивать? Я же не спрашиваю, что ты со своим Олежей-бугаем ночью делаешь!
– Он не бугай!
– Проехали.
– Ты не обижайся, мне же интересно. Слушай, а у него обрезано?
– Где?
– Ну… там…
– А почему у него там должно быть что-то отрезано?
– Не отрезано, а обрезано, ты, прямо, как дурочка. У всех евреев должно быть там обрезано. Я читала, да баба Катерина говорила. От того, что там обрезано, у них лучше получается.
– Ты пробовала?
– Я вообще ничего не пробовала.
– Родненькая ты моя.
– Это ты моя родненькая. Кровинушка…
– С чего ты взяла, что он еврей?
– Так Абраша ведь…
– Спи спокойно. Там у него всё в порядке.
– Так я ж за тебя волнуюсь. А может, он скрывает, что он еврей. Многие этого стесняются. Среди них хорошие люди попадаются, такие хорошие… Такие хорошие бывают… Но… Тебе бы русского, своего бы найти. Пусть пьет, пусть бьет, но свой.
– Кончай белиберду нести. Мне никого не надо. Что, Абраша – «не свой»?
– Свой, свой, не нервничай!
– Да и у «них», по-твоему, «лучше получается».
– Лучше, лучше…
– Ну и не гоношись. Я его в обиду не дам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.