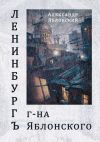Текст книги "Абраша"
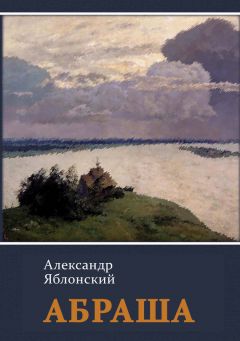
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
– Он очень хороший. А то, что стесняется, так я понимаю…
– Чего стесняется, дура?
– Дура я, дура… то, что его за еврея принимают. Из-за имени его дурацкого…
– Так он не стесняется, он гордится!
– Тем, что еврей? – Такого не бывает…
Абраша ненавидел подслушивать, читать чужие письма или за кем-то подглядывать. Это у него было от папы. Он помнил, как папа кричал на маму, что случалось крайне редко, когда она как-то раз прочитала оставленное на столе его – Абрашино письмо, вернее, письмо ему от его девушки: «Какое ты имеешь право читать чужое письмо!» – «Так оно лежало распечатанное», – робко оправдывалась мама. – «Конечно, потому что он доверяет нам, а ты, а ты… а ты предала его. Ты его обворовала, даже хуже – ворованное можно отдать. Ты, ты, ты…» – папа задохнулся, обхватив голову руками, и так, уставившись в белую скатерть с голубыми полосами, сидел долго, молча, обреченно покачиваясь из стороны в сторону. Мама стояла рядом, боясь шевельнуться. Это Абраша никогда забыть не мог.
Вот и сейчас, сидя за самодельным столиком в спальне, он пытался сосредоточиться на своей многострадальной рукописи. Не получалось. Двери были закрыты, но, всё одно, слышимость в домике была идеальная, да и сестры разгорячились. Самогон-то белорусский – слеза…
«А ведь Настюха права. Действительно, слово “еврей” стало каким-то стыдным. Невероятно, но люди стесняются своего происхождения, своей национальности. Ну, ладно, сейчас, в этой стране… Странно: я подумал – “в этой стране”, а не “в моей стране”, а это ведь моя страна, мой народ, других у меня нет и не будет, да и быть не может… Сегодня в моей стране это понятно: с пятым пунктом в паспорте, с первыми отделами, с антисионистскими комитетами и всем этим бредом… Но то же было и раньше, в цивилизованном обществе. Почему?»
Абраша вспомнил Гейне. Если бы его спросили, кто его самый любимый русский поэт, он, не задумываясь, ответил: Пушкин. Это имя само бы вырвалось. Потом, поразмышляв, добавил: Тютчев, Ахматова, Баратынский, Мандельштам. В Европе – безоговорочно, Гейне. Он обожал его поэзию. Но в определенный момент Абраша «наткнулся лбом на стенку» – внезапно и поэтому ошеломительно, болезненно.
Он разделил лежащий перед ним лист бумаги – с детства обожал любую систематизацию.
Слева:
«Есть три ужасных болезни: бедность, боль и еврейство».
Справа:
«Я всего лишь смертельно больной еврей, воплощение страдания, несчастный человек».
Слева:
Названный Хаимом, еще мальчиком откликался на имя Гарри, стыдясь подлинного своего имени, а затем Гарри переделал на чисто арийское Генрих.
Справа:
В письме к Цунцу: «Мы, ученые евреи, постепенно совершенствовали немецкий стиль!» – точная и ясная самоидентификация.
В письме Леману: «Если найдешь выпады против меня и особенно затрагивающие мою религию, непременно сообщи!» Речь шла об иудаизме.
В письме Мозесу Мозеру: «Если он – Эдуард Ганс – это делает (то есть принимает христианство) по убеждению, то он дурак, если же из лицемерия, то он подлец. Признаюсь, мне приятнее было бы услышать вместо новости о крещении, новость о том, что Ганс украл серебряные ложки».
Слева:
Через месяц после этого письма КРЕСТИЛСЯ!!! – Получил, по его словам, «входной билет в европейскую культуру». В этом есть доля циничной истины: имя Гейне ассоциируется прежде всего с европейской, но отнюдь не иудейской культурой. Хотя, оставаясь нерелигиозным – светским – салонным — евреем, коих было великое множество в ХIХ веке, он так же был бы частью европейской культуры. И что поразительно, перешел он не в католичество, которое привлекало его своей красочной величественностью и завораживающей пышностью. Плюс – в юности он окончил Католический лицей в Дюссельдорфе. Нет! Он стал лютеранином. Почему? – Потому, что именно лютеранство, с его ярко выраженным, – идущим еще от Лютера, – антисемитизмом, наиболее полно соответствовало германскому духу, в его – Гейневском понимании?
Справа:
«Отступник»: «Вот оно – читать запоем! / Шлегель, Галлер, Берк – о, бредни! / Был вчера еще героем, / А сегодня плут последний!» — по поводу крещения Ганса…
…Абраша встал, потянулся, стал ходить по комнатке от столика к печке – три шага в одну сторону, три – в другую.
…И всё это писал один и тот же человек. Один и тот же человек – поэт, гений, 12 лет находясь на содержании – и каком содержании – барона Жака Ротшильда и его супруги! – позволяет себе оскорбительные антисемитские выходки уровня пьяного плебса. Или – своему дяде, гамбургскому купцу Соломону Гейне, у которого всё время клянчил деньги и который отписал племяннику крупную сумму: «всё лучшее, что ты имеешь, это мое имя!». Это не только типичное шторрерство, то есть профессиональное еврейское попрошайничество, сопровождающееся издевками в адрес благодетелей. Это еще – и главным образом! – чувство превосходства христианина над жидом, крещенного – пусть и недавно, над нехристем, господина над слугой.
В то же время: горячие проповеди в защиту прав евреев: «мой голос (в защиту еврейства) услышит германская толпа в пивных и дворцах». И окончательно, в конце жизни: «я не возвращался к иудаизму, поскольку никогда его не покидал». Примерно 1850 год.
И всё это в одном человеке.
– …Не бугай, а ранимый, как ребенок…
– Ты, конечно, молодец, с твоим терпением…
– Да не терпение это. Люблю я его, Алена, люблю. Почему ты думаешь, что только ты можешь любить, что только ты своего Абрашу никому в обиду не дашь?..
– Я так и не думаю. Давай еще по одной.
– Давай. Хорошо сидим.
… Впрочем, эти метанья Гейне были Абраше понятны. Непонятна была та истеричность, с которой он бросался от иудаизма к антисемитизму, которым был явно заражен. Как многие выкресты… Конечно, Гейне был сыном своей эпохи – эпохи, открытой молодым Вертером, эпохи разочарованных, страдающих, потерянных, мятущихся героев Мюссе и де Виньи, Байрона и Шатобриана, когда всё принимало особо острые формы, все чувства выплескивались с избыточным драматизмом, бытовые коллизии разрастались до масштабов трагедии. Однако при всем при этом, именно переход иудея в христианство принимал размеры и глубину душевной катастрофы. Наоборот же: почти всегда в тех редких случаях, когда христианин принимал иудейские Законы, этот переход совершался со спокойным достоинством, мужеством, выстраданной решимостью. И никаких метаний. – Почему? И еще: почему христианин, перешедший в иудаизм, полностью отторгая от себя христианские ценности, христианский мир, никогда не становится воинствующим «христианофобом» – погромщиком, выкресты же – не всегда, но очень часто – моментально превращаются в злобных антисемитов, будь то Гейне или – в еще большей степени – его дружок Маркс, будь то персонаж «Гамбринуса» или Великий Инквизитор Томмасо ди Торквемада, сполна искупивший грех своего еврейства, садисты «дядьки» в школах кантонистов или Николя Донин, вступивший после крещения в орден францисканцев и учинивший кровавую бойню своих соплеменников в Бретани и Анжу, выкрест Грингмут – лидер московского отделения погромного «Союза Русского народа» и редактор «Московских ведомостей» или бывший раввин Шломо га-Леви, ставший Пабло де Санта Мария, епископом Бургоса, вдохновителем погромов в своей епархии? И несть числа…
…Абраша вспомнил старый анекдот: решили два еврея креститься. Второй, не успевший обряд совершить, спрашивает у первого – новообращенного: «Мойша, вода холодная?» «Бывший» Мойша отвечает: «Да пошел ты в жопу, жид пархатый!».
…А не присоединиться ли к девчонкам, пока они весь самогон не выдули… Приму стакан, и все «почему» сгинут!..
– А это что за привидение?!
– Нальете стаканчик старичку убогому?
* * *
– Ты успокойся.
– Это ты успокойся.
– Ничего же не случилось. Ну, подумаешь, перебрал.
– Да не перебрал я.
– Ну, устал, ну ничего, у всех бывает.
– Ты не понимаешь. Ты ничего не можешь понять.
– Я понимаю тебя. Я не знаю, но понимаю. Я люблю тебя.
– Я ничего есть не мог. Сейчас стало лучше. Но, всё равно, не могу видеть сырое мясо, куриное мясо, даже рыбу разделанную, красный цвет не могу видеть – я вижу вывалившиеся кишки. Они были даже не красные, а какие-то синие, это кровь была красной, нет – лиловой. А минуту назад она лежала на Лешке, а я на ней, а потом Лешка сказал: «Групповой секс». И мы все хохотали. Мы всё время хохотали, вернее, хохотали мы редко, но без причины. Стоило показать палец, и все начинали хохотать, даже наш ротный. Потом смех сразу обрывался, как будто его ножом полоснули – обрезали. Чик – и он уже отвалился, как кусок мяса.
– Ты весь трясешься.
– Я не хотел идти к тебе.
– А я хотела. Я хотела быть с тобой, просто быть, лежать и смотреть на тебя.
– На калеку.
– Ничего себе – калека! Я таких красавцев в жизни не видела.
– Ты снаружи не смотри. Я внутри калека. А ты многих видела?
– Нет, я почти никого вблизи не видела. Издалека – многих, но вблизи – никого. Всё не до того было. А после того, как мы с Аленой вдвоем одни остались, так я вообще забыла, как по сторонам смотреть.
– Она хорошая.
– А Абраша тебе понравился?
– Да. Я с ним бы пошел. Он бы не ныл и не выл. Хотя нет – там все выли. Я тоже выл. Выл от страха, потом от боли, потом от злости, потом просто выл. Хотя сначала в первый раз завыл от обиды. Мы знали, что направят в Афган. В Витебске об этом все говорили. Даже на рынке – придешь, торгуешься, какая-нибудь бабка и спросит: «Ты, сынок, никак из учебки». – «Да», – отвечаешь. «Ну, значит, на убой к бусурманам пошлють», – и скостит полцены. Да и я сам всё понимал. И пошел бы спокойно. Тогда еще не знал, как пули поют, и как в камень вжимаешься, и как смотрят их женщины, у которых детишки – без рук и ног. А детишки – на нас. Улыбаются, хотя знают, не могут не знать, что это наши пришли и оставили их без рук и ног, в грязи и пепле. Суки, все суки, суки.
– Олежек, милый, ну не надо, не вороши, ничего ведь не изменишь. Чем скорее забудешь, тем тебе же легче.
– Нет, легче не будет. Когда выговорюсь – легче. Кто пьет. Кто анашу… Но я не могу. Как выпью, синие кишки вижу. И еще – вижу, как Серега из Орла, корреспондент он был, анекдотов знал миллион, на все случаи жизни, так вижу, как он бежит, у него голова уже прострелена, а он еще бежит – шагов семь пробежал, и всё пытался свои мозги поймать, мозги из его расколотого черепа.
– Слушай, а хочешь, мы завтра в город поедем, в кино сходим, отдохнем культурно?
– Куда? А… в Питер. Можно и в Питер.
– Ты любишь в кино ходить?
– Нет, ты не раздевайся. Прости. Не надо. Я сразу вижу эту Раю и слышу Лешкин голос: «Групповой секс» и – хохот. А Рая была совсем молоденькая. И я помню ее только в полушубке, в таком сером дубленом полушубке. Ей лет двадцать было, не больше. Она на себе таких бугаев вытаскивала! И всегда накрывала их собой. Если что – она сверху. Как услышит свист мины или просто – плотный обстрел – она, как пружина. И здесь – стали забрасывать и ей, видимо, показалось, что Лешка ранен. Она и накрыла его, а я – ее. Кругом – голые камни, серый песок, и всё рвется, и мы кричим – все трое, от ужаса, от тоски. А потом всё сразу стихло. Как будто выключили звук в кино. Я с нее слез и чувствую, что обделался. От ужаса или от крика. Стыдно, страшно, мокро.
– Олеж, не надо.
– Она – с Лешки, а Лешка и говорит: «Ну, блин, прямо групповой секс». Мы и в покатушку. Хохочем, аж за животы держимся. Райка даже покатилась по земле – хохочет и катится, хохочет и… И – хлопóк. От нее – ничего – куски полушубка, кишки дымятся, а ее маленькая сумочка – нетронутая. Не рассыпалась даже. Она ее всегда с собой носила – там всякие ее побрякушки, помада, наверное, духи – какой-то «Ландыш», фотография родителей, чего-то еще – ничего не высыпалось…
– Косметичка.
– Наверное. Я ее в платье даже никогда не видел, только в полушубке или в белом халате. Всегда веселая. Волосы были красивые – такие пепельные и одна прядь выгоревшая. Из Москвы. Лет двадцать, не больше.
– Много было там женщин?
– Нет, немного. Им было труднее, чем нам. Мы убивали, нас убивали, а они выносили руки, ноги, головы, трупы с выколотыми глазами, отрезанными членами, вырезанными звездами на животе, им кричали, корчась от страшной боли обожженные – вместо кожи лица желтая шевелящаяся корка – им кричали: «Мама, мама», и они отвечали, «Я здесь, сыночек». А Рае – всего двадцать, не больше, у нее не только детей не было, но и жениха. Не знаю, целовалась ли когда…
– Но всё пройдет. Ты ложись, я около тебя посижу. Алена сегодня в город уехала. Ох, и втюрилась она в Абрашу. Всё волнуюсь, как у них сладится. И сладится ли… Имя у него чуднóе, правда?
– Она, вернее, всё, что от нее осталось – дымится, а я схватил автомат, вжался и жду, откуда смерть придет. Не пришла пока. А Лешка за день до дембеля сгинул. Да, так я и знал, что нас в Афган зашлют, весь Витебск знал. А нам врали, смотрели в глаза и врали. Ну, врали бы другим, там понятно – добровольно выполнять интернациональный долг, хуё-моё… прости. Вырвалось, я этот грёбаный мат никогда не уважал, а до учебки никогда ни слова. Так мы бы поняли, я бы понял: им – что угодно: интернациональный, добровольный. А нам – приказ. Честно и прямо. Мы – люди военные, ни слова бы. Ну, кто бы закосить постарался – дело святое, кто бы сиганул, но остальные – раз надо, значит надо. Так нам врали, суки, в глаза: В Ташкент, в Ташкент, на маневры. Все обрадовались, отпустило. Тогда мы войну, как в кино, представляли. Но всё равно страшно. Неизвестности страшно. Калекой остаться страшно. Смерти не боялись. А она – самое страшное.
– Как ты думаешь, война будет?
– С кем?
– С Америкой или с Китаем.
– На хрена?
– Так пишут же.
– И ты им веришь? Ты что, и раньше верила, что мы освобождать их идем? Я – верил. Идиот был и верил. А когда узнал, перестал им верить, во всем верить перестал. А идти умирать без веры совсем тухло. А узнал – еще в Ташкенте, еще приказ не зачитали – узнал, что если тебя в афганском доме накормили – а не накормить нельзя, раз ты пришел, ты – гость, они обязаны накормить, если тебе не дадут лучшее, хозяева опозорены: это – Восток, – так если тебя накормили и напоили, то после твоего ухода их забьют до смерти камнями. И эти женщины, и дети кормили, поили и улыбались нашим солдатам, зная, что когда русские уйдут, их камнями, камнями до смерти, но кормили, поили и улыбались. И те, кто забивал – мужчины, женщины, дети тоже знали, что, если к ним в дом придут русские, и они будут кормить, поить и улыбаться, и их убьют. И несть конца. Но, накормив и напоив, за порогом дома убивали, если могли. Алешку убили, когда он стал машину заводить, а она – ни с места. Он вылез, стал в моторе копаться, мальчик лет десяти, хозяйский сын – ему Алешка конфет только что дал и белого игрушечного медвежонка подарил – мальчик от счастья этого мишку целовал и к сердцу прижимал – этот мальчик сзади подошел, смотрел, смотрел, как Алешка в моторе возится, а как тот перегнулся, ножом в спину, прямо в сердце. Нож такой тонкий, острый, на заточку похож. И спокойно, с медвежонком в руках ушел в дом. Через час мы этот кишлак в месиво превратили – всех старух, женщин, детей, грудных – всех, кроме мужчин, мужчины все давно в горы ушли – размазали, одно кровавое месиво, вперемешку с головешками и дерьмом. Там что-то двигалось под пеплом, стон глухой был. Один наш прапор ссал на шевелившийся обугленный холмик – на человека, видимо. Сам видел. Никого было не жалко. Они нас ненавидели, мы – их, мы весь мир ненавидели. Вот тебе и освободители – интернационалисты сраные. Я и по дембелю всех ненавидел. Только сейчас отходить стал. А в те рожи сытые в Витебске до сих пор во сне стреляю от пуза веером. Врали, врали. И воровали. Знали, что нас на убой посылают, и у нас же воровали, суки, воровали всё – одеяла, сапоги, главное – продукты. В Ташкенте воровали еще больше. Но там мы стали что-то узнавать про Афган. Чем больше узнавали, тем больше было ужаса, животного ужаса, до поноса. И этот ужас вперемежку с омерзением от воровства и вранья, как торт – «Наполеон», застрял на всю жизнь. Когда ехали в Ташкент, радовались. Думали – там тепло, дыни, урюк, изюм. А в Ташкенте – в сто раз холоднее, чем в Витебске. Снега нет, только песок всюду – в глазах, на зубах, в носу, в легких – и ветер ледяной с песком – до костей. Из казармы – ни шагу и кормежка гнилью. Сволочи. Но в Афгане – еще хуже. Там был ад… Там воровали еще больше, нас – в лоскуты, ноги, руки в мусорный бочок, всё остальное – маме, а они машинами «Шарпы» и «Сони» вывозили. Поначалу даже трупы не во что было одеть, а они – всё на афгани, всё на афгани. Не держи меня! Отпусти! Дай ложку!.. А они – сытые тыловики – им оружие. Суки, за афгани, суки, стрелять их, стрелять… Мама…
– Олежа, Олежа, Господи! Помогите!
………………………………………
– Господи! За что? Отпусти меня, отпусти. Отошло…
– Отошло, не двигайся.
– Господи! Всё тело свело, скрючило, отпусти меня!
– Так не держу, не держу, успокойся, отдай ложку-то…
– Испугалась?
– Немного. Ну, ничего, я – сильная.
– Ты – молодец.
– И ты – ничего себе. Не вспоминай больше.
– Рад бы.
– Вспоминай хорошее.
………………………………………
– Вспоминаю. Только хорошее. Маму вспоминаю. Она в корыте белье стирает. Тррык-тррык по стиральной доске и кистью мыльные брызги с лица отирает. Дети за окном кричат. А по радио Бунчиков с Нечаевым поют «Летят перелетные птицы…» Вспоминаю… Хорошее… Зеленую траву. Плац. Воробьи в луже моются. Принимаем присягу. Замполит красивые слова говорит. Потом артисты из Филармонии сцены из «Шторма» Билль-Белоцерковского и «Сильвы» разыгрывали. Надо же фамилия – Билль-Белоцерковский. Запомнилось же! Учебку помню. Там много хороших ребят было. Почти все либо полегли, либо – калеки. И там говорили, говорили, про долг, про Родину, про братские угнетенные народы, про помощь. Потом мы этих говорунов – нахлебников – политруков и ворье тыловое больше ненавидели, чем духов. Нам мозги было уже не засрать, а они тужились, тужились и воровали. В моем возрасте ночью кто о девчонке думал, кто о деньгах мечтал, кто дрочил, кто наливал стакан во сне, а я стрелял во сне, стрелял, стрелял…
– Успокойся, родной мой!
– Стрелял в эти рожи, в сытые рожи, и в детей, которые заточками в спину, и в женщин, которые нас кормили и которых потом камнями забивали, и которые тоже бы в нас стреляли из-за угла, и в этих в Витебске…
– Ну, всё, ну хватит.
– Я так больше не могу жить, не могу всю ночь стрелять и потом воду пить.
– Не можешь, значит, не будешь. Я помогу тебе.
– Помоги.
– Я с тобой, я с тобой, я с тобой…
– Зачем я тебе?
– Как зачем… а дрова наколоть!
– Колоть могу. Еще могу.
– Ну а потом и воду сможешь принести. Это – трудное дело. Вот Алена – она до краев наберет и ни капли не прольет, хоть километр пронесет.
– Алена…
– О ней не думай, у нее – Абраша. Она в него – по уши.
– Я ни о ком не думаю.
– Ты обо мне подумай.
– А в кино завтра можно пойти. На комедию. Я только и могу с тобой по кино ходить.
– Олеж, всё пройдет, я буду с тобой. Ты после войны таким стал, а у меня вообще ничего никогда не было. У тебя, наверное, в учебке девчонки были, в школе, может, в том же Ташкенте – ведь увольнительные давали, на танцы ходил? А у меня – ничего и никогда. Хоть и не такая я уж страшная.
– Не такая.
– Ну вот, ты и заулыбался. Алена, конечно, лучше, но и моложе она.
– Ну и ты не старуха.
– Сороковник навис.
– Это – пустяк. Если бы я мог закрыть глаза и не видеть синие кишки…
* * *
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Сергей спохватился, что смотрит он не на икону, а на фотографию. На фотографии – Саня, Тата и Николенька. Сидят, обнявшись, и улыбаются.
* * *
Христианская традиция уже с III века все издевательства над Ним приписывает иудеям. – Возможно ли это в иудейском мире, не вышедшим еще из эпохи Пророков? – Ой, как сомнительно! Имя Его – Иисус, или Иэсус – в древнегреческом, или у иудеев – Иешуа, что есть сокращенное от Йехошуа – «Господь есть Спасение». Такое имя давалось только достойнейшим в память о Йехошуа бин Нун, или, по канонам русской синодальной Библии, Иисусе Навине – Моисеевом ученике. Но дело даже не в этом.
Иеремия пророчествовал о Мессии – Давидовом потомке: «И настанут дни – сказал Господь – когда взращу Я Давиду праведного потомка, и будет он царствовать, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. И вот имя его, которым назовут: Господь – Справедливость наша». И соединилось: «Господь – есть Спасение» и «Господь – есть Справедливость». В Справедливости – Спасение. Исайя – самый чтимый пророк и Книга его – лучшее в Библии – предрекал, что грядущий Царь будет носителем Справедливости, и это пророчество стало основой верования. Инкарнация преемника Давида, помазанного Богом, во втором и первом веках до Рождения Христа особенно тесно соприкасалась с идеями Еноха и Даниила, их Книг. Спасение и Справедливость становятся синонимами. Именно на этом этапе Божественного избранника, харизматическую фигуру из рода Давида, неминуемо призванного прийти и спасти, называют «Машиах» – на древнееврейском, или «Мешиха» – на арамейском, или Messias в греческой транскрипции. Греческое слово Сhristos – Мессия, Помазанник – указывает на характер миссии Иешуа – спасти мир и человечество, привнеся в него высшую Справедливость.
ПОСЕМУ: «Царь» не может быть издевкой у благоверного еврея Эпохи Пророков. Иисус есть Мессия. Израиль никогда не допускал шуток по отношению к священнику или царю, тем более Царю и священнику в одном лице – из Давидова рода… даже, если он и лже-Мессия. Римляне же, называя его, – если называя!? – Царем Иудейским, признавая его «помазанным лидером», – помазанным елеем при возведении на престол, – того не подозревая, провозгласили Истину. Царь Иудейский и Царь Мира. Не тот Мессия, который был ожидаем иудейством, но Мессия…
Не могли иудеи, издеваясь, называть Иешуа «Царем», как не могли этого не знать христианские богословы. Знали, но во все времена тиражировали заведомую ложь.
* * *
Утро выдалось светлое и тихое. Алена ушла спозаранку, ей надо было забежать домой, переодеться и успеть к автобусу в 7:50, тогда она приезжала за двадцать минут до первого урока. Абраша повалялся, затем, не торопясь, помылся прямо у колодца – до пояса. Мороза не было, но было сухо и бодряще студено. «Градусов пять тепла», – подумал он. Болей не было уже дней пять, и он был счастлив. Хоть Исаак Давыдович и был знаменитый на всю область врач, но и на старуху бывает проруха. Потом он любил Абрашу, вернее, ценил, как своего коллегу – единственного на всю больницу медбрата, да еще с высшим гуманитарным образованием, – поэтому мог слишком уж перестраховаться, мог дуть на молоко и вообще… Короче, настроение было хорошее.
Абраша сытно позавтракал: сделал себе яичницу из трех яиц с колбасой, затем пару бутербродов с сыром, выпил полную чашку чая с вареньем, которое прислала с Аленой Настя и – устал. Поэтому прилег на полчасика. Сначала решил почитать Эрнеста Ренана, он уже читал не раз эту книгу, сравнивая ее с Фридрихом Штраусом, с Фредериком Фарраром, Франсуа Мориаком (хотя французский он знал похуже немецкого и английского) и с другими авторами. Раньше Ренан был, пожалуй, реальнее и бытово приемлем для Абраши. Однако со временем Ренан стал раздражать своим рационализмом, в прокрустово ложе которого он небесталанно, с литературным изяществом пытался уложить величайшую мировую тайну. Яркие и точные детали, прекрасная эрудиция, знание источников – все эти и другие замечательные достоинства Ренана-романиста в конечном счете сводили образ Иисуса к реально существующей исторической личности, обладавшей мощной личной притягательностью, высочайшей организацией системы этических взглядов, но никак не основателя величайшей религии и уж никак не Сына Божия. Причем этот образ окрашивался в явственные субъективные тона и с возрастом труд Ренана всё больше отдалялся в сознании Абраши от того идеала, с которого когда-то начиналось его – Абрашино бытие в мире Евангелических сюжетов, проблем, исканий… Ни Ренан, ни Штраус, никто другой не мог ответить на вопросы, его волновавшие. Открыл было Ренана на заложенной странице, но потом передумал и вынул из-под подушки «Новый Завет». Все эти Ренаны – ничто по сравнению с прозрачной ключевой водой Евангелия. Особенно любил он синоптические Евангелия – девственно прекрасные, незамутненные поздними наслоениями. Рассказ и размышления Иоанна разительно отличались, дополняли и оттеняли первые Свидетельства, и сравнение между ними всегда доставляло Абраше огромное наслаждение, дарило массу размышлений и открытий. И вопросов, к которым всё возвращался и возвращался.
Абраша отложил Евангелия – рука затекла лежать, да и глаза устали. Последнее время он чувствовал себя хорошо, но быстро уставал. Он вытянулся на спине, аж в позвоночнике приятно хрустнуло. Надо бы встать и сгрести листья. Приятное осеннее занятие. Потянет дымком – запах любимый с детства, когда он с мамой ходил гулять в Летний сад, и там тлели листья кленов, дубов и лип, тщательно сбираемых с аллей молчаливыми служителями этого парка.
Мысли Абраши смешались, и он задремал.
* * *
12 мая.
Давно не вела свой дневник, Тимошечка, – всё больше с тобой лично беседовала. Но ты меня забыл, не приходишь. Как ты там? У нас всё по-старому. Моросит. Ника с утра в Публичке, потом пойдет с другом в баню. Легкого пара!
Новость № 1 – «Чрезвычайное сообщение ТАСС»: кажется, Кузя собрался делать предложение Катерине. Наконец-то!! Хороший он парень, Ахматову и Мандельштама любит – наш человек (хотя Рильке и Цветаеву почти не знает?!). Но робкий какой-то. Если не передумает, дай им Бог!
У меня же на душе – жопа (или «в душе – жопа», стилистически спорно), прости Господи! Мне пора завязывать со Смутой. Обрыдло. Ломлюсь в открытые двери. Тоскливо, Тимоша!
В сухом остатке: всё заваривалось в России. Польша со Швецией – статисты, случайно подвернувшиеся под руку российским элитам.
В общем виде: Смута – результат царствования Ивана. Польша – ни при чем, как и Англия, Китай – кого хочешь выбирай… Российский закон: авторитарная власть ведет к смуте, разрухе, гибели. Наступаем на эти грабли с Рюриковских времен («грабли – наше главное наступательное оружие» – кто сказал?): Ярослав со Владимиром – удельная раздробленность, кровавая междоусобица, монголы подвернулись – на них все беды списали; Грозный – Смута, разруха; Петр – сумятица с престолонаследием, чехарда дворцовых переворотов, моментальный демонтаж всех преобразований, всевластие бюрократии, а затем – и гибель Империи, Николай – крах всех новаций, крымский позор, и самоубийство – списали на «агличанку, которая завсегда гадит», кровавый «дядя Джо» – «оттепель», крах соц. идеи, думаю, гнилая конструкция не сегодня – завтра рухнет. Погребет ли только СССР или Россию тоже – вопрос! Найдут виновных: Америка, Англия, как всегда, евреи! А может, и кого другого приплетут… Скажем, армян, хохлов или грузин…
Конкретно:
1. Первый Лжедмитрий. Кто «заквасил» (Ключевский)? – Романовы – «Никитичи» (если Самозванец – Григорий Отрепьев, что, по-моему, сомнительно); в любом случае – подготовку самозванца вели «боярские дома» (Черкасские, Шуйские, Романовы, пр.), оппозиционные Борису (Платонов). Костомаров (1864 г.) утверждал, что виднейшим деятелем этой интриги, помимо Романовых – Юрьевых, был Богдан Бельский. – Хрен редьки не слаще. Кто ему к престолу спину подставил: предался под Кромами и войско к присяге привел, свидетельствовал о его подлинности и пр.? – Шуйский с Голицыными + Ко. На кого опирался Димитрий более всего? Шляхтичи? – Да, отчасти, но, главным образом, русские – казачество с южных областей Московии, ненавидевшее опричнину, московские порядки, рабство и пр.
2. Освободили Москву от «поляков» (читай – иноземцев). – Ура! – Великая судьбоносная победа. А как они туда попали? Взяли штурмом? Или вошли в «оставленную» столицу, как Наполеон? – Филарет и Салтыковы челом били Сигизмунду поставить царем Владислава! Хорошо просчитывал ходы Филарет, не просчитался. Ну а загубленные жизни, кровь, мор, позор – кто считает! Русские бабы еще нарожают! (Сталин). Владиславу «целовала крест» вся Москва, даже Гермоген, считавший, что на престоле должен быть либо Вас. Вас. Голицын, либо малолетний Мих. Романов, благословил Владислава на престол. Почему? – Страшнее любых поляков со шведами или немцами – чернь! Ужас перед «ворьем» – будь то тушинские сидельцы или «освободители» Трубецкого и Заруцкого (Первое ополчение Ляпунова и Ко) – вторая (после жажды власти) побудительная причина призвания поляков. Это уж от века: «В Кремле не живут, а обороняются» (де Кюстин). Тот же Филарет со Голицыным, знатью, громадной свитой поперлись к Сигизмунду – зачем? – Просить убрать поляков из Москвы? – Нет, просить на престол его сына – Владислава! Через кого Сигизмунд пытался у сына трон московский забрать в свою пользу – через Салтыковых и Федора Андронова. И т. д. и т. п. Короче: поляков пригласили, затем заперли несколько сотен человек, вынудили их голодать до полного истощения и, несмотря на «слово чести» не сумели с ними повести себя благородно.
3. Филарет! – Как возрадовался, узнав, поневоле монашествуя, что Лжедмитрий Первый – «Расстрига» – начал свое движение на Москву! – Не зря вскармливал! Митрополит Ростовский – это тебе не монах в Антониев Сийском монастыре. Второй Лжедмитрий – «Вор» нарек Патриархом Всея Руси. Филарет отработал польско-«воровской» хлеб: 1) от имени «тушинского вора» переговоры с Сигизмундом о приглашении последнего на русский трон; 2)как нареченный патриарх рассылал грамоты по церковным делам в области, признававшие власть тушинского вора, 3) посольство с Голицыным – приглашении Владислава на тот же трон… Результат: повешен? Сослан? Выслан? – Нет. Повешен трехлетний (четырехлетний?) ребенок. Филарет к сану Патриарха прибавляет титул Великого Государя (высшая ступень государственной иерархии), юридически – соправитель Михаила Романова, фактически – правитель России. Да не он один. Он – самая крупная фигура в этом террариуме. Все эти зачинщики и двигатели Смуты выиграли, т. е. приблизились к трону, разбогатели, прославились и остались в «благодарной памяти» народной героями, страстотерпцами и патриотами Земли Русской, и, что поразительно, как при старом режиме (понятно – Романовы!), так и при новом… Тоска.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.