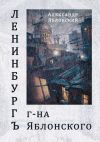Текст книги "Абраша"
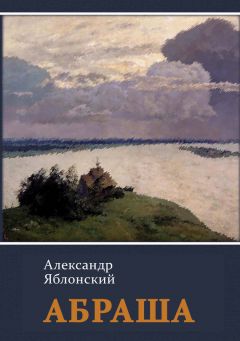
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Моя Татьяна, что из «Ленправды», всё рассказывает о своей нахлынувшей любви. (С ума сошла: муж узнает – убьет!!! Хотя любовь – здорово!!!). Так вот, этот ее Ромео роман пишет про Смуту. – Почитать бы, что он там понаписал. Татьяна говорит, что гениально. Любовь – что поделаешь! Но одну последнюю фразу она запомнила наизусть. Великолепно. Я бы так не додумалась: «На крови невинного младенца замесил свою династию Филарет, и отметила эта кровь весь ее трехсотлетний путь, и отозвалась в подвале ипатьевского дома кровью таких же невинных отроков».
Всё это общеизвестно. Доказывать нечего. И всё это похерено. Вякнуть прописную истину нельзя! Даже мой Окунь – на что уж честный ученый и человек! – велел убрать весь фрагмент из «Листа земских людей Новгорода Великого к королевичу Карлу Филиппу» и «Летописи» – с каким трудом я всё это выкопала! «… Но мы можем признать, что в Московском государстве воры одолели добрых людей (…) и московских боляр, и всяких чинов людей, которые сидели в Москве в осаде с литовскими людьми и которые были в Литве у Короля и в Тушине, и в Калуге при воре лживом Дмитрии и тех государь всех для своего царского венца пожаловал наипаче свыше первого по их достоинству честию и пожитком. И совокупись вся земля русская ему государю служити».
Остается копаться в деталях. Одна радость, Тимоша, это – Ника. Вот и он вернулся, распаренный, пьяненький… Пока.
* * *
Владимир Сократович, привет! Прости за корявый почерк и краткость сего послания: полусидячее – полулежачее положение на полубоку дает некоторое облегчения – максимально возможное при моем состоянии, но не способствует обстоятельному и красивому изложению мыслей. Главная же мысль (в ответ на твой вопрос) проста: «Лингвиста» следует СО – ХРА – НИТЬ!!! Сохранить, законсервировать и по наступлении часа «Х», о котором мы неоднократно говорили, использовать. Лучшего «Паровозика» не найти. Не во всесоюзном масштабе, конечно, но в локальном – питерском. Вполне. Он не запятнан ни сотрудничеством с нами, ни оголтелой борьбой против нас – это часто отталкивает и настораживает умных людей, – его репутация (бытовая, профессиональная, человеческая) безукоризненна – компромата на него не сыщет самый дотошный недоброжелатель, хотя, похоже, их у него нет, – плюс он интеллигентен – по-настоящему, то есть чувство благодарности и благодарной памяти ему не чуждо, а это первое условие для надежности положения «прицепного вагона», + он не амбициозен, то есть к самостоятельной власти рваться не будет. Плюс доверчив, сам честен и a priori предполагает честность других – это редкость, для нас чрезвычайно полезная. «Прицепить» к нему можно того же Сергачева: Сергачев – «в проблеме»: и нашей – профессиональной, и в проблемах «Лингвиста», то есть гуманитарных – исторических, богословских, литературных. Такой, как Серг., легко и естественно войдет в тесный контакт и полное доверие. Если надо будет – а будет надо! – прикроет своим телом – в прямом и переносном смысле, и, набирая очки, сдаст своих: сам знаешь, у нас балласта много, и в любом случае надо от него избавляться, + хорошо, если удастся заодно и московским коллегам нос прищемить. Короче говоря, на плечах «Паровоза» войдет наш «Прицепной» в новую властную (думаю, демократическую – по названию) элиту и закрепится там. А затем «Паровоз» можно отцепить и убрать. Не обязательно в прямом смысле (хотя при плохом поведении можно и это), но лучше в переносном. И дело даже не в том, что я люблю чистую работу без грязи, но такой редкий материал, как «Лингвист», нужно использовать на 100 %: можно будет убрать на любую фасадную должность – типа ЮНЕСКО, или правозащитную деятельность (но так, чтобы плясал – испытывая благодарность, – под дудку «Прицепного», то есть под нашу дудку).
СОХРАНИТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
Будь здоров. Это – самое главное. Послезавтра меня перевезут в госпиталь на Суворовский. Вылечить – не вылечат (что бы ни говорили), но на облегчение надеюсь. Авось еще свидимся. Ежели что – не поминай лихом.
Жму руку. Удачи!
Полковник Асламазян.
* * *
– Ну что, надумал, Витек недоделанный?
– Чё это я недоделанный? Ну, ты, братан, даешь!
– Ладно, кончай базарить! Ты кайф поломал, ты и репу чеши.
– Так пойдем к Люське стрельнем.
– Не даст. Потом у нее Колываныч ошивается. Он ее уже выдоил.
– Тогда в магазин. У Розы в долг до завтра возьмем.
– А если не даст?
– У, блядь, жидяра…
* * *
«К делу №…/… «Лингвиста».
Из дневничка сына «Лингвиста», Николая С.
Поразительно, что ненависть, расовая нетерпимость всегда захватывает не столько общественные низы, что было бы понятно (элементарная зависть, бытовые неурядицы и пр.), но интеллектуальные верхи. Особенно непонятно, когда эти интеллектуальные вершины – евреи по крови. С Марксом понятно. Но вот Спиноза!!!
… Великий философ был Борух, глыба рационализма 17-го века. Считал иудаистов поклонниками главного их идола – ненависти. Набожность евреев, считал он, – лелеется их ритуалами, которые стали их второй натурой. Эта перманентная «тренировка», по его мнению, рождает постоянную ненависть – самую глубокую и непримиримую, ибо эта ненависть зиждется на чрезмерной преданности своему Богу, чрезмерной набожности. И вообще – традиционный иудаизм, по его мнению, суеверие, дикость. Здесь он перекликается с Вольтером – ярчайшим юдофобом.
Во главе антисемитизма или юдофобства всегда стояли интеллектуалы, что во времена Александрии, что во времена Просвещения, что в XIX веке, что сегодня. Что Гамбино, что игумен Пётр из Клуни, что главный визирь Артаксеркса Первого – Аман. – Почему???
Так и у нас в классе. Сечкарев, Потапов, Улыбышев – про евреев не то, чтобы не знают, но не волнует… Пригожин, Краснопольский и вся эта компания не только знают, но наливаются злобой и цитируют – Гончарова, Тургенева, Достоевского, Нилуса с этими долбаными «Протоколами…» Поразительно!!!
Подшито 12. 06. 19..Ст. лейтенант Селезнев.
* * *
Абраша задремал и мысли его смешались. Сначала он увидел плащ с красным подбоем. «Надо бы перечитать роман Булгакова. Журнал этот кто-то спер. «Москва» – смешное название смешного журнала… Кто бы мог подумать, что именно там напечатают этот роман? Чудны дела Твои, Господи…» Потом в полудреме – полусне проплыли огромные льдины по Неве, налезая друг на друга и круша сложные ледяные конструкции, бесшумно и неумолимо продвигались мимо Петропавловской крепости к Финскому заливу. Затем – самого себя, он собирал опавшие листья. «Давно надо было это сделать». Получились три большие кучи. Поискал в кармане спички, но не нашел. Хотел пойти в дом, на кухню, но вдруг на крыльцо вышла мама. Она почему-то была значительно меньше, чем в жизни, ростом, какая-то усохшая и потемневшая, на ее неожиданно смуглом лице появилось много морщин. Она молча подошла, села на соседний пенек и так же молча подала ему коробок спичек. Язычки пламени выпорхнули наружу, но затем моментально запрятались в ворохе листьев, превращаясь в струйки голубоватого дымка. Запахло детством. Абраша молчал, и мама молчала, и глаза их были сухи, и смотрели они на дымок, игравший в прятки с огоньком под покровом гостеприимной листвы.
Абраша проснулся. Он увидел стены, обитые вагонкой, потолок, тщательно выкрашенный им несколько лет назад в матово-белый цвет парного молока, со временем подкрашенный кофейными разводами и покрытый вуалью причудливой паутинки, висевший на переплетенном, как девичья коса, пыльном проводе ярко-красный плафон, привезенный в подарок доктором Исааком Давыдовичем после отпуска в Эстонии – из Пярну, голландскую печурку, собственноручно облицованную голубым кафелем, с дешевым подсвечником на выступе, старинные круглые часы с боем – бой уже давно не работал… Все контуры расплывались, слоились, и Абраша понял, что он беззвучно плачет: слезы стыдливо скатывались по вискам к ушам теплыми тоненькими ручейками. Давно не было так тоскливо. Он явственно вспомнил большой квадратный стол, низко свисающий оранжевый абажур, себя маленького, протягивающего руку к большой эмалированной миске, запах теплого, только что поджаренного арахиса – мама выстаивала в очереди, когда «выбрасывали» этот дефицит, и они ели все вместе – с мамой и папой – эти чудные заморские орешки. Ели и разговаривали на всякие умные темы. Мамы давно уже не было, но Абраша постоянно беседовал с ней – во сне и наяву.
Сначала он видел маму во сне. Всякий раз она выглядела по-разному, но он знал, что это – мама. Потом он просыпался, но не до конца: это было то чудное состояние, когда он уже не спал, но и не бодрствовал, маму не видел, но слышал ее, вернее, предугадывал, что она скажет, а иногда говорил за неё. Этот монолог – диалог мог продолжаться долго, пока он опять не засыпал или не просыпался окончательно, но и тогда, проснувшись, делая свои рутинные утренние дела, он продолжал мысленно этот такой важный для него разговор. Только с ней Абраша мог делиться самым сокровенным, выговориться, что порой было так ему необходимо. Только она могла понять его, почувствовать его, дать единственно правильный, неосуществимый совет. Он хотел поговорить и с папой, но папа был далеко – неизвестно где, а мама была рядом.
Вот и сейчас он знал, что мама скажет:
– Ты изменился.
А он ответит:
– И ты тоже.
– Почему ты не женишься?
– Ты же знаешь.
– Ты давно ничего не писал и ничего не переводил.
– Зачем? Кто прочитает, кто поймет, кто задумается? Кто напечатает? Кому всё это нужно?
– Я прочитаю. Папа.
– Ты видишь его?
– Дай закурить.
– Ты же никогда не курила.
– Тебе жалко?
– Но у меня нет папирос, я же не курю.
– Я знаю. Но в детстве ты начинал курить.
Сейчас мама напомнит ему о том, как он тайком курил «всякую гадость» с Адиком Гликманом из соседнего подъезда в подвале дома напротив.
– Сигареты «Новые». Они был самые дешевые. Такие коротенькие. Сантиметра три, не больше. Отрава.
– А потом ты заедал эту гадость «Сен-сеном». Дурачок, ты не понимал, что запах «Сен-сена» выдает тебя больше…
– Ты мне никогда не говорила, что знаешь.
– Папа не разрешал. Я хотела отругать, когда первый раз застукала тебя с Адиком, но папа мне запретил. Он сказал, что запретом и наказанием ничего не добьешься, ты станешь делать назло, а вернее, будешь самоутверждаться, и будет только хуже. Он всегда считал, что у тебя хорошая голова, и ты до всего дойдешь сам.
– Где он сейчас?
– Ты хотел дать мне закурить.
– Но у меня нет папирос…
Абраша знал, что мама никогда не курила, но каждый раз после своей смерти она просила закурить, и он ей не давал, но папиросы неизменно появлялись в ее руках, причем, всегда одной и той же марки.
– Почему ты не идешь к Исааку Давидовичу?
– Ты же знаешь…
– Знаю, но пойти надо.
– Дать тебе спички?
– Нет, я не курю. Так. Подержу в пальцах, помну.
Абраша еще раз отметил, что мама опять очень изменилась. Лицо покрылось морщинами, цвет приобрел оттенок сероватой глины, кожа на пальцах стала совсем сухой и пергаментно-прозрачной. В руках у неё появилась папироска – «Герцеговина Флор». Мама привычным движением заядлого курильщика размяла патрон папиросы и продула мундштук.
– Тебе холодно?
– Мне тепло с тобой, сыночек.
Тут Абраша понял, что он задремал и пора просыпаться. Вставать не хотелось, но сегодня был последний день. Завтра он выходил на дежурство, а потом… Потом придется идти к Исааку Давыдовичу.
Он вышел во двор. Стало холоднее. Чуть видимые снежинки редко и неторопливо, как бы сомневаясь, куда им лететь: вверх или вниз – парили над землей. Где-то равномерно, буднично и дружелюбно лаял пес. На улице у соседнего дома остановилась и как бы замерла старая серая лошадь, запряженная в телегу. Она, как обычно, дремала, стоя неподвижно, чуть подрагивая мышцами спины. Казалось, что она вспоминает в своей дреме назойливых слепней, так докучавших ей в зените июльского зноя. Абраша давно знал ее и дружил с ней. Они часто беседовали, он ее прекрасно понимал, и она была внимательна к его рассуждениям. В неторопливости ее шага, в размеренности движения головы, с вопросительным или удивленным поворотом, в ее скептически полуприкрытых глазах, барственно ленивых помахиваниях хвоста было нечто аристократическое. Во всяком случае, Абраша именно так представлял повадки и манеры старого обедневшего представителя какой-нибудь известной и древней фамилии. Может, и ее предки «были когда-то рысаками», и лишь нелепый поворот судьбы привел ее в этот заброшенный дачный поселок и впряг в грязную скрипучую телегу. Впрочем, как и подобает истинному аристократу, вернее, аристократке, она стоически сносила все эти социальные катаклизмы. Она была выше их и жила своей, никому не видимой внутренней жизнью. Это была лошадь Николая. Видимо, он где-то надыбал навоза или сена и пытался кому-либо втюхать. «Соображает на бутылку». Скоро он подъедет и к его – Абраши дому, поэтому надо пойти и взять гостинец для Клеопатры – несколько кусков колотого сахара и полбатона белого хлеба, что Абраша с удовольствием и сделал.
Затем он стал сгребать листья. Дышалось легко и вкусно. Легкие радостно принимали прохладную влажноватую массу воздуха, пронизанную запахами прелых, чуть подмерзших листьев, витающего над поселком дымка от печей и тлеющих куч, ароматом сена и лошадиного навоза, которым засыпали на зиму свои грядки немногочисленные Абрашины соседи…
Он ловко орудовал граблями и несколько раз непроизвольно оглядывался на пенек. Мамы там не было. Ее и не могло быть.
* * *
– Проходи, Сергачев, присаживайся, отдыхай. Рад тебя видеть. Чаю, кофе?.. Как хочешь… Курить не предлагаю. Не потому, что сам не курю. Хотя и поэтому тоже. Курил когда-то. Во время войны. Тогда все курили – и мужчины, и женщины, и дети. От папироски и голод не так чувствуешь, и страх почти не заметен, и теплее кажется. Но потом бросил. Раз и навсегда. А почему? Думаешь, из-за легких или желудочной язвы? Ерунда. Кури не кури, если суждено – расстреляют. Шутка! Всё дело в генах. Знавал курильщиков под девяносто лет. И некурящие в сорок от рака легких загибались. Всё дело в генах. Раньше за эти гены хорошие срока мотали, а то и к стенке ставили. Чего только не было… Часто думаю, много мы лишнего наворотили. Что ты на меня так смотришь? Да, да, учиться на ошибках надо, а не культивировать их… А… Ты, действительно об этом говорил, а мы возражали. Так это на совещании было, а сейчас мы с глазу на глаз. Tête-à-tête, как говорят французы. Да, так о куреве… Курево – это зараза. Самое страшное в нашем деле – попасть в зависимость. От всего: от табака, от спиртного, от семьи, от товарищеских отношений. Но табак – самая крепкая цéпочка. Как затянет, не оторваться. Кто чаще всех колется? – Курильщик. Тут не надо ничего выдумывать. Ни ржавой селедкой сутками кормить без воды, конечно, ни электричество зря по ночам жечь, ни родственников издалека показывать. Я уж не говорю о физическом воздействии. Я это не люблю, ты знаешь. Это – метод дебилов. Профессионал до этого не опустится. Учти: проще всего работать с курильщиками. На моей памяти заядлый курильщик ни разу не устоял. А какие крепкие мужики попадались! Один раз, правда, обломилось, да и то по моей глупости. Поверил на слово. Он говорит: «Дайте затянуться. Всё скажу. Всех сдам». Ну, я и расслабился – деятели культуры народ слабенький, куда он денется. Все-таки известный режиссер был, уважаемый. Поверил. А он так глубоко, так сладко затянулся пару раз, а потом и говорит: «Нет, папироска слабая. Я вообще к «Северу» привык. Они хоть и дешевые, но крепкие». Вот сучара. Смотрит мне в глаза и улыбается. Пришлось его Матвеичу отдать. Покойник лихо работал, с выдумкой. Я этого режиссеришку больше живым не видел. А так, все ломались. Ничего делать не надо. И гуманно. О здоровье своих сограждан заботимся. Они хоть спотыкнулись, но все-таки – советские люди. Здесь я тебя всегда вспоминаю. Помнишь твое первое выступление на совещании? На Литейном, кажется. Мы тогда с Асламазяном вместе сидели – он у нас – голова. Башковитый мужик, хоть и армянин. Так вот. Тогда ты нам не понравился. Ты уж прости, но думали, ты пустомеля. «Не с врагами-де работаем» – помнишь? «Бережно относиться к согражданам». А ведь ты прав Сергачев, Николай. Хорошее имя. Коля, Николя́, Ника, Кока… Николай – победитель, «победитель народов», точнее… Да, я когда-то увлекался ономастикой. Полезная вещь. Иногда очень много может рассказать о носителе имени и, особенно, о его семье, о родителях, давших это имя. Ты это учти, Николай… Да, так прав ты был тогда. Я это только сейчас понимать начинаю. Вот и с курильщиками. Он пару суток без курева посидит – и здоровью его поправка, и нам – польза. Приведут его, а ты так небрежно открываешь коробочку «Казбека» или надрываешь пачечку «Беломора», он смотрит, глаз не отрывает, слюну сглатывает, а ты так ласково свои вопросики и задаешь. Никакого насилия, никаких угроз, только папироской по столу постукиваешь, мундштук продуваешь и спрашиваешь. Он сразу не ответит. Он тебя даже и не слышит. Его внимание на этой папироске сосредоточено. У него всё внутри переворачивается. Хорошо, не торопись. Пусть захлебнется своими соками. Потом зажигалку вынимаешь, перед его носом крутишь, большим пальцем к кремню примериваешься, даже поскрипываешь им. А потом опять-таки ласково и предлагаешь закурить. Но не просто так. «Если скажешь, вся пачка – твоя». Поверь, он даже не спросит, что надо сказать. Подложишь ему вопросик, что он африканский шпион, или – его жена члена Политбюро собиралась изнасиловать, или его начальник – академик работает на марсианских евреев – что угодно, он всё подпишет. Курево – великая сила. Сам не курю и тебе не советую. Да… А тогда ты был прав. Тоньше надо работать. Читать больше, учиться. Только на силу надеяться нельзя. Впрочем, и мы до тебя суп лаптем не хлебали, так, кажется, говорят. Помню, мне надо было одну дамочку обломать. Ты с ней знаком заочно. – «Морозова» – жена «Лингвиста». Нет, конечно, можно было много чего к ней применить. Ты же понимаешь. Красивая была женщина. Причем ничего нам от нее не надо было. Надо было только сломать. Больно уж у нее муж строптивый был. Строптивый и гнилой. Хотя… Мужик неплохой. Умный. С породой. Из порядочных. Думать, правда, любил… Ну, с ним разобрались. По методу Рюмина. Михал Дмитриевича. Помнишь? Еще кофейку? О чем это я? Да, о куреве… нет, о той дамочке – жене твоего «Лингвиста». Вот ту дамочку мы и пальцем не тронули, а сломали как тростинку. Мужа ее гнилого не смогли, честно скажу, не смогли. Калеку из него сделали по методу товарища Рюмина, земля ему пухом, садисту. Казалось, всего лишили, даже самого главного. Ан нет, свои мыслишки не изменил. Впрямую антисоветчиной он не занимался, всё больше об истории размышлял, про иудеев да Христа думал, но не только думал, но и мыслями своими делился. Да ты сейчас в курсе. Тут впрямую не ухватишься, статью так просто не впаяешь. Поэтому сослали на поселение. Но жинку его сломали. И, заметь, пальцем не тронули, никаких угроз, никаких компроматов. Просто я велел ее в районное отделение милиции пригласить и там подержать в коридоре, знаешь, в закуточке у самого обезьянника, там, где воняет мочой, блевотиной, говном… и поставил двух ментов – самое быдло ментовское – это не наши ребятки с парфюмом и в галстучках, а скотобаза вонючая. Эти ребятки сами с собой вели беседу, что они с этой телкой делать будут, как оприходуют ее вместе и по очереди. Во все дыры до полусмерти. А потом в общую камеру отдадут к мужикам голодным. Ей не угрожали, к ней вообще не обращались, а так, между прочим, базарили. Других ребят приглашали посмотреть на эту сучку, пофантазировать, как драть ее будут. Минут через двадцать я ее вызвал. Это был уже другой человек. Вошла та же высокая, красивая, статная баба, а глаза – мертвые. И полубезумные. У нее крыша поехала. Она мне чего-то про Грибоедова лепетала. Да, про писателя, «Горе от ума». А была неприступная красавица. Царица. Ей бы в кино Екатерину Великую играть. Говорят, спилась. Жаль, конечно. Редкий был экземпляр. Я сам – из простых, но породу уважаю. Так что, прав ты был. Тоньше надо работать, с выдумкой, а не челюсти ломать. Вот и пригласил я тебя, чтобы предложить работать моим заместителем. Мы сработаемся. Ты у меня поучишься, я к твоим методам присмотрюсь. Мне необходим человек с широким кругозором, умеющий дискутировать, сомневаться, соглашаться, но, что бы ни было, идти к цели, добиваться результата. Мне позарез нужен человек, которого любой университетский интеллектуал за своего примет. Ты, Сергачев, как я знаю, сосредоточился на работе с интеллигенцией, особенно на истфаке, юрфаке, в Пушкинском Доме и вообще на гуманитариях. Это – очень перспективное направление. Можешь хорошую карьеру сделать. Ты уже начал работу с письмами по делу «Лингвиста». – Хорошо начал, толково анализируешь и, главное, грамотные выводы и рекомендации делаешь. Продолжай. Иногда читаю твои записки и дивлюсь: будто до Минска ты не Военмех заканчивал, а филфак какой… Да не благодари… И не смущайся, как девица… Да… Имей в виду, Филипп Денисович на таких, как ты, делает ставку. И самое главное: я знаю, ты занимаешься тайком, в нерабочее время прогнозированием развития страны, системы. Ты не отнекивайся. Я не компрометировать тебя хочу. Я подсказать хочу. Ты нас, стариков, за монстров держишь, я знаю, не виляй. В чем-то ты и прав. Но главное – мы одно дело делаем, по-разному, с разным опытом, с разными тактическими принципами. Но одно дело. Одной стране служим, родному народу. Но главное – нашей Организации! Так вот, занимайся этими прогнозами. Пиши докладные прямо Бобкову. Он тоже этим увлечен. Насколько я знаю, он создает или собирается создать аналитическую группу. Заинтересуй его. Поверь, Сергачев, я и мое поколение скоро уйдет. Пора. Я хочу, чтобы нам на смену достойные кадры пришли. Современные, грамотные, инициативные. Время костоломов с четырьмя классами прошло. Так что Филипп Денисович внимательно относится к таким думающим людям, как ты. Поработай с творческой, гуманитарной интеллигенцией. Поднаберись опыта. И учись у них, учись. Ну, бывай. Мне пора. Слушай, и бросай ты курить, друг мой Николай.
* * *
Дорогая ты моя Катерина, привет!
Наконец собралась. Ты будешь смеяться, но, действительно, нет времени. Утром – бегом к морю. Здесь не надо занимать места на пляже, как в Алуште, просто не хочется терять время на солнце и на море. На пляже мы сидим, жаримся, купаемся до одурения, пока животы не подведет, потом обедаем в приличной столовке – здесь всё приличное, а потом надо поспать или поваляться дома. Затем – опять на пляж, вечером долго не сидим, но искупаться надо. Ну, а под финал дня либо на танцы, либо дома сидим и ужинаем. Пару раз ходили в ресторан, но там дорого. А дома – красота, никуда не хочется. Мы покупаем фрукты, овощи и вино на базаре, кукурузу варим, с собой мы взяли консервы, в магазине – вкусный хлеб, бывает козий сыр. Что еще надо?! Жаль, что Кока не любит выпить, а то я спилась бы, наверное, так это вкусно – домашнее вино с сыром, помидорами, кукурузой, фруктами. Пишу тебе не потому, что исправилась и моя совесть заговорила, – ее, думаю, у меня нет, а потому, что весь день идет дождь. Кока читает свои умные книги – впервые за весь отпуск раскрыл. Зачем было тащить? Читает и думает (скорее – дремлет), а я пишу. Ты уж прости меня, грешную. Я загорела и обгорела. Нос лезет. Но это – не важно! Важно, что я счастлива!!! Господи, как я счастлива!
Как там в городе? Наверное, моросит, как всегда. Как Кузя? Он такой сладкий, не обижай его. Ничего, что он робкий и молчаливый. Зато честный и преданный. Он мне сказал на Петрушке: «Я так вам завидую!!!» – Имей это в виду! Если надо будет, мы дадим вам наши кольца, чтобы вам деньги зря не тратить. Мы их всё равно не носим. Не в них счастье.
Прости, что я раскудахталась, как наседка. Просто давно с тобой не виделась и не болтала – целых десять дней. Всё, что со мной происходит, на бумаге не изложить, но я постараюсь.
По порядку, коль скоро льет, как из ведра. Я думала, что такие дожди – на Кавказе, но и в Крыму бывает. Я рада, что ты не обиделась. Думаю, что и Кузя не в обиде. Все остальные, особенно предки, наверное, в шоке. Накупили подарков, и на тебе – молодые смылись! Но, Катеринушка моя, родная, нам с Кокой Мендельсона и теплого шампанского хватило и на Петра Лаврова. Выполнив гражданский долг, мы нырнули в купейный вагон и с радостью представляли, что не сидим в каком-нибудь «Метрополе» или «Садко» и не жуем пожарские котлеты под крики «горько». Мы нацеловались еще до Петрушки!!! Нам круто повезло! С нами в купе ехала одна потрясающая пара – старички, лет под пятьдесят. Он – профессор ЛИИЖТа, а она – доцент из ЛИСИ. Во-первых, у них была масса деликатесов, которыми они нас угощали. Во-вторых, и это – главное – они нам подсказали, куда ехать в Крыму. Название сначала насторожило – «Рабочий Уголок». Это – под Алуштой. Но сейчас мы понимаем, что это – рай. Наверное, в Алупке, Мисхоре или Симеизе красивее. Но там и дороже и, наверняка, многолюднее. Здесь же спокойствие, тишина, чистейшее море и относительно зелено, по сравнению с Алуштой. И публика очень приличная. В этом Рабочем Уголке я лишь один раз видела рабочих, которые ремонтировали дорогу. В основном – интеллигенция средних лет из Ленинграда и Москвы. Есть и студенты – аспиранты, но мы, как правило, тесно ни с кем не общаемся. Нам хватает – вернее, не хватает – друг друга!!! Как это здорово!!! Пару раз ходили в Алушту – можно и доехать на автобусе, но пешком лучше. Минут тридцать средним темпом. Можно идти по асфальту вдоль моря, но лучше – по тропинке метров десять над морем, среди деревьев, кустов и цветов. Благоухание и вид потрясающие.
Здесь одна проблема – ограниченность жилья, сдаваемая приезжим. Однако, если вы с Кузей надумаете, я дам адрес и рекомендацию, как нам дали наши милые попутчики. Мы снимаем комнату у одной пожилой женщины-армянки, которая обычно комнату не сдает. Она – вдова какого-то летчика-испытателя, погибшего пару лет назад, поэтому у нее приличная пенсия за мужа, и она не нуждается. Но нам она сдала, потому что наши старички-профессора ее попросили, а она их знает и уважает. И с нами она подружилась, часто угощает своими очень вкусными блюдами: один раз это была толма – Кока обожает все эти восточные прелести, один раз – целую бадью супа бозбаш эчмиадзинский – никогда раньше не пробовала эту роскошь, а еще – пару раз бастурму – всё собственного изготовления. Про толму должна сказать тебе отдельно. Это – нечто!!! Толма бывает разная. Наша Каринэ любит готовить «Толму аштаракскую». Специально для тебя записала рецепт (боюсь, у меня терпенья не хватит). Итак: нужно иметь яблоки и айву (где в Питере достать айву, понятия не имею), предварительно, конечно, подготовив грамм 100–150 баранины в виде фарша, дальше надо сварить бульон из костей баранины, оставшихся после отделения мяса. Яблоки и айву надо промыть и срезать кружочками верхнюю часть, а также вырезать сердцевину. Подготовив таким образом айву, надо ее поварить в бульоне, но не до конца. В подготовленные яблоки засыпать немного сахарного песка и нафаршировать яблоки и айву мясным фаршем. Затем прикрыть их срезанными верхушками, а потом уложить в кастрюлю сначала айву, а на нее яблоки. Дальше – засыпать по вкусу черносливом и курагой (курага тоже проблема в голодном Ленинграде), влить бульона – не переборщи – и прикрыть опрокинутой тарелкой. Затем закрыть кастрюлю крышкой и на малом огне доведи до готовности. Посыпь петрушкой и кинзой – пальчики оближешь. Да, забыла про черный перец – чуть-чуть, репчатый лук – по вкусу, укроп и прочие дары кавказской кухни. (Она еще называла зелень чабреца, эстрагона, майорана, но я не знаю, что это такое. Думаю, эти травы можно купить на Мальцевском или, тем более, на Кузнечном рынке). Эти все специи вместе с полуотваренным рисом смешать с бараньим фаршем. Я, к сожалению, не создана для кухни. Меня хватает на яичницу и макароны с тушенкой. Но – при всех этих гастрономических чудесах нашей милой Каринэ, ее отношение к нам – прямо материнское – перевешивает.
Ну, мы тоже сделали ей подарочки – специально взяли с собой пару коробок ленинградских шоколадных конфет и несколько сухих шоколадно-вафельных тортиков, которые ей очень понравились.
С Кокой, как ты понимаешь, у нас всё в порядке. Скажу честно, я мало его знала. После той встречи в Спасо-Преображенском соборе (всё время вспоминаю тебя: если бы ты не «уронила» свою перчатку, то… – страшно представить, что было бы со мной без Коки…), с того знакомства мы же не встречались пару лет. Я поступала, не до того было, потом в университете закрутилась – не только и не столько из-за учебы, как ты понимаешь. Новая жизнь! Случайно на остановке автобуса на набережной Невы я увидела его опять – помнишь, я, как сумасшедшая примчалась к тебе с этой невероятной новостью. Оказалось, что он тоже учится в этом же университете, но на два курса старше, и не на моем истфаке, а на филфаке. Ну, а дальше ты знаешь. Никто оглянуться не успел, как мы – в ЗАГСе – по-нынешнему во Дворце. ЛеоНик всё повторял: «Я даже иконку не успел снять!» – это у него – партийца – шутка такая. Вообще-то он мужик стоящий, хоть и партийный, но порядочный. Я вижу, как он в форточку курит, когда слушает всякие гадости о Сах. или Сол.
Так вот Коку я только сейчас начинаю понимать и узнавать. Потихоньку. Сначала нам вообще не до разговоров было. Господи, как с ним хорошо. Я читала, конечно, о «любовных восторгах». Но чтобы так!!!!!!! Когда приеду, расскажу. Иногда даже коленки трясутся. Ну, а после этого начинаем говорить. Это тоже ужасно интересно. Он филолог; как он говорит, это у него – наследственное. Он очень гордится своей фамилией (теперь это и моя фамилия), но я впервые ее слышу. В отличие от своего известного предка (знаменитого филолога – я о нем ничего не знаю), он занимается не славянскими языками, а германской группой. Сейчас что-то пишет (статью для аспирантуры) про «Нибелунгов». Помимо этого он увлекается классической музыкой, хотя никогда ею не занимался (в отличие от меня – я занималась лет десять, но не знаю и не очень-то ее люблю). Плюс он свободно читает по-английски. Представляешь – по-немецки, по-английски и немного по-французски. Обалдеть можно. Я еле-еле по-английски волоку, да и то со словарем. Правда, сейчас вплотную занялась польским. Это – для моей науки, для всех моих Владиславов, Мнишек, Стравинских, Гонсевских, Жолкевских… Какой он умный!!! Я – не про Жолкевского, я – про Коку! И еще – по секрету. По большому секрету. Никому, пожалуйста, не говори, если не хочешь и его погубить, и меня. Тогда он в церкви не случайно оказался, не то, что мы – две дуры. Он действительно верит в бога. (Наверное, слово «Бог» пишется с большой буквы? – мне у него неудобно спрашивать). Он даже молится дома, тихонечко, чтобы никто не слышал. Я даже запомнила то, с чего он начинает каждое утро: «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь». И заканчивает: «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу…» – дальше не помню. А перед сном (если я его не «отвлекаю»): «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь». И он не только произносит эти и многие другие слова. Но, видимо, и живет, как нужно жить верующему. Я пыталась втянуть его в разговор, действительно ли он верит в существование Бога, и он охотно идет на него, но я ничего не понимаю, он говорит про вещи, ему абсолютно ясные, а для меня это – какая-то заумь. Правда, потихонечку я начинаю понимать его систему мышления… Впрочем, я счастлива, что он – такой. Мне все в нем нравится – от запаха его кожи, до доказательств существования Всевышнего. Хотя… Хотя, я всегда думала, что верующие люди – мягкие и всепрощающие – вспоминала Льва Толстого с его «непротивлением злу насилием» и то немногое, что вынесла на эту тему из университетских курсов по истории, а также по научному атеизму, научному коммунизму, диамату, истмату и прочей белиберды. И Кока, в общем-то, такой. Но тут произошло одно ЧП, и я его не узнала и испугалась. Таким я его никогда не видела и не представляла. Страшно вспомнить. Короче, наши шапочные знакомые из московской «Баумановки» уговорили пойти на танцы в Алушту. Танцы были дрянные провинциальные, музыку ставили допотопную. Но ничего. Попрыгали, попотели. На обратном пути к нам пристали двое местных парней – мы возвращались с Кокой одни, так как эти брызжущие оптимизмом и не стихающим весельем москвичи быстро надоедают. Этим жлобам не понравились брюки Коки. Вернее, не брюки, а спортивные синие шаровары, сужающиеся к низу. Они стали отпускать реплики, что Кока – «стиляга», что они – «комсомольский патруль», что не позволят столичным бездельникам устанавливать здесь свои «стиляжные порядки» – дремучие жлобы. Кока сначала отшучивался, я даже подумала, не трусит ли он. Парни были здоровые. Но потом один, что-то сказал про меня. Какую-то гнусь. Что-то вроде «подстилка». Кока опять вяло отшучивался. И вдруг прыгнул на этого – самого здорового. Боже, что началось!!! Ты себе не представляешь!!! Как он его бил!!! Это был не Кока, а какой-то бешеный зверь. Он ничего не соображал от ярости. Я кричала, другой парень тоже кричал и пытался оттащить Коку. Они явно не ожидали такой его реакции. Кока вырубил высокого – самого здорового и бросился на второго – низкорослого. Тот с криком побежал. Я накинулась Коке на плечи, и он вдруг моментально успокоился. Тот, который лежал на земле бормотал, сплевывая кровь, что найдет и поквитается, но Кока уже не реагировал на него, и мы ушли – спокойно и не торопясь. Парней я этих не боюсь – мы живем не в Алуште, а в Рабочем Уголке, и на эти танцы больше ни за что не попремся. Но вот, вспоминая разъяренного Коку, я холодею, мне делается страшно. Это был какой-то зверь, ничего не слышащий и ничего не видящий, бьющий остервенело, безжалостно…
Уф, выпила воды и немного успокоилась. А в остальном, прекрасная маркиза… всё, право слово, замечательно. Мне с ним ужасно интересно, думаю, и ему со мной! Я ему рассказываю о своем «геморрое» – о Смутном времени, о Шуйских, Мстиславском, о страшном голоде, что меня особенно занимает, и его последствиях. Когда я ему рассказала о том бедствии, которое свалилось на Русь в самом начале семнадцатого века – имею в виду жуткий неурожай 1600–1603 годов, – он смотрел на меня глазами ребенка, которому рассказывают страшную сказку. «Сказка», действительно, страшная – тогда даже летом были заморозки, и в результате голода погибло более полумиллиона человек – для тогдашней России это немыслимо огромная цифра (Кока добавил: «а для нынешней страны это что, приемлемо?» – он прав, как всегда!!!).
Впрочем, Кока тоже не ленится меня просвещать. Поразительно, но он глубоко убежден, что лучшее время человечества – начало новой эры, то есть первые два – три столетия после рождения Христа. Да, да, не девятнадцатый век, как я всегда считала, а именно то далекое и, как мне казалось, мрачное время. Он убежден, что это была эпоха терпимости и жизни по заветам Иисуса. Теологические споры были непримиримыми, но взаимной ненависти, уничижительности и личного озлобления не было.
Катюша, выглянуло солнце – надолго ли, не знаю. Поэтому иду будить моего красавца – он спит, положив на лицо свою умную книгу на немецком языке – естественно, ночью мы не высыпаемся!!! Он так сладко похрапывает!!! Мой папа храпел, мой отчим храпит, мама же – громче всех, но Кока – изящно, виртуозно и остроумно – с вариациями, но деликатно. Разбужу его, и пойдем искупаться. Здесь, кстати, проблема с мытьем – ведерко и тазик – все «удобства».
Всё. Целую. Не обижай Кузю.
Есть еще одна тайна, но я тебе сейчас не скажу. Немного подожду. У меня всегда было, как часы. Ну, посмотрим еще недельку.
Пока! Твоя Ирина С. (урожденная В.)
P. S. Хотела дать тебе еще один рецепт. Но забыла. Мы искупались, и пока К. что-то переводит, я тебе его напишу. «Бозбаш эчмиадзинский». Купи грудинку баранины, нарежь ее на кусочки, залей водой и вари в кастрюльке под крышкой на малом огне, снимая пену. Когда она чуть сварится – так, наполовину, вынь из бульона и поджарь на сливочном масле. Поджаренные куски баранины залей процеженным бульоном, добавь туда поджаренный репчатый лук, картофель и баклажаны, стручки фасоли, нарезанные поперек, перец. Вари до полной готовности, потом добавь помидоры (нарежь ломтиками), кинзу, базилик, укроп и петрушку, можешь влить грамм пятьдесят коньяку (это Каринэ не говорила, я так предполагаю, не помешает!!!) – и на стол. Приготовь к нашему приезду – а?!?! Так хочется вкусно поесть, поболтать с тобой и выпить чуть-чуть.
Пока никаких новостей… Жду…
Твоя И.Рабочий Уголок, Крым.
* * *
Такое событие надо было отметить. Вообще-то Николай не пил не только потому, что занимался спортом, а занимался он спортом серьезно и упорно, как, впрочем, делал всё, что как-либо касалось его профессии: по самбо он имел первый разряд, по лыжному спорту перед самым окончанием Высшей школы выполнил норматив кандидата в мастера. Не пил, прежде всего, так как омерзителен был ему вид пьяного человека – смешной, нелепый, глупый, и, главное, агрессивно-беспомощный, еще больше не любил он пьяные компании, беседы плохо соображающих и невнятно говорящих людей – в таких компаниях ему приходилось бывать часто, но он почти не пил, делая вид, что пьет и находится в таком же плавающем состоянии, как и все остальные. Да и не нравился ему вкус крепких алкогольных напитков. Если уж и выпить, то хорошего вина, скажем, Киндзмараули или Твиши… Вот и зашел он в магазин к Гургену Ильичу и взял бутылку Ахашени – ничего другого у его негласного коллеги не было.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.