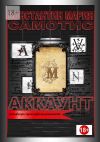Текст книги "Повести Пушкина"

Автор книги: Анатолий Белкин
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
К вечеру похолодало, и, как это часто бывает в Петербурге, за час погода изменилась. Стало морозно и скользко. Появилась позёмка. Лужи на глазах затягивались кристаллическими струпьями и превращались в маленькие и опасные катки, которые ранним утром дворники посыплют опилками с солью, если они сами до утра не растают. Столицу переменой погоды не испугаешь. И не такое переживала…
Илья Евгеньевич поправил кашне и уже поднял ногу, чтобы двинуться по своим делам, как опять заметил лежащий совсем рядом червонец. Скорее инстинктивно, чем осознанно, Хорьков сложил заледеневшие пальцы, мелко осенил себя крестным знамением и решил изменить тактику. Он очень медленно, крохотными шашками стал приближаться к монетке. Та лежала совершенно неподвижно. В полушаге от неё он стал так же тихо, стараясь унять дрожь в ногах, нагибаться. Червонец продолжал лежать. И когда между его ладонью и асфальтом осталось не больше двух вершков, он-таки пришлёпнул его. Больно ударил руку о холодную землю, но награда того стоила! Однако радовался он недолго. Отняв ладонь от земли, оторопевший Хорьков, кроме грязи и ссадины на ладони, ничего не обнаружил. Червонец преспокойно лежал чуть-чуть левее. Он, бросив кофр, принялся колотить руками по земле. Это было странное зрелище: прилично одетый господин на четвереньках ползает по холодному тротуару и колотит по нему руками. Стали собираться зеваки. Заметив толкучку, с площади, от памятника, медленно двинулся городовой, сам удивительно похожий на бронзового царя, которого он охранял. Увидев человека в хорошем пальто и приличных ботинках, ползающего по земле, городовой нагнулся и похлопал Хорькова по спине. Тот поднял голову и уставился на полицейского.
– Что вы, господин хороший, тут по земле ползаете? Может, обронили что? – спрашивал полицейский, а сам нюхал воздух. Не пьяный ли? Нет, сивухой не пахнет…
– Да я тут, видите ли, очки обронил, – неожиданно для самого себя соврал Илья Евгеньевич, приподнимаясь.
– Очки, говорите… – задумчиво произнес городовой. – Так вот же, они на вас и висят, – он рукой в перчатке осторожно приподнял шнур с пенсне, свисавший из-за уха коллежского секретаря.
– Ух ты, а я уж обыскался, – органично вошёл в роль Хорьков. – Ну надо же! – И он начал пристраивать пенсне на носу.
– Порядок, значит! Нашлись… – удовлетворенно в усы проговорил полицейский. А сам подумал: «Профессор, как пить дать, профессор, а может, и академик даже. Приятно иметь дело с приличными господами. Ни мордобоя, ни блевотины, ни протокол составлять…» – И пошёл прочь.
Но Илья Евгеньевич был настроен решительно. Ещё разговаривая с городовым, он краем глаза заметил золотую искорку, мелькнувшую по земле в сторону Лиговского проспекта. Он сколько мог проследил за ней взглядом и теперь намеривался отыскать проклятый золотой. Даже просто из принципа!
Его расчёт оказался верен, впереди между мелькающих ног он заметил яркую точку и устремился к ней. И началась погоня. Всё как ветром выдуло из головы коллежского секретаря. Семья, сломанный протез, доктор Штайнер, канареечное пение, банкет… В голове осталось только одно: он просто обязан захватить этот проклятый червонец. Это и есть вызов судьбы, и неважно, что он предстал в виде десяти золотых рублей (сумма небольшая, хотя приятная). Судьба сама решает, как испытать человека… Между тем уже совсем стемнело и похолодало. На уходящей вдаль Лиговке газовые фонари стояли нечасто и были не слишком яркими. А в длинных, не имеющих конца проходных дворах вообще стояла полная тьма, и только свет из окон чуть-чуть приглушал ужас ночных дворов-колодцев и тёмных глухих брандмауэров. Но золотой десятирублёвик ловил на себе малейший отсвет любого источника и вспыхивал в кромешной темноте, облегчая задачу. Сколько продолжалась эта погоня, не знает никто, но в третьем, тёмном и узком дворе огромного доходного дома на углу Лиговского проспекта и Обводного канала, она закончилась. На серых и скользких ступеньках из пудожского камня, из которого сложены почти все парадные и чёрные лестницы Петербурга, на последней ступеньке лестницы в небольшом флигеле, стоявшем в глубинах этого бесконечного дома, перед самой дверью, обитой чёрным дерматином, измученный Илья Хорьков наступил-таки на проклятый червонец и торжествующе достал его двумя пальцами из-под каблука. В этот момент он почувствовал себя Гераклом, только что очистившим Авгиевы конюшни! Он – Буонапарт, схвативший за грудь Жозефину Богарне! И тут дверь приоткрылась. Вместе с полосой света и запахом домашней еды, обдавшего торжествующего Хорькова с червонцем в руке, из двери показалась молодая женщина в серой юбке и чёрном жакете.
– Что же вы мёрзнете, входите! Мы уже даже волновались. Думали, куда же вы запропастились? Давайте я вам помогу, – и она протянула прелестную тонкую руку к его саквояжу.
Илье Евгеньевичу вдруг сделалось так покойно и хорошо. Он, как само собой разумеющееся, передал сак, позволил снять с себя пальто и вслед за дамой прошёл вперёд.
В небольшой комнате под уютным абажуром за овальным столом сидели молодые и очень симпатичные на вид дамы и один молодой человек в модной сейчас среди образованной молодежи как бы крестьянской косоворотке. Все курили папиросы. Было дымно, тепло и уютно. Его появлению, кажется, никто не удивился. Кто-то поставил перед ним стакан чаю, а встретившая его барышня пододвинула к нему блюдо с бутербродами. Пока наливали чай, Хорьков незаметно пощупал в кармане золотой и почувствовал умиротворение и голод. Он глотнул крепкого сладкого чаю, взял бутерброд с ветчиной и тут услышал глубокий и очень приятный, словно зовущий куда-то голос. К нему, глядя из-под длинных ресниц серыми глазами, обращалась девушка, сидящая напротив.
– Я должна ввести вас в курс дела. Мы все здесь – сёстры. Революционерки, суфражистки и бомбистки. А это, – она кивнула в сторону молодого человека, – Каракозов Младший. Мы все заняты одним делом. И даже спим вместе.
Илья Евгеньевич почувствовал, что краснеет. А девушка продолжала:
– Каракозов делает нам бомбы, он в этом деле гений. Чем больше бомб – тем свободнее народ! За это мы готовы умереть! Вы можете не разделять наших убеждений, но сейчас это неважно.
Илья Евгеньевич сидел неподвижно с бутербродом в руке и не мог пошевелиться. Леденящий страх полз вверх по телу от самого пола, от пальцев ног и уже подступал к самому сердцу. А ужас нарастал. Не сводя с него своих магнетических серых глаз, девушка продолжала:
– Мы вас очень ждали, даже дежурили у двери. Мы решили единогласно, – все сидевшие вокруг стола кивнули, – кто первый к нам попадёт, тот и испытает новую бомбу. Она лучше, чем старые, те не всегда взрывались.
Тут на столе появились две жестяные банки из-под монпансье «Лира» и «Дюшес». Опять послышался тот же голос.
– Мы сейчас уйдем, а вы должны открыть коробку. В одной – бомба, в другой – конфеты. Это ваш шанс… к чаю… – Девушки захихикали. – И не вздумайте бежать. Уходить вам отсюда никак нельзя! Он вас застрелит.
Молодой человек опять слегка кивнул головой.
– Ну, всё… мы пошли. – Женщины с шумом начали отодвигать стулья и, весело щебеча, устремились в прихожую. Секретарю показалось, что одна из них, та, что его впустила, на мгновение повернула головку и послала ему воздушный поцелуй. Наверно, открылась входная дверь, потому что в комнату ворвался холодный воздух и чуть разогнал папиросный дым над столом. За ним остались сидеть двое мужчин. Каракозов Младший достал револьвер и направил его в левый глаз Ильи Евгеньевича.
– Открывайте! – тихим голосом приказал родственник цареубийцы. Хорьков не мог пошевелить даже пальцем.
– Открывайте! – снова повторил Каракозов, и секретарь почувствовал, как чёрный ствол револьвера почти упёрся ему в переносицу. Как во сне, не помня себя от ужаса, Илья Евгеньевич навалился на стол и судорожно потянулся за банкой «Дюшеса», но в последний момент понял, что это бомба. Обливаясь холодным потом, онемевшей рукой он осторожно придвинул к себе «Лиру»… и рывком повернул крышку. В ближайших дворах от взрыва вылетели все стекла…
Илья Евгеньевич вскочил и открыл глаза. Он сидел у себя на кровати. Рядом, положив руку под щёку, спала его жена. За окном, как всегда, виднелись деревянный сарай, край оврага, а за ним – колокольня. Раздался второй взрыв! Это дьякон Илларион опять стрелял по воронам.
«Так можно и на поезд опоздать», – подумал коллежский секретарь и начал приводить себя в порядок. Илья Евгеньевич уезжал сегодня в Петербург по двум важным делам.
26 ноября 1915 года, выйдя из вагона второго класса на перрон Николаевского вокзала, он с удовольствием глотнул морозного воздуха, похлопал себя по карманам, мелко перекрестился… и тут увидел, что прямо перед его ботинком лежит золотой десятирублёвик…
Дорогая скорлупа
От удара ветра старое кресло-качалка, стоявшее на длинной деревянной веранде, закачалось. Соломенная шляпа, лежавшая на кресле вместе с мотками грубой шерсти и воткнутыми в них спицами, подпрыгнула и слетела на пол, чем до смерти напугала енота, который лакомился крошками овсяного печенья, оставшегося от завтрака. Он молнией метнулся из-под стола, кубарем скатился по ступенькам и бросился прочь от дома. Новый порыв ветра принёс горсть дождевых капель и швырнул их на белые, за долгие годы выгоревшие на солнце доски веранды, где они почти мгновенно высохли. Небо из голубого и бесконечного вдруг превратилось в серое и низкое. На минуту-две наступила пронизанная электричеством тишина. На горизонте пару раз сверкнуло и… хлынул ливень.
Ну и слава Богу! А то лето было такое, что и ручей у холма почти пересох, и из скважины, что они пробурили три года назад, вода уже почти ушла. Этот, 1897 год стал ужасно жарким.
Энн Маккормик, дочь ирландских эмигрантов из Новой Англии, накинула на плечи вязаную кофту, посмотрела в окно на стену дождя. Через дырявую крышу в нескольких местах веранду заливали ручьи воды. Энн, обозвав себя ленивой дурой, бросилась убирать сушившийся на перилах плед, пару подушек, шерсть со спицами, кофейник и мужские сапоги, стоявшие на ступеньках и уже полные воды. В свои двадцать шесть лет Мария уже дважды побывала замужем. Но с мужчинами ей не везло.
Первый её муж, за которого она вышла в девятнадцать лет, Джерри Коэн – мелкий бандит, но невероятный красавец из Сан-Франциско. Он контролировал несколько борделей и баров в районе Хэй-Эшбери. Девочкам из хороших семей часто нравятся разбойники. Джерри имел несколько пар дорогих ботинок и туфель, носил на руке золотой перстень, знал всех уличных воров и подонков и бесстрашно хватал за задницу хорошеньких официанток в ресторанах. Это был его стиль. Коэн покупал ей новые платья и дорогие жакеты. На её трюмо в спальне стояли французские духи и пудра. Но уже через неделю после свадьбы он пришёл домой под утро, пьяный и со следами губной помады на животе. Она проплакала весь день. Он клялся, что это больше никогда не повторится, и, действительно, месяц или больше они прожили чудесно. Но затем он снова пропал на два дня. Она опять не находила себе места и плакала. Через год и три месяца после свадьбы его обнаружили лежащим голым в постели с перерезанным горлом в номере отеля на краю города.
Второй её муж – полная противоположность первому. Она долгое время сама не понимала, как стала его женой. Он был на десять лет старше и на полголовы ниже неё. Звали его Майкл Айренс, и он держал крохотную аптеку в двух кварталах от её дома. Он трогательно и робко ухаживал за ней около года и однажды, смущаясь, преподнес ей маленькое колечко с аметистом.
Их повенчали в церкви Святого Патрика, в присутствии немногочисленной родни и двух-трёх друзей. Они продали аптеку, собрали все деньги, что у них были, и купили пятнадцать акров земли на северной границе штатов Миннесота и Висконсин. Место красивое, дикое, и им обоим оно понравилось. Они мечтали о детях, но вместо них завели коров, несколько коз, индеек и кур. Приходилось работать каждый день с утра до вечера и иногда ещё нанимать сезонного рабочего. На жизнь им вполне хватало, но больше почти ни на что. И постепенно у Майкла появилось чувство вины. Он смотрел на стоптанные ботинки и застиранные юбки своей жены, и мысль о собственной никчёмности перед лицом любимой женщины наполняла его сердце болью и тоской. Его красавица-жена, которая раньше так часто смеялась, была весёлой и лёгкой, за два года жизни превратилась в уставшую, молчаливую, бедно одетую женщину. Даже в постели они уже почти не разговаривали, не говоря про остальное. Энн поворачивалась к нему спиной и тут же засыпала, как ребёнок, набегавшийся за день. А он ворочался и не мог заснуть до утра из-за мыслей об их жизни, о том, что у них до сих пор нет детей, об отсутствии денег, и мечтал о богатстве. Лежа в постели, Майкл придумывал невероятные проекты по добыванию денег. Способы были разные, и все неизбежно вели к богатству. Можно вступить в банду и грабить почтовые дилижансы и поезда, но для этого, как минимум, нужно было уметь стрелять, а он вообще никогда в жизни не держал в руках оружие. Ещё можно было стать шерифом и ловить преступников, за которых объявлена награда. Или, наоборот, стать умным, хитрым, неуловимым, но благородным гангстером и грабить только неприятных людей. Брать себе, сколько нужно, а остальное отдавать старикам и нищим. Или совсем экзотический способ, например, изобрести лекарство от мыслей о деньгах и продавать его очень дёшево, но по всей Америке… Это же мильоны!
Измученный этими миражами и бессонницей, он стал раздражительным и нервным. Айренс похудел, работал спустя рукава, почти перестал есть и часами сидел на веранде, покачиваясь в кресле-качалке. Он бесконечно курил и смотрел немигающим взглядом на заросшие лесом холмы за небольшим каньоном с почти пересохшим ручьём и поворотом грунтовой дороги, по которой уже давно редко кто ездил, словно ждал появления гонца с важным известием.
Энн с некоторой тревогой и возрастающим раздражением наблюдала за мужем. Она и так выбивалась из сил. Рано утром подоить и вывести коров, починить загон с овцами и налить им воды, покормить собаку. Затем индейки, куры, стирка белья в холодной воде, постоянная штопка и ремонт одежды, приготовление еды, мытьё посуды, опять еда, варка кофе, уборка, снова коровы и ещё тысяча мелких и неотложных дел… и так изо дня в день.
Она не родилась для фермы. Энн провела детство в Бостоне, где вместе со старшей сестрой училась в закрытом пансионате для девочек из обеспеченных семей. Её отец – известный адвокат и член городского совета. Маккормики жили в собственном доме с прислугой и кухаркой. Мать Энн, родом из Нью-Йорка, была веселой и лёгкой женщиной, дети видели её нечасто. Она бесконечно участвовала во всевозможных благотворительных лотереях, аукционах и вечерах. Перед каждым мероприятием она ехала к модисткам и заказывала соответствующее случаю специальное платье. Кроме всего, она состояла членом дюжины благотворительных обществ от «Помощи работницам, впервые сделавшим аборт» до «Добровольного общества взаимодействия по уничтожению тараканов». Когда отец внезапно умер от кровоизлияния в мозг, Энн исполнилось четырнадцать лет. Две девочки и их мать остались одни, с ворохом неоплаченных счетов и отсутствием денег в банке. Скоро слуг пришлось уволить, дом заложить, а потом продать. Сестра, уже с мужем и двумя детьми, давно переехала в Филадельфию, а мать переселилась в крохотную квартирку в новом районе и осталась жить в Бостоне.
Энн не роптала. Бог послал ей и еду, и кров, и даже мужа, у многих и этого нет. Но здесь, на ферме, ей очень многого не хватало. Ей не хватало подруг, с которыми можно обсуждать всякие глупости; красивых магазинов, без которых жизнь любой женщины становится тусклой;
красивого белья, чистых тротуаров, новых, пахнущих тонкой кожей перчаток, теплой ванны по вечерам и приятных разговоров за ужином. В конце концов, ей не хватало просто мужчины, который смотрел бы на неё влюблёнными глазами и хотел её… В редкие минуты, когда она думала об этом, чувствовала себя никому не нужной и обманутой.
Наступил август. Однажды, проснувшись, Энн обнаружила отсутствие мужа в кровати. Это было удивительно, она всегда вставала гораздо раньше, давая ему ещё поспать. Но ещё больше она удивилась, увидев на столе его записку. В ней Майкл писал, что любит её больше всего на свете. Просил его простить, понять, потом опять о любви… Эта банальщина вызвала у неё только недоумение. Зато потом следовало объяснение. Дескать, он придумал, как им разбогатеть и начать новую, интересную и яркую жизнь, и через три-четыре месяца он вернется, и непременно с деньгами, они продадут ферму, переедут в город. А потом поедут путешествовать. «Может, он действительно сошёл с ума? А я этого не заметила», – подумала она. А пока всё, что у него было, он оставил в левом верхнем ящике комода. И подпись: «Целую крепко, Майкл».
С того утра прошел год, а потом ещё один. От Майкла не было никаких известий. Вообще ничего! Словно его никогда и не было. Но на ферме она была не одна. Оказывается, перед своим исчезновением муж успел нанять в работники странного парня по имени Андрей, пришедшего из колонии русских староверов. И даже заплатил ему задаток. Парень не лентяй, не пил, говорил на английском с чудовищным акцентом, но отлично косил и скирдовал траву, доил коров и за неделю перебрал и залатал на доме всю крышу. Глядя, как он работает или просто идет по полю, она невольно вспоминала о муже… и он всегда проигрывал в сравнении с молчаливым парнем из неизвестной далекой страны. В час дня они садились обедать. Он мыл лицо, шею и руки, она стояла рядом и подавала ему чистое полотенце. Ели молча. Потом она убирала посуду, Андрей говорил «спасибо» и снова шёл работать. Вечером он выпивал стакан молока с хлебом, снова благодарил и шёл в сарай ночевать.
Но однажды, в день своего рождения, седьмого июня, Энн приготовила праздничный ужин – рагу с печёным сладким картофелем, тыквенный суп с кориандром, испекла настоящий морковный пирог. По такому случаю она надела свое лучшее шёлковое платье с белым воротничком и любимые жемчужные серёжки. Вынула из тайника и поставила на стол полбутылки виски и бутылку французского красного вина, оставшегося ещё со свадьбы. Андрей сидел за столом в чистой голубой рубашке и не знал, как нужно открыть вино. Он вообще ни разу в жизни не пил ничего крепче молока, но из уважения к моменту он всё же сделал пару глотков из бокала и ничем не выдал своего отвращения. А Энн впервые за много лет по-настоящему опьянела и чувствовала себя молодой, красивой и свободной женщиной. Когда Андрей, поблагодарив хозяйку, встал, собираясь уходить, она взяла его за руку и, ни слова не говоря, повела за собой в спальню. Это случилось больше года назад.
Сегодня Энн, как обычно, проснулась рано, но Андрей всё равно встал ещё раньше. Вместо него на столе уже стоял кувшин с парным утренним надоем, значит, уже подоил и вывел, с удовольствием подумала она и сделала большой глоток ещё не остывшего, пахнущего травой молока. Потом она пошла к загону с птицами, прихватив мешочек с сухой кукурузой. Ей нравилось, как куры и индюшки сбегались при её появлении, она любила их кормить, находить свежие яйца и в подоле приносить их в дом. Птиц было немного. Молодой индюк, пять индюшек и одна совсем старая, но несущаяся бабушка-индюшка. Кур было чуть больше. Разбросав корм, Энн увидела старую индюшку, которая даже не пошевелилась при её появлении. Подойдя к ней, она заметила, что та сидит на яйце. Такое бывало и раньше, но это яйцо было каким-то странным – скорлупа у него жёлтого цвета, и оно казалось гораздо тяжелее предыдущих. Это случилось 26 июня 1898 года. Вернувшись в дом, Энн положила яйцо на тарелку и решила поджарить маисовые лепешки, чтобы покормить Андрея, чинившего изгородь за ручьём. Или она слишком близко поставила тарелку к краю стола, или неосторожно задела её юбкой, но тарелка вдруг упала на пол и разлетелась на куски. Помянув всуе того, кого добропорядочные католички никогда не должны вспоминать, она нагнулась и обнаружила, что яйцо совсем не пострадало. Оно даже не треснуло и целехонькое лежало у ножки стола. После обеда она рассказала Андрею об этом, и они долго вместе рассматривали жёлтое яйцо. Решили, предварительно сварив, разбить его и посмотреть изнутри.
Двух ударов небольшого сапожного молотка оказалось достаточно, скорлупа треснула. Внутри оказался нормальный желток, окружённый белком. С виду обычное яйцо, и на вкус тоже. Но вот скорлупа оказалась странной – жёлтого цвета и в два раза толще.
Через день старая индюшка опять снесла похожее яйцо. Вдумчивый Андрей собрал все скорлупки от обоих яиц, подносил к свету, долго на них смотрел и что-то соображал. Потом он достал с полки деревянную мельницу для кофе, долго её чистил и протирал, а затем высыпал в неё все остатки скорлупы от двух яиц и начал молоть. Чистейший золотой песок, перемешанный с белой органической пылью, стал ему наградой.
Старая индейка продолжала приносить два-три яйца в неделю. И содержание золота в скорлупе колебалось от двадцати до сорока процентов. Энн Маккормик теперь каждое утро читала благодарственную молитву и бежала в сарай смотреть индюшку. А старовер Андрюша крутил ручку кофемолки. 12 ноября в городе Фергус-Фоллс они в первый раз обменяли золотой песок на настоящие деньги. Теперь они могли себе позволить гораздо больше, чем раньше. Но внешне жизнь Энн Маккормик и Андрея совсем не изменилась. Разве что в доме появились фарфоровая посуда и большой кожаный диван, который они привезли из города, да кое-какая новая одежда. Они так же, как раньше, вставали на рассвете и ложились спать вместе ранним вечером. Мария похорошела, пол в доме блестел, к ужину она теперь надевала новую юбку, а на постели её ждала шёлковая ночная рубашка. Для счастья этого было достаточно. Интересно, что из всех птиц на ферме жёлтые яйца несла только старая индюшка. Она выходила во двор вместе остальными, деловито клевала с ними один и тот же корм и пила с ними из одной кормушки. Правда, Андрей как-то проследил, что индюшка подрыла землю под сеткой, вылезла наружу и важно пошла в сторону ручья. Там она долго клевала траву на берегу, потом пару раз зашла в воду, присела, распустила крылья и, закрыв глаза от удовольствия, приняла ванну. Потом вышла на берег, отряхнулась, пустив веер брызг, и степенно вернулась в загон.
Однажды пожилая индюшка снесла яйцо настолько тяжёлое и такого ярко-жёлтого цвета, что они с Энн решили его оставить. Они положили его на красивое фарфоровое блюдечко с цветущими розовыми цветками по краям и поставили на дубовый комод. Вечером, когда зажигали керосиновые лампы, оно светилось на темном фоне старого дубового комода чистым золотом.
Может быть, виноват был золотой свет от яйца, как в мифе о Данае, или честная каждодневная работа непьющего старовера Андрея по ночам, но Энн забеременела. Дальше, слава Богу, как у всех, ничего оригинального – через девять месяцев у русского старовера Андрея и американки ирландского происхождения Энн родилась здоровая девочка весом в семь фунтов. Девочку назвали Сара. Казалось, счастье навсегда избрало своей резиденцией пятнадцать акров земли на границе Миннесоты и Висконсина. Но однажды в солнечный и совершенно безветренный день, Энн, идущая домой с трёхлетней Сарой на руках, уже у самого дома наступила, как ей показалась, на что-то острое и горячее. Это оказалась гремучая змея, одна из самых ядовитых змей Северной Америки. Энн вскрикнула и, хромая, всё-таки донесла дочку до веранды. Она смогла передать дочку отцу и потеряла сознание. На красной раздувшейся ноге, чуть выше щиколотки, виднелись две красные дырочки от укуса. Эни тяжело дышала. Андрей поскакал за доктором. Когда доктор прибыл, Энн была очень плоха. Осмотрев отёкшую ногу и сделав несколько инъекций, доктор покачал головой и сказал, что приедет завтра. Энн умерла на рассвете…
В 1904 году неизвестный прекрасно одетый молодой человек зашел в магазин Карла Фаберже в Петербурге, расположенный в доме № 24 по Большой Морской улице. Вместе с ним была девочка лет пяти-шести, которую он держал за руку. Пока управляющий отправился доложить о них Карлу Густавовичу, джентльмен и девочка говорили между собой на английском. Войдя в кабинет великого ювелира, посетитель перешел на русский и положил на стол золотое яйцо. Фаберже купил его тут же, не торгуясь. Через несколько лет русский Императорский двор приобрёл несколько драгоценных яиц. Карл Фаберже получил Высочайшее разрешение называться Поставщиком Двора Его Императорского Величества, а драгоценные яйца сделали его ювелирный дом знаменитым на весь мир.
В Петербурге, в самом космополитичном и роскошном городе Российской империи, обеспеченному человеку жилось неплохо. В конце концов, даже к погоде можно привыкнуть. Андрей с дочкой поселились в квартире на Екатерининском канале, недалеко от Казанского собора, с окнами на набережную. Зимой замёрзший канал превращался в каток (прямо как на картинах старых голландцев), летом здесь проплывали лодки и маленькие катера с большой медной трубой, а у гранитных набережных стояли, привязанные к чугунным кольцам, бесчисленные баржи с бревнами или бочками, покрытыми рогожей. Смотреть на это было никогда не скучно. Квартира была недешёвой, но для одинокого мужчины с ребёнком почти идеальной. Американская гражданка семи лет от роду Сара Андреевна Конева-Маккормик гуляла с няней по Невскому или в саду Николаевского сиротского института, быстро учила русские слова и с удовольствием лакомилась пирожными в булочной Филиппова в Перинном ряду. Сам Андрей, ставший Андреем Михайловичем, страстно полюбил «sinema» и с удовольствием перемещался из «Сплиндет-Палас» в «Пикадилли», a оттуда успевал ещё на сеанс в «Биофон-Ауксетофон».
Он, как это бывает в мировых столицах, быстро обрастал приятелями и знакомыми, захаживал в рестораны «Палкин», «Медведь» и «Вена». В «Вене» на Малой Морской он однажды познакомился с компанией, которая что-то отмечала за соседним столом. Это оказались знаменитые русские воздухоплаватели Михаил Ефимов, Федор Новицкий и Сергей Уточкин. Ефимов и Уточкин были из Одессы, но уже стали знамениты на всю страну. В Петербурге они искали место под новый аэродром и организовывали всероссийский клуб авиаторов. Видимо, они друг другу понравились и о чём-то договорились, потому что когда в Петербург прибыли первые французские аэропланы Анри и Мориса Фарманов, то именно Андрей готовил их к полётам и занимался профилактикой сложных французских авиамоторов.
Сара превратилась в очень хорошенькую девушку, дружила с музыкантами, молодыми поэтами и была нарасхват. Каждый день её куда-то звали, то в балет, то на музыкальный вечер, то ещё куда-нибудь. Её подруга, Ирочка Одоевцева, однажды привела её на квартиру совершенно ей неизвестного поэта по фамилии Гумилёв, и, кажется, Сара пожалела об этом. Он сразу стал за ней ухаживать и читать совершенно непонятные стихи, глядя только на нее. Больше Сара к нему не ходила.
Молодёжь веселилась, флиртовала, влюблялась. В ресторанах по вечерам не было мест, витрины магазинов блестели, отражая электрические огни. На театральные бенефисы было не попасть. Новые балеты бурно обсуждались на прекрасных домашних обедах или, как стало модно, за кофием в кафе (a la Paris).
Приезжали мировые знаменитости, их сменяли другие. Новые литературные журналы увеличивали тиражи, а в ателье «Смерть мужьям» на Невском, как всегда без опоздания, поступала партия лучшего «китового уса». Внутри, в изящных примерочных, пахнущие «Coty» дамы единодушно осуждали воланы и листали самые последние французские журналы. Но в воздухе носилось что-то тревожное. Tо тут, то там в самых неожиданных местах появлялись листовки с мерзкими карикатурами на Августейшую фамилию. В гостинице «Европейская», например, кто-то вложил гнусные картинки в ресторанное меню. Когда спохватились, скандал уже случился. Вызвали полицию, она допросила всех официантов и метрдотеля, но толку не вышло никакого. Так никого и не нашли. Были ещё признаки нового и неприятного. У Царскосельского вокзала пьяный матрос с разбитой мордой полчаса матерился во всё горло, обещая всех буржуев-сволочей, пьющих народную кровь, в скором времени перевешать на фонарных столбах. И что удивительно, чистая публика его обходила, пряча глаза, пока два полицейских его не повязали.
Новый, 1916 год начался прекрасно. Петербургская молодёжь уже года два повально увлекалась модным «скейтинг-рингом». Год назад его устроили в Александровском парке, на Петербургской стороне, недалеко от зверинца. Огромный круглый зал со стеклянной крышей, с живыми пальмами в кадках назывался «Заведение для народных развлечений императора Николая II». Сара с подругами и молодыми людьми собрались там в новогоднюю ночь.
Дамы полусвета, студенты, молодые актёры и актрисы, модная молодёжь, офицеры со спутницами и друзьями – все в эту ночь были там. Военный оркестр играл венские вальсы и «Амурские волны». Букетики живых цветов, шампанское, улыбки, легкий шлейф от духов, улыбки, воздушные поцелуи, смех, столики с закуской и вазы с фруктами… на фоне бесконечного весёлого движения вокруг огромной, пахнущей лесом ёлки с шарами и конфетти. В три часа ночи начался розыгрыш по лотерейным билетам. Билетики были розовые и голубые, для дам и кавалеров. Но выбрать можно было любой. Часто так и поступали, дамы брали голубые, a мужчины, для подарка, розовые. Все стоили рубль и прилагались к билету на новогоднюю ночь. Сара выиграла большого мягкого белого медведя и шоколадную коробку «Ландрин» с ангелочками и выпуклыми снежинками на голубой крышке. Около пяти утра, прижимая к груди одной рукой белого медведя, a другой держа бонбоньерку, уставшая Сара добралась до дома. Молодые люди помогли ей подняться и позвонили в квартиру. Дверь, хоть и не сразу, открылась, и прямо с порога она попала в объятия отца. Hа ходу скидывая с себя сапожки, шубку, жакет, она нетвёрдой походкой дошла до своей спальни и рухнула в постель.
Начался январь 1916 года. Так чудесно Новый год в России отмечали в последний раз. Когда 1 января пробила полдень пушка в Петропавловской крепости, кроме голубей, сорвавшихся с крыш, и ворон, поднявшихся с деревьев, её никто не заметил. Петербуржцы в этот день спали. Андрей Михайлович открыл глаза и посмотрел на стоящие у стены напротив напольные английские часы. Два часа дня… Он накинул халат и велел прислуге подать чай. Было тихо. От небольшой ёлки, стоявшей в гостиной, пахло хвоей. Под ней, как всегда, лежали подарки от Деда Мороза любимой дочке и ему самому, от него же. Послышался шум воды в ванной комнате, и ещё через полчаса появилась свежая, пахнущая утром и лавандовой водой восемнадцатилетняя красавица. Она чмокнула в щеку отца, налила чашку чая и принялась развязывать бант на бонбоньерке. Там оказалось шоколадное яйцо, покрытое золотой съедобной глазурью. Ну, а теперь… и они вместе, как много лет подряд, мешая друг другу, бросились к ёлке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.