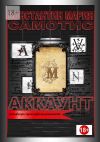Текст книги "Повести Пушкина"

Автор книги: Анатолий Белкин
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
XIV
Чудо на кухне
Я вернулся к себе в Фонарный переулок в начале декабря, в разгар кислой ленинградской зимы. Влажные стены домов, тротуары с серым снегом, посыпаемые такой же серой дробью дворницкой соли. В четыре часа дня начиналось смеркаться, а к семи вечера уже становилось темно. Неожиданные оттепели и внезапные похолодания, резкий холодный ветер с залива, чёрная заледеневшая корка снега на сугробах по краям улиц, опасные горки льда под водосточными трубами, лужи под Новый год и снег в конце марта. Передвижение по этому городу – серьёзное испытание для отечественной обуви, а другой у нас не было. Мое многолетнее ощущение от всех ленинградских зим – постоянно мокрые носки и коченеющие в бесконечных очередях ноги. Любой выросший в этом городе ребёнок помнит это ощущение. Зимних ботинок (они же весенние, осенние и снова зимние, то есть демисезонные) у меня было две пары. Одни – чёрные, фабрики «Скороход», с криво скошенным каблуком на правой ноге и невидимой дыркой в подошве на левой. От постоянного намокания и сушек на батарее эти говнодавы стали почти каменными. Когда они стояли у двери под вешалкой, то были похожи на памятник всем погибшим ботинкам. Но сносу им не было. Они были крепкие, вонючие и родные. Вторая пара была родом из Бельгии. В далекой молодости они были рыжими, как ирландская коммунистка или бомбистка Сара О’Коннор на фотографии в «Огоньке». Натуральная прочная кожа, прошитая прочнейшей толстой коричневой нитью, трёхслойная подошва из невиданной резины и каблук с рядом блестящих гвоздей! И широкие плоские парусиновые шнурки! Породистая пара, от которой за версту пахло заграницей! Отец привёз мне их на день рождения из Москвы. Где он их там достал, ума не приложу, но меня это тогда не интересовало. Они были на размер больше. Но это была не беда, значит, они со мной надолго! Ботинки были такой нездешней красоты, что первое время я боялся их надевать. Но, видимо, я родился уродом. С тринадцати лет у меня на ноге рядом с большим пальцем начала расти косточка. К семнадцати она превратилась в небольшую костную мозоль. Может, я привык, а может быть, она стала меньше, но я почти перестал испытывать неудобство. Но вот непруха! Бельгийские красавцы, несмотря на большой размер, причиняли мне вначале ужасную боль. Я терпел сколько мог. На улице, в трамваях, на остановках я ловил на себе быстрые, оценивающие взгляды женщин и чувствовал зависть мужчин. Дома я с трудом снимал ботинок с распухшей ноги. Заметив как-то, что я хромаю, и узнав причину, отец назвал меня дураком, взял ботинок и ушёл с ним на улицу. Я страшно переживал. Вернулся отец без ботинка, и я испугался, что он его выбросил. Но дня через два к нам пришёл татарин-сапожник с Фонтанки и принёс завёрнутый в газету мой ботинок.
– Надевай! – скомандовал отец.
Я надел и не поверил своим ощущениям. Нога попала в идеальный дом. Всё это время татарин стоял в передней, склонив голову набок, и часто моргал.
– Пройдись! – как бы строго сказал отец.
Я прошёл в одном ботинке по паркету перед ним, вперёд и назад.
– Порядок! – сказал отец. Сапожник заулыбался и стал переминаться с ноги на ногу, блестя золотой фиксой.
Отец сунул ему две смятые бумажки, и он, пятясь к двери, несколько раз пробормотал: «Если что, я как раз! Если что…».
Эти ботинки у меня и по сей день, хоть и не ношу их давно. Ноги другие стали, расползлись. А им хоть бы что! Сколько я в них отходил, а они только лучше сделались. Пообтерлись, для кожи это самый шик, чтобы казались не слишком новыми. Пару раз в полном безденежье уже чуть не сдал их в комиссионку. Да как-то в последний момент рука не поднялась. Единственный подарок отца, его переживший.
Ещё у меня есть ненадежные парусиновые туфли и сандалии. Туфли – одна рвань, а вот сандалии… В них летом за пивом ходить одно удовольствие! Идёшь себе с бидончиком, тополь цветёт, люди вдоль каналов с удочками стоят, покуривают, а ногам хорошо, легко! Ветерок через дырочки ступню продувает. От грибка самая лучшая профилактика. Правда, с пивом летом происходили странные вещи. В ларьках его приходилось дожидаться часами, а потом из окошечка вылезала морда ларечницы и заявляла: «Все! Сегодня пива не будет. Машина сломалась!». Очередь, матерясь, расходилась и отправлялась искать счастье к другим точкам. И как назло, это бывало только летом, в самую жару. Когда без холодного пивка жизнь становится совсем никчемной. А вот зимой, в слякоть, в самые промозглые дни, пиво подвозили бесперебойно, как по расписанию. Необъяснимый парадокс или продуманная система унижения униженных?
Зима прошла. Не быстро, но прошла. После «скворечника» я даже окреп как-то. На ежедневной каше с маслом и капельницах с булкой порозовел, начал забывать об изжоге по утрам, и руки сами собой перестали трястись. До конца марта я держался. Не выпивал. За это время я стал совсем одинок. Когда нормальный человек вдруг завязывает пить, не встречается со знакомыми у кассы в винном отделе, не курит в определённые часы у гастронома, перестаёт брать и давать в долг мелочь «до завтра», он исчезает. Как на войне. Твой полк, твои товарищи каждый день несут свои нехитрые, но тяжёлые обязанности, уходят всё дальше и дальше, а тебя уже нет с ними. Ты был ранен или убит – неважно! Ты остался где-то там, далеко, в земле или в госпитале.
Первое время в точке сбора ещё кто-нибудь спросит, типа: «А где этот, длинный в пальто?». И ему ответят: «А хрен его знает, чего-то не видно давно…». А спустя неделю-другую уже даже и вопросом не помянут. И правильно. Дел и так полно! Чтобы выпить каждый день, нужно много всего за день сделать.
Я маялся. Не знал, чем себя занять. Даже зашёл пару раз в Исаакиевский собор посмотреть на маятник Фуко. Он меня завораживал! Я мог бесконечно стоять и ждать, когда же он собьёт спичечный коробок. На это у маятника уходило минут семь. И я снова смотрел, как экскурсовод снова ставит коробок для новой группы туристов и снова ждал. Единственное место в городе, где земля вращалась! Больше нигде. Я каждый день, выходя на улицу, видел этому подтверждение. Всё оставалось на своих местах. Потом я отправлялся в столовку на бульваре Профсоюзов, брал борщ или щи за четырнадцать и двенадцать копеек соответственно. Хлеб, горчица, соль – всё на столе, бесплатно. Иногда брал ещё макароны с подливкой, тоже недорого, и был сыт. Потом шёл домой, ложился на кушетку и бесконечно рассматривал потолок и читал всякую муру. Выпивать я побаивался. Лежал и часто думал об отце. Я вспоминал о его просьбе и своём обещании. Но ехать в Ропшу зимой, трезвому, когда в десять утра ещё темно, а в пять уже темно, было невероятно лень. Каждый день я говорил себе, что на этой неделе поеду… и не двигался с места. Оправдывал я себя ещё и тем, что никаких животных зимой увидеть невозможно, да и я был уверен, что там вообще никого нет.
Я давно нигде постоянно не работал, поэтому денег у меня почти не было. Пока был жив отец, он поддерживал меня, раз или два в месяц подкидывал пару червонцев, а то и четвертной. Двадцать пять рублей – приличные деньги, если их не пропивать сразу. Ещё ему каждый месяц привозили «наборы», и не простые, как к 1 Мая или к Новому году давали небольшим начальникам в разных НИИ и на заводах, а особенные, обкомовские. В прочной коробке из картона обязательно лежали растворимый кофе в банке, палка сервелата, зефир в шоколаде или коробка с «птичьим молоком», баночка икры, болгарское лечо, сардины и селедка «в винном соусе», плитка чёрного пористого шоколада и в простом пакете конфеты «Грильяж» или «Мишка на севере». Словом, роскошные вещи. А один раз даже привезли ещё живого осетра, килограмма на три. И все это бесплатно и с доставкой на дом. Это классовое неравенство мне очень нравилось. Всё, что не успевала припрятать на «всякий случай» новая жена отца, перепадало мне. Она, как бурундук перед спячкой, тащила в свои бесчисленные ящики в комодах буквально всё, но отец всегда находил возможность подкинуть мне дефицитные продукты. Он знал, что я неудачник, и, наверное, жалел меня. Время от времени я устраивался на работу недалеко от дома. Разгружал хлеб в булочной, разносил бандероли с Почтамта или дежурил по ночам на вахте в Высшей партийной школе на Красной улице, в общем, жил не хуже других, а даже лучше. Но я выпивал, меня, конечно, выгоняли, и только отец держал меня на плаву. А я, эгоистичный подонок, часто забывал поздравить его с Днем рождения или с 9 Мая, единственным настоящим праздником оставшихся в живых.
Я уже говорил, что до марта, даже почти до конца апреля я не выпивал, пока в нашей квартире не произошла свадьба. В нашей коммуналке проживало шесть семей, то есть пять. Я до сих пор не знаю, одна старушка, жившая в узкой щели у кухни, может считаться семьей? У нас таких было две. Та, которая у кухни, Наталья Никитишна, пережила революцию, Гражданскую войну и бесконечные «чистки». Она всю блокаду тушила на крышах «зажигалки», пока сама не скатилась со скользкой крыши и, пролетев пять этажей, упала в сугроб. Самой вылезти у неё уже не было сил, но утром соседи её кое-как откопали и напоили кипятком. Так она и уцелела. Она была тишайшим, почти невидимым в квартире существом. Зато другая, которая жила сразу от входа справа, – сволочь редкая. Плотная, кривоногая. с вечно поджатыми узкими губами и по-бухгалтерски плотно затянутыми на затылке в пучок волосами. Звали её Тамарка. Эта тварь всю жизнь писала на всех доносы, жаловалась на продавщиц в магазинах, дружила с участковыми и своего последнего сожителя, бригадира сантехников из жилконторы, обобрала до нитки и однажды, подпоив, сдала пьяненького ментам. Вдобавок в кармане у него оказался её кошелёк с тремя рублями. Менты оформили ему «кражу», и поехал сантехник за Волховстрой на четыре года, а его комнатку у Техноложки пустили в оборот. Меня Тамарка своим классовым чутьём раскусила сразу. Она ненавидела меня самым прочным видом ненависти – беспричинным. Но увидев однажды, как я сажусь на заднее сиденье чёрной «Волги», уже не помню, по какому случаю присланную за мной отцом, совершенно остолбенела. А когда шофёр, выйдя из машины, любезно захлопнул за мной дверь, в её набитой опилками голове что-то произошло.
Меня Тамарка надолго оставила в покое, и мне даже казалось иногда, что она меня побаивается. А вот Наталью Никитишну она просто со света сживала.
И вдруг у нашей одинокой тишайшей Натальи Никитишны образовался взрослый внук! Он приехал из Риги, шумный, хорошо одетый, с невероятной красавицей-невестой и её братом, полковником милиции. Вся эта компания ввалились в наш гадюшник с шумом и треском, как будто внезапно затрещал старый ладожский лёд и двинулся в устье Невы. В руках у них были бутылки шампанского, какие-то кульки, а полковник еле протиснул в нашу дверь огромную коробку с тортом с надписью «Север», знакомой каждому ленинградцу с детства.
Внук приехал показать бабушке невесту и пригласить на свадьбу. В комнатке у Натальи Никитишны они все физически поместиться не могли. Потоптавшись у неё на пороге, гости переместились на кухню, где стояло четыре плиты и покрытые разной клеенкой шесть столов, по одному на каждую прописанную семью. Выбрав самый большой, внук схватил чужой графин и воткнул в него три гвоздики. В этом логове всех коммунальных склок, скандалов, в этом адском изобретении Советской власти, в этой провонявшей дешёвой едой коммунальной кухне никогда не было цветов. Поэтому даже трёх жалких гвоздик хватило, чтобы изменить унылую атмосферу места «совместного приготовления пищи». Они, как три маленьких светофора, одновременно горели красным, словно предупреждали кого-то или о чём-то. Полковник тем временем расставил бутылки и уже ловко перочинным ножичком вскрывал банку сайры. Всё горело у него в руках. Он, непонятно как, уже и хлеб успел нарезать и положить на него кругляши докторской колбаски. Красавица-невеста тоже даром время не теряла. Скинувши мутоновую шубку, она сполоснула чьи-то тарелки и резала на них апельсин кружочками. Расправившись с апельсином, она принялась за бледно-зелёный длинный тепличный огурец. В коммунальной кухне запахло праздником. Жильцы, столпившиеся в дверях, как завороженные смотрели на действо.
Гости бесцеремонно выдвигали их ящики, без спроса брали их стаканы, вилки, ножи, тарелки, соль и даже хлеб! Но никто ничего не говорил, казалось, что им это даже нравилось. В кухне творилось что-то неслыханное! Как будто снималось немое кино, где главные герои, замечательно одетые, красавцы и красавица были в центре, а остальные с удовольствием исполняли роль статистов. Они безмолвно играли роль прекрасных жильцов в замечательной коммунальной квартире.
Тут внук вывел на середину кухни Наталью Никитишну, и первая пробка от шампанского ударила в серое пятно протечки на потолке. Полковник начал разливать по разномастным стаканам «Советское шампанское», а красавица – передавать его притихшим от всего происходящего жильцам. Тамарка тоже стояла не шевелясь вжавшись задницей в свою плиту. Дошла очередь и до неё. Она так же вспотевшей от волнения рукой взяла стакан и, не мигая, смотрела на молодого полковника милиции. На столь высоком уровне ей ещё не приходилось выпивать. Подумать только, полковник милиции, улыбаясь, протягивает ей шампанское вино!
От страха и избытка чувств она, держа стакан, старалась как можно сильнее оттопырить мизинец, показывая культурность.
Тут внук сказал тост:
– Дорогие друзья, бабуля! Я женюсь на Ире, Ирине Владимировне, – и он приобнял красавицу за плечи. – Свадьба будет в Ленинграде, а это её брат родной, Андрей Владимирович. – Он повернул голову, смотря на полковника. Все присутствующие как по команде тоже повернули головы в его сторону.
– Теперь он мне тоже как брат. Ну, поехали! Ура! – И стал со всеми чокаться. Такой концентрированный, внятный, по-античному короткий тост всем страшно понравился, и оцепенение спало.
Наталья Никитишна сидела посреди кухни на табуретке, как воробушек на краю стола с крошками. Она комкала тонкий, с кружевами носовой платочек и на все поздравления и обращения к ней только мелко кивала седой аккуратной головкой и подносила платочек то к глазам, то к губам. Был разрезан, частично съеден и разнесён по комнатам огромный торт с нелепыми розами из заварного крема и виноградинками на белой глазури. Гости испарились так же стремительно, как и появились, но в атмосфере нашей старой коммуналки что-то изменилось.
Во-первых, акции Натальи Никитишны поднялись на недосягаемую высоту. Соседи наперебой стремились с ней первыми поздороваться и сделать какую-нибудь мелкую приятность; во-вторых, Тамарка, поражённая «связями» старушки, предложила вместо нее выносить помойное ведро и протирать в её очередь уборки коридор и туалет влажной тряпкой на швабре, но и это ещё не всё. Спустя дня три после визита гостей кто-то на лестнице начал трезвонить во все звонки, которыми, как положено, была обсыпана справа и слева вся наша входная дверь. Соседи, чертыхаясь, не зная, к кому действительно пришли, пошли открывать. За дверью стоял строгий молодой человек с аккуратным чемоданчиком в руке и сером плаще, застёгнутом на все пуговицы. Глядя на него, сразу стало понятно, что это не хулиган, который бегает по лестницам и звонит во все звонки, мешая людям отдыхать. Он был похож на милиционера в секретной командировке, как в фильмах о преступниках. Он решительно переступил порог и строгим голосом спросил:
– Где комната гражданки Сперанской?
Его провели по коридору прямо, потом направо и показали на комнату Натальи Никитишны. А сами, съедаемые диким любопытством, спрятались по своим норкам, оставив двери чуть приоткрытыми, чтобы быть в курсе.
Молодой человек очень деликатно постучал в дверку Натальи Никитишны, и когда она открыла, вежливо произнёс:
– Разрешите? Так… – озираясь в крохотной чистой комнатке, задумчиво произнёс он. – Где вам было бы удобно, чтобы я поставил аппарат?
Через минуту он вышел, уже без плаща, в костюме и с чемоданчиком. Пройдя по коридору, уже совсем по-другому, громко застучал в первую попавшуюся дверь. Оттуда выскочил таксист Коля в трениках и потной майке.
– Стремянку принесите! – скомандовал молодой человек.
– Стремянки нету, а лестницу могу хоть сейчас, она в кладовке. – Коля был готов на всё.
– Несите!
Так произошло чудо! В комнату Натальи Никитишны установили личный телефон! Эта невероятная история только укрепила положение старушки. Из последней забитой, презираемой жлобами и хамами парии она для них превратилась во влиятельнейшую тайную особу, перед которой надо кланяться и угождать, чем можно. Я был всему этому страшно рад, может быть, даже больше, чем она сама. С ней, единственной во всем этом гадюшнике, я здоровался и иногда перекидывался парой слов. А ещё только у неё я всегда мог стрельнуть на недельку рубль или трёху. Она никогда мне не отказывала, а я, в свою очередь, всегда отдавал.
Но полстакана отвратительного сладкого шампанского, которое мне, как и всем, налил её внук, прорвало зимнюю плотину. Это была мина, и я подорвался на ней. Всё опять полетело к черту! Я снова запил.
Но слово «Ропша» и не выполненная просьба умирающего отца точили меня изнутри, и это нельзя было залить никаким алкоголем.
XV
Мира
По какой причине я в тот день оказался у комиссионного магазина на Невском, мне уже не вспомнить. Стою, курю… Думаю, в какую сторону пойти, и вдруг слышу:
– Молодой человек! Молодой человек!
Повернул голову и вижу, ко мне обращаются.
– Вы мне не поможете?
Передо мной дама, на голову ниже меня, лет пятидесяти, может, и больше, даже сквозь пальто видно, что стройная, а рядом с ней – тумбочка красного дерева с мраморной доской сверху. Тумбочка веревкой обмотана, чтобы дверца не открылось при перевозке, а ящичек вынут и рядом стоит отдельно. Или купила, думаю, или, наоборот, сдаёт.
– Вы мне не поможете, – она кивнула на тумбочку, – эту рухлядь донести? Тут рядом совсем, в Басков переулок. Я вам три рубля заплачу.
За три рубля до Баскова я готов был и её на руках отнести. Во-первых, денег у меня вообще не было ни копейки, а тут три рубля прямо с неба валятся. Во-вторых, тут идти рядом, мы на Невском, рядом с Восстания стоим. А в-третьих, мне эта женщина очень понравилась, нечасто у нас такие лица увидишь.
– Хорошо, – говорю, – я свободен, донесу…
В одну руку тумбочку взял, второй рукой мраморную плитку под мышку. И пошли. Ящичек она сама понесла, но он вообще лёгкий.
Пришли на угол Баскова и Восстания. Поднялись на второй этаж. Большая дверь, обитая дерматином, один звонок, не коммуналка, подумал я.
– Вы её на кухню поставьте, пожалуйста, молодой человек, – попросила она.
По коридорчику, сплошь завешенному какими-то картинками, я за ней вышел на кухню и освободил наконец затекшие руки.
– Ну вот, выручили старуху. Спасибо вам, – и она протянула мне трёху.
– И вам спасибо! – Я взял три рубля и положил в карман.
Я двинулся к двери, она открыла замок. Я уже было начал спускаться, как услышал догнавший меня вопрос:
– А зовут-то вас как, молодой человек?
– Алексей, – с лестничным эхом ответил я и уже миновал один пролет. Но сверху пришел ещё запрос…
– Алексей, простите, а фамилия?
Это уже был явный перебор! Так нормальные люди себя не ведут. И я уже собрался её послать куда подальше, но почему-то крикнул снизу:
– Пушкин!
Со второго этажа в пролет лестницы склонилась головка:
– А вы не сын Николая Исаевича?
Наше лестничное общение явно затянулось.
– Да, сын.
– Послушайте, если вам не трудно, поднимитесь на минуточку.
Вот тут точно надо было сказать, типа, извините, спасибо, но мне нужно уже идти, и валить! Но вместо этого я, как дурак, опять поднялся на второй этаж. Что-то было в этой женщине. Я опять оказался в той же квартире, но уже в комнате.
– Я Мира, – представилась она и протянула сухую сильную руку. – А я, пока с вами шла, всё время думала: он мне очень одного человека напоминает. Хорошего человека и хорошего друга. Но, думаю, может, я, старая дура, совсем уже всё путаю, а теперь вижу, у вас и губы его, и нос. И голос. Да вы присядьте, я сейчас чай сделаю… Вы попьёте со мной чаю?
Она вдруг словно засомневалась в моей возможности попить с ней чаю.
– С удовольствием, – неожиданно для себя ответил я. Под чаем у Миры подразумевались винегрет, селёдочка под луком, пара ломтиков ветчины, блюдечко с маринованными белыми грибами, маленький графинчик с водкой и парой старых граненых рюмок.
Ну и, собственно, сам чай в виде расписного заварного чайника и двух таких же чашек с блюдцами. Всё это появилось само собой, из воздуха. Я дико хотел курить и от смущения вертел головой в разные стороны. На всех стенках тоже висели картины, похожие одна на другую.
Перехватив мой взгляд, Мира провела рукой полукруг и очень мило сказала:
– Это все работы Фалька. Мой муж его любил и помогал ему. Кое-что он покупал, некоторые Роберт ему дарил, – но заметив, что я никак не реагирую, она сменила тему. – Угощайтесь, прошу вас. Вы уж извините за сервировку, это так, на скорую руку… – иИ налила мне и себе из графинчика. – За встречу, – сказала Мира и мгновенно опрокинула рюмочку.
Я исполнил то же самое.
– Прошу вас, винегрет, грибочки… закусывайте.
После второй стало совсем неплохо. И я услышал голос Миры.
– Ваш отец, я знаю, умер, это ужасно! Я не смогла быть на похоронах, в больнице лежала… Как смогла, сразу поехала на могилу, на Смоленское.
Я посмотрел на графинчик.
– Да-да, простите, я за вами не ухаживаю совсем. – Она налила рюмку только мне. Я, видимо, вопросительно посмотрел на неё. – Давайте, дорогой! Но без меня, я и так уже пьяная… Мы с Вашим отцом дружили больше двадцати пяти лет. Мой муж, Моисей Блох, он был старше меня, работал юрисконсультом петербургского ипподрома, а затем в Торгпредстве в Берлине. Там он купил на все деньги, что у него были, оборудование для киносъёмки. Над ним все тогда смеялись. Уже в двадцатых годах он сдал его в аренду «Мосфильму» или «Ленфильму», уже не помню. Эйзенштейн, Вертов, Александров – все снимали на его камерах, других не было. Ну, деньги платили огромные… Мы до войны прекрасно жили. А в пятьдесят втором уже дело врачей, Михоэлса убили… И всё прочее. Ну и, конечно, моего Моисея тоже взяли. Кому я только ни звонила, куда ни бегала, но сделать ничего не смогла. Сама каждую ночь просыпалась, если у нашего дома машина тормозила. Думала, за мной. И вдруг звонок в дверь. Открываю, а там мужчина стоит: «Разрешите, – говорит, – пройти. У меня новости от вашего мужа». И письмо передает от моего Моси. Это был ваш отец. Он, оказывается, в то время аппарат какой-то важный, американский начальству НКВД чинил или подключал, и они с ним все пили. Ну и узнал про моего мужа, они с ним, оказывается, дружили раньше. Сам пришёл! И только потом я узнала, что он куда-то его затребовал, перевёл из тюрьмы в «шарашку», пока следствие шло, а потом, уже в пятьдесят четвёртом, его Хрущёв реабилитировал. В общем, ваш отец нашу семью спас. По-настоящему!
Я уже покончил с графинчиком. И слушал ещё одну замечательную историю про моего удивительного отца и думал: «А почему я такое ничтожное говно у такого прекрасного отца?». И вместо того чтобы поблагодарить Миру и двинуть домой… я совершил бестактность.
– Скажите, Мира… – Я в первый раз назвал её по имени. – А вы спали с моим отцом?
Мира в упор посмотрела на меня и очень спокойно и отчётливо произнесла:
– С вашим отцом все спали. Но мне повезло больше, чем многим. Я ещё и любила его!
И встала. Я понял, что мне пора. Но тут совершил вторую глупость – достал из кармана трёху и, протянув ей, сказал, что после всего, что я услышал, я, мол, не могу… и всё такое.
Она оказалась опять на высоте. Усмехнулась, взяла три рубля и сама засунула их мне в карман.
– Наоборот, молодой человек, после «всего, что вы услышали», вы должны взять ваши деньги. Я вижу, они вам очень нужны. И прошу вас в будущем не пренебрегать, если случится нужда, моим отношением к памяти вашего отца. До свидания. – И она легко подтолкнула меня к двери.
У меня в кармане лежали три рубля. Я был сыт и пьян. Я познакомился с очаровательной женщиной. Но я чувствовал себя глупым, мелким и никому не нужным сукиным сыном. Которому нет места ни среди нормальных людей, как Мира, ни среди людей, заполнивших троллейбус № 5, на котором я ехал по Невскому домой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.