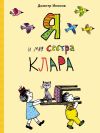Текст книги "Восемь белых ночей"

Автор книги: Андре Асиман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Ну, – прервала она, – расскажи мне про младенца возрастом в полгода с неделей в розовом кусте.
Она потрудилась сосчитать месяцы. И хотела, чтобы я это знал. Или тем самым она специально сбивает меня с толку, чтобы запутать еще сильнее и заполучить для себя – или для меня – простой выход из молчания, в котором мы оказались?
Не хотелось мне про ребенка в розовом кусте.
– А что? Губы надул, что ли?
Я качнул головой, имея в виду: ничего подобного. Просто пытаюсь ответить поумнее.
– Ты часто находишь любовь? – выпалил я, перекрыв себе путь к отступлению, млея от собственной дерзости и азарта. Обратного пути не было.
– Достаточно. В том или ином виде. Достаточно часто, чтобы не отказываться от поисков, – ответила она без запинки, как будто мой вопрос ее не насторожил и не ошарашил. А потом: – А ты? – спросила она, внезапно срывая покрывало, которое я с такой, мне казалось, ловкостью натянул между нами. Она слишком резко сменила роль допрашиваемого на роль допрашивающего, и, пока я выдумывал подходящий ответ, на губах ее вновь показалась улыбка, как будто мое опрометчивое упоминание про розовый сад в прошлом мае вновь на меня нахлынуло и встало между мною и саваном, который я неуклюже пытался напялить. Чем отчаяннее я шарил в поисках ответа, тем отчетливее слышал, как она изображает гримасой тиканье часов на какой-нибудь викторине. Если она не домыслила мой ответ раньше, то домыслила теперь, однако отпускать меня так просто не собиралась. Я хотел объяснить, что вообще-то не знаю, где проще находить любовь, в других или в себе, что любовь в долине пандстраха – это не совсем любовь, ее не следует принимать за, путать с, но она отрубила:
– Время закончилось!
Я смотрел, как она поднимает повыше воображаемый секундомер – большой палец опущен на кнопку «стоп».
– Я думал, у меня еще несколько секунд.
– Спонсоры программы с прискорбием сообщают, что уважаемый гость дисквалифицирован на основании…
Она давала мне последнюю возможность уйти с достоинством.
Я снова попытался слепить какую-нибудь искрометно умную реплику, чтобы выскочить из западни, понимая при этом, что недостаток остроумия мешает мне так же, как и неспособность сказать правду и прервать тем самым свинцовое молчание.
– На основании?.. – продолжала она, не выпуская воображаемого секундомера.
– На основании амфибалентности.
– Совершенно верно, на основании амфибалентности. В качестве утешительного приза в студии подготовили этот набор закусок вот на этой тарелке, каковые закуски мы предлагаем упомянутому гостю употребить немедленно, прежде чем ведущая упомянутого шоу стрескает их все до последней.
Я робко протянул два пальца к тарелке.
– Вот эти лучше всех, они без честнока. Мы ненавидим честнок.
– Правда?
– Всею душой.
Не было смысла признаваться, что я, как и все любители петь в душе, приверженец чеснока.
– Тогда и мы ненавидим честнок.
Она указала на крошечный кусочек мясного желе, над которым гривой причесанного морского конька возвышался зубчатый лист.
– Прошу съесть… изысканно!
– В смысле?
– В смысле, если уж есть что-то такое, то обязательно в ступоре и благоговении.
Почему мне казалось, что каждое ее обращенное ко мне слово – это завуалированная, не до конца завуалированная отсылка к ней, к нам?
– И кто это такие? – осведомился я, указывая на квадратные составляющие композиции Пауля Клее.
– Мы не спрашиваем, мы протягиваем руку и берем.
Рот у нее был набит, она медленно жевала, давая понять, что наслаждается каждым кусочком. Ну и странный же человек. Неужели она окажется очередной из тех женщин, которые не могут не напоминать всем и каждому, что они – этакие чувственные торнадо и сдерживают их лишь нестрогие правила приличий, принятые в коктейльный час?
– Манкевич, – прошептала она через минуту.
– Манкевич, – эхом откликнулся я, как будто в слове этом содержался тайный смысл, решительно мне недоступный, но в котором я прозревал синоним к «утонченно».
В первый миг мне показалось, что она говорит о ком-то в этой комнате. Или про закуску, а я просто неправильно расслышал название? Или это мантра, произносимая в момент наслаждения? Манкевич.
– Qui est Mankiewicz?[6]6
Кто такой Манкевич? (фр.)
[Закрыть]
– Манкевич это приготовил.
– Какая-то не японская фамилия.
– А это не японское.
Настал черед миниатюрного биточка – его, предупредила она, нужно крайне аккуратно обмакнуть в крошечную лужицу очень острого сенегальского соуса на тарелке.
– Чтобы только след остался, не больше.
– Обожаю специи.
– Обожает специи.
Я хотел было опустить биточек в рот, но она попросила подождать.
Неужели меня заставят совершать один из тех замысловатых ритуалов, которым привержены люди, недавно вернувшиеся из экзотических стран, – и любят навешивать их на озадаченных сотрапезников?
– Предупреждаю: соус действительно очень острый.
– А ты откуда знаешь?
– Да уж знаю.
Мне понравилась эта перекличка наших слов – не только самих слов, но и интонаций, как будто, обменявшись этими парными репликами, мы втянулись в некое магнитное поле, где нужно лишь одно: не противиться. Этот короткий диалог навел меня на мысль о руке, которая поглаживает мягкий ворс на чужом бархатном рукаве, взад-вперед, по шерсти, против шерсти, по шерсти, против шерсти – как будто бессмысленные реплики, которыми мы обменялись, были всего лишь случайными предметами, подобранными небрежно, перекинутыми из руки в руку, от одного к другому – и значение имели лишь факт передачи и жест, взято – принято, а не слова, не вещи, только взаимосвязь.
– Манкевич, – повторил я, будто бы произнося тост в его честь и салютуя биточком – точно это было темное заклинание, способное отогнать зло. Вспомнились глубоководные ныряльщики, которые сидят на борту лодки и шепчут мантру из одного слова, прежде чем вскинуть оба больших пальца и уйти в воду – вперед головой, вверх ластами.
– Манкевич, – прошептала она, прикидываясь посмурневшей.
Я не сразу сообразил, что нужно было внять ее предостережению, потому что по коже внезапно распространился огонь – сперва загорелся череп, потом жар пополз по загривку. Слезы навернулись на глаза, и прежде, чем я успел придумать, что с ними делать – удержать, принять какую-то позу, выплюнуть пищу, – слезы набухли, покатились по щекам, а пламя во рту разгоралось лишь сильнее, если я пытался жевать или глотать. Я стал нашаривать носовой платок, ощущая сперва беспомощность и унижение, а потом – дикий страх, потому что, сколько я ни ждал, когда пожар уймется, он не стихал – даже после того, как я проглотил биточек полностью, делалось только хуже, как будто первый выброс и вовсе не был пожаром, будто все это не имело к биточку никакого отношения, он стал лишь преамбулой к возгоранию. Неужели станет еще невыносимее? Стошнит ли меня? Будет ли моему телу нанесен непоправимый ущерб? Хотелось вернуть себе самообладание, сказать ей, что со мной происходит, но, видимо, молчание, слезы, терзания ей уже все сказали. Я закинул назад голову – она легла на подоконник, и холодок оказался в тот момент так кстати, что я в своем смятении понял, почему люди любят хаски, почему хаски любят жить на холоде и почему, будь моя воля, я бы с превеликим удовольствием тоже стал хаски, носился бы на воле по ледяным торосам на берегах Гудзона прямо за нашим окном. Спроси меня снова, Клара, чувствую ли я себя нагим и в окопах, – и я отвечу, сколь глубока и смертоносна та бурая траншея, в которую я свалился, как отчаянно я пытаюсь выкарабкаться. Хочу одного: снега, льда, побольше льда.
Клара смотрела на меня в смятении – будто я грохнулся в обморок и понемногу очухивался. Протянула мне кусочек хлеба, который – я только сейчас сообразил – заранее положила на тарелку, чтобы я закусил переперченный биточек. Мне вдруг захотелось, чтобы и ее рот тоже горел тем же огнем. Хотелось, чтобы и она почувствовала то же смятение, потрясение, наготу, чтобы я не один испытывал эти ощущения, ведь если бы у обоих у нас во рту бушевал пожар и слезы струились по лицу, нам удалось бы еще немного сблизиться – без слов, без подколок, без тирад – только два рта, горящих как один, слившихся в любовном экстазе раньше, чем наши тела.
Но она просто сидела, подавшись в мою сторону, спокойная, собранная, возможно с улыбкой, точно сиделка, которая наклоняется над раненым бойцом, чтобы влажной губкой вытереть пот с его лица. Я подумал, что боец может потянуться и взять ее руку, а потом – ведь он потерял так много крови – открыть сердце человеку, который в иных обстоятельствах даже не сказал бы ему, который час. Тревожилась ли она? Или выжидала, пока мне полегчает и можно будет надо мной поиздеваться: предупреждала же, а он разве слушал – он разве слушал? Коснись моего лица губами, Клара, коснись меня своими губами, насмешливыми, язвительными губами, коснись меня большим пальцем, Клара, впейся мне в рот и вытяни оттуда пламя, пальцем и языком.
Усугублял ситуацию стыд. Чем я могу рассеять этот позор – тем, что я всего лишь терзающаяся человеческая плоть? Я попытался утешиться, изобретая в голове утешительные банальности – что ты и есть твое тело, что твое тело знает тебя лучше тебя самого, что выставить все напоказ честнее, чем застилать завесой из слов, что все это – обращение к самой сути. Только не было сил в это поверить.
А может, все оказалось сложнее, чем я думал. Дело в том, что какая-то часть моей души упивалась возможностью показать ей, из чего я свинчен и как легко эту конструкцию разобрать, – трепетная радость от того, что я полностью обнажил перед ней свою сущность, раскрылся, точно учебник анатомии, где один за другим поднимаешь покровы кальки, чтобы разглядеть цвет пожара в моих внутренностях и тихой истерики, свернувшейся клубком возле известных стыдных органов, удовольствие от моего стыда, мелкого, нелепого, перепуганного стыда – стыда, который надеваешь как маску, изо всех сил убеждаешь себя в его реальности и даже пытаешься превозмочь, хотя на самом деле оставил его, как на нудистском пляже, в шкафчике гардероба вместе с бумажником и часами.
Я попытался что-то пробормотать, чтобы скрыть смятение. Однако, подобно оленю у Овидия, пребыл безгласен – ибо сознавал, что вырвется только нечто среднее между хриплым клекотом или жалким шепотом и сделает мое положение еще нелицеприятнее, а потому сделал вид, что лишился голоса. Хотелось застонать. Хотелось, чтобы мы застонали вместе, а потом – стон, стон, стон, будто мы стали оленем и оленихой, что стонут в унисон под небом зимним студеным, где уже вовек не расставаться влюбленным.
Итак, вот ее кусочек хлеба. А вот он я, пытаюсь показать, что хлеб мне совсем не нужен, со мной и раньше такое бывало, я справлюсь, через минутку, сейчас, секундочку, главное – не надо таращиться, чтобы я не потерял лицо, – раненый боец сам промывает рану и накладывает швы, так-то!
Но она сидела, подобно бдительной сиделке на почасовой оплате – не уйдет, пока пациент не проглотит последнюю прописанную врачом пилюлю.
– Вот, возьми хлеб, – сказала она. – И подержи во рту, авось поможет.
Я – Клара, милосердная.
Я взял его, как порою берут носовой платок, без сопротивления, без гордыни, ибо знал – и именно это скрывалось за моей вымученной улыбкой, – что, вопреки своей воле, вопреки всем раскладам, вопреки всем объяснениям, подошел к обрыву столь близко, что теперь осталась одна забота: сделать так, чтобы спазм, который того и гляди вырвется из горла, не оказался рыданием.
Наконец я проглотил хлеб. Она молча следила за движениями моего кадыка.
Потом она повернулась, посмотрела в окно. Она напоминала мне человека, который считает тебе пульс, глядя в сторону, отсчитывает секунды с отрешенным видом. Я не знал, что делать, и потому повернулся тоже и уставился на Гудзон; плечи наши соприкасались – мы понимали, что это безобидный пустяк, и часть моей души так и рвалась показать, что молчание – самое обычное дело между посторонними людьми, которые познакомились на вечеринке и теперь нуждаются в передышке. Мы ничего не сказали по поводу вида, по поводу знакомых и не знакомых ей людей в комнате, по поводу огоньков, мигавших за рекой в Нью-Джерси, по поводу скорбных льдин, старательно сплавлявшихся по течению, будто разбросанное стадо овечек, пастухом при котором – стоящая на приколе баржа, что провожает их светом бдительного прожектора.
Снаружи, на Риверсайд-драйв, стояли в озерах света одинокие фонарные столбы, блестел снег – они были похожи на потерявшийся хор из греческой трагедии, у каждого застывшего чародея на голове сноп пламени. Мы слишком далеко, казалось, говорили они, так что ничего не слышим, но мы знаем и всегда знали про вас.
Она сказала, что любит свежий воздух. Чуть приоткрыла балконную дверь, в комнату вползла студеная струйка. А она шагнула на оказавшийся очень просторным балкон и тут же закурила сигарету. Я шагнул следом. Курю ли я? Я сделал утвердительный жест, а потом вспомнил, что примерно в момент рождения младенца, которому полгода да неделя от роду, дал зарок бросить. Поспешно объяснил. Она извинилась и сказала: никогда больше не станет мне предлагать. Я принялся гадать, содержит ли «никогда больше» добрые предзнаменования, но решил не выискивать скрытых смыслов в каждой ее фразе.
– Я их называю тайными агентами.
– Почему?
– В кино все тайные агенты курят.
– Значит ли это, что у тебя много тайн?
– Это бесцеремонно.
Какой же я глупец!
Она изобразила послевоенного агента, прикуривающего на ходу в темном мощеном переулке старой Вены.
Снаружи над городом висела бледная серебристая дымка. Снегопад не прекращался весь вечер. Она стояла рядом с перилами, двигала ногой, мечтательно разгребала снег замшевой туфелькой, тихо сбрасывала его с кромки. Я смотрел, как снежинки разлетаются по ветру.
Мне нравился этот жест: туфелька, замша, снег, кромка – все это делалось рассеянно, с сигаретой в руке.
Я раньше и не догадывался, что есть особая красота в том, чтобы шагнуть на свежий снег и оставить свои следы. Я всегда пытался избегать снега, холил свою обувь.
С этой высоты багряно-серебристый город казался эфемерным, далеким, потусторонним – зачарованное королевство, сияющие шпили которого молча вздымаются сквозь дымку зимних сумерек, чтобы вступить в беседу со звездами. Я смотрел на свежие борозды от шин на Риверсайд-драйв, на одинокие фонарные столбы со снопами пламени на головах, на автобус, что ковылял сквозь снег – пробрался через перекресток Риверсайд и Сто Двенадцатой улицы и побрел дальше, – сугробы на сутулых плечах, пустая стигийская лодчонка, уходящая к незримым краям и целям. Я, как и Клара, говорил он, доставлю туда, куда ты и не чаял добраться.
Официант сдвинул в сторону балконную дверь и осведомился, не хотим ли мы чего-нибудь выпить. Заметив у него на подносе «Кровавую Мэри», Клара тут же объявила, что будет ее. Официант не успел ничего возразить, а она уже схватила бокал с подноса. Я – Клара. Я всё хватаю. Цвет напитка совпадал с цветом ее блузки. А потом она поставила бокал с широким ободком на балюстраду, закопав основание и часть тонкого конуса в снег – то ли чтобы охладить, то ли чтобы его не перевернуло порывом ветра. Докурив, она загасила окурок носком туфли, а потом аккуратно смахнула его с края, как раньше смахивала снег. Я знал, что этот миг не забуду никогда. Туфельки, бокал, балкон, льдины, плывущие по Гудзону, автобус, ковыляющий по Риверсайд-драйв. О, не шуми, Гудзон, пока я допою.
В тот вечер, но раньше, я сел в такой же автобус, из-за метели напрочь пропустил свою остановку и вышел через целых шесть кварталов от Сто Шестой улицы. Помню, что гадал, где я нахожусь, почему ошибся, чувствовал себя полным идиотом, в руке тащил пакет из дорогого бутика, в котором то и дело позвякивали две бутылки шампанского, хотя продавец и вложил между ними кусок картона. Рядом со Сто Двенадцатой улицей я разглядел сквозь снегопад памятник Сэмюэлу Тилдену – торжественный бесстрастный взгляд, обращенный к западу, – вскарабкался по ступеням и огляделся, пытаясь отвязаться от слюнявого сенбернара, который внезапно объявился на той же горке и, похоже, не собирался от меня отставать. Что лучше – сбежать или, сохраняя спокойствие, делать вид, что я его не замечаю? Тут раздались голоса двух мальчишек – они отзывали собаку. Катились с горки на санках. Пес, который явно запутался в направлении, помчался вслед за ними в парк. А потом – тихая, мирная, блаженная прогулка через шесть этих безлюдных кварталов по переулку, тянущемуся вдоль Риверсайд, изгибами, то внутрь, то наружу, похрустывание льда под снегом. Вспомнились «Бедфорд Фоллз» Капры и «Сен-Реми» Ван Гога, Лейпциг, хоры Баха и то, как ничтожные происшествия порой открывают нам новые миры, здания, людей, даруя неожиданные лица, которые уже никогда не захочется утратить. Сен-Реми, городок, где Нострадамус и Ван Гог ходили по одним и тем же тротуарам, где пересекались пути ясновидящего и безумца, они приветственно кивали друг другу, разделенные столетиями.
Глядя с тротуара на окна наверху, я воображал себе дружные довольные семейства, где дети вовремя садятся делать уроки, а гости, которым страшно не хочется уходить, оживляют разговором ужины, хотя супруги за столом по большей части молчат. С балкона, где мы сейчас стояли, история со страшным сенбернаром выглядела глухой древностью. Я вспомнил, что подумал про средневековые рождественские городки на Эльбе и Рейне, тем более что совсем рядом над Сто Двенадцатой улицей и рекою нависал собор. Чтобы обеспечить себе положенное опоздание и чуть больше, я обошел квартал, оказался на Бродвее рядом с парком Штрауса, радуясь, что могу еще передумать и вообще не ходить на вечеринку, тем более теперь, когда желание почти испарилось – я даже поймал себя на том, что выдумываю убедительные оправдания, чтобы развернуться и отправиться домой, но при этом сжимаю в руке пригласительную открытку, на которой золотой филигранью отпечатан адрес. Линии были такими тонкими, что не прочитать, и меня уже подмывало спросить дорогу у ближайшего фонаря – ведь и он, как я, заплутал и застыл средь вьюги, хотя добросовестно отбрасывал весь оставшийся у него свет, чтобы помочь мне прочитать то, что стало напоминать призрачные катрены, выведенные прихотливым почерком самого Нострадамуса. Чтобы убить время, я отыскал маленькую кофейню и попросил чая.
А теперь я здесь, теперь я с Кларой.
Проглотив Манкевича и едва не подавившись куском перца, я стоял на балконе над Манхэттеном, уже помышляя о том, чтобы завтра ночью вернуться на Сто Шестую улицу, пересмотреть в памяти весь этот вечер – неспешно, размеренно: собор, парк, снег, золотую филигрань, фонарные столбы с пламенеющими головами. Я бросил взгляд вниз: если бы это было возможно, я подал бы себе, подходившему к этому дому несколько часов назад, знак, предупредил, чтобы он откладывал приход как можно дольше, – сперва полшага, потом половину от этого полшага, потом половину половины этого полшага – так поступают суеверные люди, когда, робко протянув руку, потом отталкивают ту самую вещь, о которой мечтают, потому что боятся: если не оттолкнуть подальше, она никогда тебе не достанется – асимптота ходьбы и желания.
Обнять ее за талию? Асимптотически?
Я попытался отвести от нее глаза. Видимо, она тоже смотрела в сторону, мы оба уставились в вечернее небо, которое рассекал блеклый неверный голубоватый луч прожектора, исходивший из неведомого угла на Верхнем Вест-Сайде; он брел на ощупь через пятнистую ночь, будто в поисках чего-то невнятного – он и не надеялся этого найти, описывал над нами дугу за дугой, точно тощий острокрылый римский ворон, что каждый раз промахивался, когда пытался сесть на карфагенский корабль-призрак.
Сегодня волхвы точно заблудятся, хотел сказать я.
Но оставил слова при себе, гадая, долго ли мы будем вот так стоять, глядя во тьму, следя за молчаливым скольжением луча прожектора – будто это захватывающее зрелище, ради которого стоит помолчать. Может, прискучив движением по небу, луч остановится на чем-то, о чем можно поговорить, – возможно, в этом случае темой беседы станет сам луч. Интересно, что им хотят высветить. Или: что его испускает? Или: почему он смещается вниз всякий раз, как доходит до самого северного шпиля? Или: такое ощущение, что мы попали в Лондон, а это – Блиц. Или в Монтевидео. Или в Белладжо. А может, был другой, неуловимый вопрос, который я все пытался выкрутить из себя, будто и внутри меня шарил крошечный луч прожектора, вопрос, который я и задать-то не мог, а уж тем более дать на него ответ, но задать был должен – про себя, про нее, и назад ко мне – потому что я знал, что шагнул внутрь крошечного чуда в тот самый миг, когда мы вышли на балкон посмотреть на этот ирреальный город, и поэтому должен был знать, что и она думает то же самое, иначе мне не поверить.
– Белладжо, – произнес я.
– Чего – Белладжо?
– Белладжо – крошечная деревушка на мысу на озере Комо.
– Знаю я Белладжо. Я там была.
Опять срезала.
– В некоторые особенные вечера Белладжо оказывается совсем рядом – озаренный огнями рай, всего-то в паре гребков веслом от берега озера Комо. В другие вечера до него не фурлонг, а много лиг и целая жизнь – не доберешься. И вот сейчас настал миг Белладжо.
– Что такое миг Белладжо?
Или мы не говорим на зашифрованном языке, ты и я, Клара? Я ступал по яичной скорлупе. Часть души не хотела знать, куда меня несет, другая понимала, что я преднамеренно забираюсь в опасные места.
– Тебе правда интересно?
– Может, и неинтересно.
– Значит, ты уже догадалась. Жизнь на другом берегу. Жизнь, какой она быть должна, не та, которую мы проживаем. Белладжо, не Нью-Джерси. Византия.
– Первые твои слова были правдой.
– Которые?
– Когда ты сказал, что я уже догадалась. Мог и не объяснять.
Очередной щелчок по носу.
Повисло молчание.
– Сквалыжная злюка, – изрекла она наконец.
– Сквалыжная злюка? – переспросил я, хотя и сам догадался, о чем она.
Внезапно, сам того не осознав, я понял: я не хочу, чтобы мы слишком сблизились, перешли на личное, завели разговор об этом возникшем между нами электрическом напряжении. Мне рядом с ней припомнилась история о мужчине и женщине, которые знакомятся в поезде и заводят разговор о знакомствах в поезде. Она – из тех, кто обсуждает свои чувства с тем самым незнакомцем, который и заставляет ее их испытывать?
– Клара – сквалыжная злюка. Ты ведь так подумал, да?
Я покачал головой. Лучше молчание. Пока оно вновь не сделается невыносимым. Я что, надул губы, сам того не заметив? Действительно надул.
– Что? – спросила она.
– Высматриваю свою звезду. – Поменяй тему, иди вперед, отпусти, поставь между нами дымовую завесу, скажи хоть что-то.
– То есть у нас теперь есть свои звезды?
– Если есть судьба, есть и звезда.
Ну и разговорчики.
– Так это – судьба?
Я не ответил. Это что, очередной издевательский способ захлопнуть за мной дверь? Или распахнуть ее с усилием? Она подталкивает меня к еще каким-то словам? Или к молчанию? Я опять увильну в уклончивость?
А спросить я, Клара, хотел одно: что с нами происходит?
Она не ответит, это понятно – а если ответит, то будет подколка с издевкой, кнут с морковкой.
Я что, обязана тебе отвечать? – спросит она.
Тогда объясни, что со мной происходит. Пока, понятное дело, хватит и этого.
Может, и туда не стоит соваться.
Все как прежде – молчание и возбуждение. Не говори, если не знаешь, и если знаешь, не говори.
– Да, кстати, – произнесла она, – я верю в судьбу. Кажется.
Это что – завсегдатай ночных клубов разглагольствует про каббалу?
– Наверное, у судьбы есть выключатель, – заметил я, – вот только никто не знает, когда включено, когда выключено.
– Полная чушь. Включено и выключено одновременно. Поэтому и называется судьба.
Она улыбнулась и бросила на меня взгляд: попался, да?
Как же мне хотелось, чтобы это переглядывание помогло мне набраться храбрости, провести пальцем по ее губам, задержать его на нижней губе, оставить там, прикоснуться к ее зубам, передним зубам, нижним зубам, а потом медленно ввести этот палец ей в рот, дотронуться до языка, влажного шустрого кошачьего языка, который произносит такие колючие язвительные слова, почувствовать, как он дрогнет, точно под ним набухают ртуть и лава, ворочаются злобно-сквалыжные мысли, которые вечно вызревают в этом котле, именуемом Клара. Я хотел опустить большой палец ей в рот, впитать в него весь яд ее укусов, укротить ее язычок – пусть язычок этот окажется лесным пожаром, а в нашей смертной схватке пусть этот язычок отыщет мой язык, раз уж я раздразнил его ярость.
Чтобы молчание не выглядело мучительным, я сделал вид, что поглощен лучом прожектора, будто этот смутный сноп света, странствующий по взбаламученной серой ночи, действительно отражал нечто серое и взбаламученное во мне, будто он блуждал по моему внутреннему ночному миру, выискивая не только то, что я мог бы ей сказать, не тень смысла того, что с нами происходило, но и некое темное слепое тихое место у меня внутри, которое этот луч (так оно бывает в фильмах о военнопленных) пытался выявить, но каждый раз упускал. Я не мог говорить, потому что не видел, потому что сам этот луч, скрещение часов с одной стрелкой, не способных показывать время, с компасом, не примагниченным ни к какому полюсу, напоминал мне самого себя: он не знал, куда направляется, не мог нащупать путь во тьме, не умел отыскать в пространстве ничего, что стоило бы принести к нам сюда на балкон в качестве предмета для разговора. Вместо этого он все указывал на обманки за Гудзоном, как будто там, за мостом, на другой стороне, лежал мир куда более реальный, как будто там жизнь обрисовывалась выпукло, а здесь была лишь подобием жизни.
Какой она внезапно показалась далекой, отгороженной таким количеством заслонок и запертых дверей, биографий, людей, которые стояли меж нами все эти годы, точно трясины и штольни (ими каждый был и пребудет), пока мы оставались на этом балконе. Был ли я окопом в чьей-то чужой жизни? Или она – в моей?
Чтобы показать, что молчание мое – не следствие неспособности придумать какую-то фразу, что я правда погрузился в мрачные глубокие мысли, которыми делиться не собираюсь, я вызвал в памяти лицо отца, каким оно было, когда я в прошлом году пришел его навестить поздно вечером после праздника, а он велел мне сесть на край его постели и рассказать ему обо всем, что я видел и ел в тот вечер, – «и начни с самого верха, а не с середины, как ты это всегда делаешь», чтобы потом найти повод вставить это самое: «Я теперь так редко тебя вижу», или «Я никогда не вижу тебя с кем-то еще», или «Если я вижу тебя с кем-то еще, она исчезает так быстро, что я и имя-то запомнить не успеваю», и в тот самый миг, когда я порадовался, как ловко ускользнул от более важного вопроса – сколько ему еще осталось недель и дней, прозвучал этот стародавний (налейте брома) вопрос про детей: «Я столько ждал, но больше ждать не могу. Скажи хотя бы, что у тебя кто-то есть». А потом, с ноткой сварливости: «Никого нет, верно?» Никого нет, отвечал я. «Хоть имена напомни – Элис, Джин, Беатриса и эта задавака-наследница из Мэна с огромными ногами, которая помогала нам складывать винные бутылки на балконе и не могла даже толком обернуть салфетку вокруг столовых приборов, потому что все время курила?»
Ливия, отвечал я.
«Почему так равнодушно, отстраненно?» Его слова. «ЖНН», говорил он. «Женись на наследнице». А в ответ я мог сказать только: все то, что у нее есть, мне никогда не было нужно. Всего того, что мне было нужно, у нее нет. Или еще жестче: у меня уже есть все то, что есть у нее.
Из сумятицы серого и серебристого на горизонте я заставляю себя сложить его лицо, но оно все пытается уплыть обратно в ночь – ты мне сейчас нужен, твержу я, дергая воображаемую нить, связывающую меня с отцом, пока на долю секунды больное изможденное лицо, которое я вызвал из небытия, не всплывает у меня в мозгу снова, а вслед за ним – призрак множества трубок, подключенных к респиратору в палате онкологического отделения больницы Маунт-Синай. Мне хотелось вздрогнуть от этого образа, чтобы нечто вроде тени сдерживаемого горя обозначилось у меня на лице и оправдало мою неспособность сказать хоть слово единственному человеку, который смог повергнуть меня в полное косноязычие.
Я посмотрел на Кларину «Кровавую Мэри», стоявшую на перилах, и подумал о мрачных обитателях гомеровского загробного мира – как они, шаркая, влекут свои мозолистые ноги к корыту со свежей кровью, которое и должно выманить их из пещер: «Там, откуда я пришел, нас таких много, и некоторые тебе совсем не понравятся, так что отпусти меня, сын, отпусти. Мертвецы доброжелательны друг к другу – и это все, что тебе нужно знать».
Бедный старик, подумал я, глядя, как он истаивает в блекло-серебристой ночи, – немногие его любили, почти никто не вспоминал после.
– Посмотри вниз, какие они здоровенные!
С высоты видно, как бесконечная с виду вереница неправдоподобно больших лимузинов остановилась у тротуара возле нашего здания: каждый выгружал бодрых пассажирок на высоких каблуках, а потом полз дальше, чтобы из следующего могли выгрузить новых, и двигался вперед, уступая место следующему. Что-то во мне всплеснулось при виде этой экстравагантной цепочки черных авто, сверкавших в белой ночи. Я как будто шагнул на странный, вдруг заполнившийся современной техникой Невский проспект.
Машины не уехали, а запарковались в два ряда по всей длине Сто Шестой улицы. Группа водителей собралась у памятника Францу Зигелю – перекурить и поболтать. Наверняка по-русски. На двоих были длинные темные пальто: духи, извлеченные из загробного мира Гоголя, того и гляди хором загорланят русскую песню.
Куда направлялись все эти люди? Вид машин, запаркованных столь величественно, заставил меня пожалеть, что я на этой вечеринке, а не на их. Все эти напыщенные расфуфыренные типы, прибывающие по двое и по трое. Как, видимо, изумительна их жизнь, как роскошна, думал я, почти позабыв про Клару – а она опиралась на перила рядом со мной, столь же завороженная этим зрелищем. Я почувствовал нечто граничащее с удовольствием, глядя, как легко меня отвлечь и обратить мои мысли к другим вещам вместо нее. Вот он – голливудский шик, хочется увидеть все это вблизи. А потом, сообразив, что пренебрегаю отцом, я застыдился: стоило ли его призывать, чтобы потом тебя поймали на мысли о лимузинах.
В результате мы с Кларой все-таки заговорили об этом луче, о гостях внизу, о других вещах – я стал задавать ей разные вопросы, чтобы поддерживать разговор, и вот упомянул между делом, что этот эпизод на балконе заставил меня вспомнить балкон в доме моих родителей, и как в Новый год отец каждый раз складывал на нем бутылки с вином, чтобы охлаждались, как в новогоднюю ночь мы вслепую пробовали вина с его друзьями и партнерами, ждали, какое из них будет признано лучшим, – эти дегустации всегда превращались в буйство, мама носилась туда-сюда, чтобы все голоса обязательно были поданы до того, как за несколько минут до полуночи муж ее произнесет стандартную стихотворную речь – так было до Маунт-Синая. «Почему на балконе?» – прервала меня Клара. Ее, надо думать, интересовало, почему я смешал два балкона и поместил ее в эту картину. Лучшее место, чтобы остужать бутылки с вином и содовой, если снаружи не дикая стужа. Кто-то всегда помогал мне разложить бутылки, скрыть этикетки, раздать самодельные таблицы для проставления баллов. «Ребенок в розовом кусте?» – осведомилась она. Я покорно пожал плечами, как бы говоря – да, пожалуй, зачем спрашивать, это не повод дразниться, я не хочу шуток на эту тему. Ее родители четырьмя годами раньше погибли в автомобильной аварии. Таким оказался ее едкий ответ на мой сбивчивый отклик на ее иронию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?