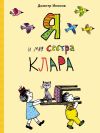Текст книги "Восемь белых ночей"

Автор книги: Андре Асиман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Прождав на остановке в одиночестве минут пять, я отчаялся. Кроме прочего, я опасался, что кто-то сверху увидит, как я жду автобуса, которого явно не будет, и сочтет меня законченным кретином.
Я поднял глаза на крышу. Каких-то четыре часа назад я сидел в этой оранжерее. Теперь она таращилась на меня как на незнакомца. Когда мы туда шли, Клара слегка раскрылась, рассказала мне про Инки и про то, как, по крайней мере на какое-то время, он сумел отключить тьму в ее жизни. Очень странная формулировка. Она вспомнилась мне сейчас. Повернись к чему-то спиной – и оно превратится в Белладжо.
Убедившись, что из-за поворота на Риверсайд-драйв не выезжает ни единой машины, я прошел мимо памятника Францу Зигелю обратно на тротуар у дома Клары, поболтался там, будто придумывая причину еще побыть поблизости, осмотрел все соседние фасады, подобно современному Иосифу – он вглядывается в вестибюли и в швейцаров, а Мария дожидается в машине, – в вящей надежде, что где-то наверху все-таки откроется окно, в безмолвной ночи прозвенит мое имя, а затем высокомерное: «Давай возвращайся наверх – ты ж там замерзнешь!»
Я представил себе, как тут же шагну обратно в здание, пренебрегу формальностями Ивана или Бориса на входе, чтобы тот, кто открыл окно, не заподозрил меня в недостатке рвения, но буду старательно сохранять рассеянный неуверенный вид человека, который согласился чисто из дружеских чувств, кинув небрежно: «Ну, так и быть, только ненадолго» – как родитель, дающий разрешение еще пять минут посмотреть телевизор.
«Сам на себя посмотри, тебе нужно срочно налить горячего. Давай помогу снять пальто», – скажут они наверху.
И я, глазом не успев моргнуть, начну пожимать те же руки, что уже пожал на прощание, в том числе и руки новоприбывших, с которыми раньше столкнулся внизу, – как будто я старый приятель, который явился на вечеринку как раз к завтраку.
Ну вот, а ты так спешил от нас смыться.
Так и почему ты сегодня ушел? – подавая мне тот самый бокал, из которого она пила весь вечер. Этот бокал, этот бокал, через миг в руке у меня будет этот бокал.
Ушел… не знаю, почему я ушел. Много разных резонов. Нет ни единого. Встал в позу. Оставил что-то на потом. Не хотел показаться навязчивым. Не хотел показать, как мне здесь нравится, как я хочу, чтобы это не кончалось никогда.
Или у меня были другие дела…
В четыре часа утра?
У меня есть свои секреты.
Даже от меня?
Особенно от тебя.
Напомни мне мой зарок никогда не связываться с мужчинами, у которых в четыре часа утра есть секреты.
Напомни мне мой зарок никогда не поддаваться искушению говорить начистоту – ибо мне страшно хочется.
Ну так начинай. Почему ты вернулся?
Раз уж ты спросила, Клара, – ты уже знаешь почему.
Все равно скажи.
Потому что мне пока не хотелось домой. Потому что я не хочу быть сегодня один. Потому что не знаю. Сердце стучит все стремительнее, ведь я собираюсь добавить: из-за тебя.
Из-за меня? Произнесено медленно, с расстановкой, в манере Ганса.
Как дивно говорить: «Из-за тебя». Или: «Потому что я не хочу быть сегодня один». Привет, не хочу быть сегодня один. Хочу быть с тобой. И с твоими друзьями. В твоем мире. В твоем доме. Остаться после того, как все уйдут. Быть как ты, тобой, с тобой – даже если ты залегла на дно, ведь и я залег на дно, и Ганс залег на дно, и Бэрил, и Ролло, и Инки, и все в этом городе, живые и мертвые, залегли на дно, на глубину – потерпевшие кораблекрушение, искалеченные, и все хотят быть наедине с тобой, пока я не обрету твой запах, твои мысли, твою речь, твое дыхание.
Мое дыхание? Ты это серьезно?
Увлекся.
Дойдя до середины улицы, я еще раз оглянулся и еще раз разглядел там, на вечеринке, силуэты множества гостей, прислонившихся к заиндевелым оконным стеклам, – локти у всех растопырены, а значит, в руках они держат бокалы и тарелки: неужели вскоре действительно начнут подавать завтрак, как на некоем безумном ночном авиарейсе через Атлантику?
Почему Клара проводила меня вниз? Чтобы прогуляться со мной по снегу? Или она имела в виду нечто иное, а я сломал ее планы, нажав на кнопку «В», «Вестибюль», прежде чем она успела нажать на кнопку своего этажа? Сделал ли я это, чтобы показать: у меня и мыслей не было о ее квартире? Или я просто пытался все усложнить, ведь было так просто сказать: «Покажи, как ты живешь»?
Или мне не хотелось сегодня ночью быть ни с кем? Хочу побыть один. Хочу домой. Но хочу любви. Ведь расстояние между мной и тобой, а если по-честному, то между мной и мной – длиной в лиги, и фурлонги, и световые года.
Я хочу любви, а не других. Хочу романтики. Хочу блеска. Хочу волшебства в нашей жизни. Потому что его постоянно серьезный недобор.
Я подумал о других на моем месте – о множестве молодых людей, влюбленных истово и беззаветно, как Инки, – которые готовы приехать из любого места, чтобы постоять перед ее домом, швыряя ночью снежки ей в окно, пока легкие не вымерзнут, они исчахнут и погибнут – останутся лишь песня и отпечаток ноги во льду.
Стоя там, я опустил в карман руку. Нащупал крошечные бумажные салфетки. Видимо, я весь вечер очень нервничал и, сам того не замечая, запихивал салфетку в карман всякий раз, как ставил на стол фужер или что-то доедал. Я вспомнил про носовой платок, который она мне дала по ходу происшествия с перцем. Куда я его подевал?
В том же кармане обнаружился солидный пригласительный билет – адрес на нем был отпечатан залихватской филигранью. Я смутно припомнил, что, пока разговаривал с Кларой на вечеринке, время от времени натыкался на этот билет в кармане и рассеянно дергал его за кончики, испытывая неожиданный прилив радости, когда удавалось сложить их вместе, и в тумане рассеянных мыслей вспоминал, что, если билет все еще влажен от вьюги, это означает лишь одно: я только что явился с мороза, вечеринка еще в самом начале, до расставания много часов и еще довольно времени, чтобы что-то произошло. И все же даже за этими приливами радости таилось нечто похожее на досаду – зачем папин приятель меня сюда затащил и продинамил, хотя, впрочем, возможно, это была никакая не досада, а очередной хитрый способ увести мои мысли оттуда, куда им хотелось прибиться, – ибо они все время возвращались к Кларе и к малоправдоподобному предположению, что Пух специально подстроил все события этой ночи. «Папаша умер. Я ему пообещал о мальчике позаботиться. Тот одинок. Не знает, куда себя девать. Пусть выйдет в люди».
Я зашагал в сторону парка Штрауса на углу Вест-Энд и Сто Шестой улицы. Хотелось думать о ней, о ее руке, ее блузке на холоде, о том взгляде, с которым она обращала в ехидство все то, что вам казалось безобидно-прямолинейным, который напоминал, что «Я пою в душе» – пошлое, избитое, выморочное клише. Хотелось думать о Кларе, но было страшно. Хотелось думать о ней по касательной, сумрачно, экономно, будто сквозь прорези в лыжной маске во время бурана. Хотелось думать о ней так, как в последний раз, как о человеке, чей облик размывается, которого начинаешь забывать.
Я как раз подошел к одному из фонарей, чтобы пристальнее всмотреться в это ощущение, – и почти воочию увидел, как фонарь наклонился мне через плечо, будто в обмен на то, чтобы помочь мне видеть отчетливее, искал сочувствия за свою добросовестную попытку проявить сочувствие – фонарь предстал в моих мыслях человеком, знакомым с сутью этого двойственного чувства почти блаженства и отчаяния, способным мне его растолковать, – мы же с ним знакомы уже много лет, он, разумеется, прекрасно понимает, кто я такой, почему сегодня повел себя именно так. Если спросить, он мне, наверное, скажет, почему жизнь подкинула мне эту Клару, и теперь смотрит, как я дергаюсь всем телом, будто утопающий, который цепляется за уходящий в воду буек. Так ты все знаешь, хотелось мне сказать, все понимаешь? Еще бы мне не знать и не понимать. И что нам теперь делать? – спросил бы я. Теперь? Ты приперся в дальнюю даль на вечеринку, а потом лез вон из кожи, чтобы сбежать, хотя тебе смертельно хотелось остаться. Чего ты от меня хочешь? Наставлений? Ответа? Извинения? А их нет. В голосе появляется сварливость. Я мог поговорить только с еще одним человеком, но он умер.
Там, где Вест-Энд-авеню сливается с Бродвеем, я сообразил, что и здесь не найду никакого такси, а что до М104 в сторону центра – шансов дождаться его не больше, чем М5 на Риверсайд-драйв. Повсюду толстым слоем лежал сияющий нетронутый снег. Ни одной машины в виду, а границы между мостовыми и тротуарами, между улицами и парком, между парком и незаметной точкой, где Бродвей сливается с самой северной оконечностью Вест-Энд-авеню, исчезли. Снег покрыл все, превратил город в бескрайнее замерзшее озеро, из которого торчат деревья и странные выступы – капоты засыпанных машин, припаркованных вокруг парка Штрауса.
В самом парке зазябшие заиндевелые кусты тянулись к небу – стайка обнаженных заскорузлых напряженно вытянутых рук, что манят нас в оливковые рощи Ван Гога, точно мучимых иудеев из Кале, сгрудившихся на холоде, а густо-белый заливчик у основания каждого фонарного столба делает все окружающее девственно-чистым, опрятным и торжественным – как будто фонарные столбы выстроились в ряд, чтобы обозначить посадочную полосу для заплутавших волхвов, прилетающих в сочельник.
Снег столь покоен и беззвучен – снег простодушный, как Кандид, подумал я, вспомнив реконструкцию индоевропейского корня этого слова у Покорного: «*kand – сиять, светиться, мерцать, вспыхивать, отсюда же кандела и канделябр». Снег был явно простодушнее, чем я. Дай я зажгу здесь свечу в канделябре и подумаю про Клару, про тот миг в храме, много лет назад, когда все мы положили по доллару и поставили свечи бог ведает кому.
Я развязал ее узел, снял шарф с шеи, уютно перекрестил его концы под пальто – так, как делал всегда. Холодно не было. Я стал раздумывать, не растает ли снег, пролежит ли до завтра. Теперь так уже не бывает. Медленно пройдя по парку, я отыскал скамейку – и в голову мне пришла безумная мысль. Посижу здесь. Я смахнул перчаткой снег и в конце концов уселся, вытянув перед собой ноги, будто решил позагорать сразу после полудня, после сытного обеда.
Хорошо там было, мне нравилось, как оба проспекта и примыкающие к ним улочки сливаются в этом месте: они скрылись в снегу, и внезапно стало ясно, что на Верхнем Вест-Сайде можно найти скрытую гармонию, непроявленные площади, которые вдруг вырастают из ничего, как лотки передвижных рынков, – новые площади, которые вылепляются из снега и видны лишь до тех пор, пока он не растает. Я бы с радостью просидел здесь до рассвета в надежде, что снег пролежит всю ночь и весь завтрашний день, чтобы вернуться завтра вечером и обнаружить его на месте, снова сесть вот на эту самую скамейку, будто я изобрел собственный ритуал, нашел собственное убежище, – и дождаться, пока мгновение вновь омоет меня лучезарным светом, пусть даже мне хорошо известно, что блестящая патина, которую я навел на парк Штрауса, навеяна погодой, навеяна выпитым, навеяна влюбленностью и чувственностью – всего лишь случайное стечение обстоятельств, как вот то, что я сижу на этой, а не на какой-то другой скамье, что отыскал такую вот красоту, потому что не смог отыскать такси, что оказался здесь, а не на Риверсайд, что раскусил горошину перца, а не просто крупинку, стоя не в библиотеке, где мог бы сперва познакомиться с Бэрил – и тогда прожил бы совершенно иной вечер, может, он стал бы куда лучше, однако за наряженной елкой… Внезапно все эти случайности исполнились ясности, сияния, гармонии, а значит, радости – радость, подобная снегу, то есть очень недолговечная, радость непродолжительных чудес, вторгающихся в нашу жизнь, радость как свет на алтаре. Я знал, что завтра вечером вернусь сюда же.
И все это – в одном коротком слове, восходящем к языку, на котором, возможно, никто никогда не говорил: *kand… Простодушие женщин.
При этом я ничего о ней не знал. Я знал ее имя, не мог написать фамилию, видел, как она целовалась с мужчиной, а потом – с женщиной. Кто она такая? Чем занимается? Какова? Что о ней думают другие? Что она думает о себе, обо мне? Чем занимается, когда одна – и нет чужих глаз?
Мне, наверное, хотелось одного: сесть и подумать, подумать ни о чем, погрузиться в себя, помечтать, отыскать все, что есть прекрасного, и – я ведь ни разу не позволил себе этого за весь вечер – потомиться по ней, как мы томимся по человеку, о котором знаем: никогда больше нам не дано его встретить или встретить на тех же условиях, и все же томимся непреклонно, потому что это томление и делает тебя – тобой, делает тебя лучше, чем ты есть, потому что томление заполняет сердце.
Заполняет сердце.
Так разлука, горе и скорбь заполняют сердце.
Я не знал, что все это означает, не верил себе самому, но, перебирая в мозгу эти мимохожие мысли, я не шевелился, будто бы происходило нечто вневременное и торжественное, не только в самом парке, где я сидел на холодной скамье, но и во мне самом, поскольку я же вошел в это безлюдное одинокое место под названием парк Штрауса, куда люди вроде меня приходят побыть с самими собой и со всем, что их окружает. Город, ночь, парк, крикливая неоновая вывеска над аптекой на другом конце парка, справа над кафе, где продают курицу. Как она затушила сигарету, а потом аккуратно столкнула окурок с кромки носком туфли, неотвязный образ ее алой блузки, напоказ расстегнутой ниже ключиц, так, что можно догадаться, предлагается догадаться о форме ее грудей, пока она говорила со мной и необидно меня подначивала, когда речь шла о любви в трясинах и траншеях, только чтобы заманить меня в эти самые трясины и траншеи и напомнить, что она, с ее-то самоуверенным видом, на деле – на случай если я забыл – любительница вечеринок совершенно не про твою честь, она просто случайно оперлась локтем о твое плечо по ходу разговора и случайно создала у тебя представление, что вы с ней – одно, но не одно, но все же одно, но никогда одним не будете.
Мне хотелось пожалеть себя, пожалеть за то, что я вечно тоскую, тоскую, тоскую – и не знаю, куда податься и как существовать за пределами тоски. Вот бы зажечь свечу в парке Штрауса, как зажигаешь в церкви, когда не знаешь толком, о чем твоя молитва – то ли ты хочешь о чем-то попросить, то ли поблагодарить за то, что уже получил или просто узнал, что оно существует, за то, что тебе позволили увидеть это в такой близи на краткое время, которое дано нам, чтобы увидеть, за то, что простое желание удержать в памяти его соприкосновение с нашей жизнью наделено всеми чертами не томления, надежды или даже любви, а преклонения.
Сегодня она стала лицом моей жизни и того, как я хотел ее прожить. Сегодня она стала моими глазами, раскрытыми в мир, который в ответ смотрит на меня.
Сегодня я смог подойти так близко – еще один взгляд, и я тебя поцелую, Клара, как ты поцеловала Бэрил, – язык во рту, именно поэтому и я стал целоваться с Бэрил: мой язык, ее язык, твой язык, все языки.
Дай мне волю, я поставил бы воображаемую свечу прямо здесь, погрузил бы ее в снег, как Клара погрузила свой бокал в снег на балконе, а я так его там и оставил. Я бы зажег не одну свечу, а много и расставил бы их вдоль края клумбы с засохшими цветами, окаймляющей статую Памяти, и я бы обставил саму статую с ног до головы тонкими свечками – как обставляют мадонн и святых на крошечных уличных алтарях в деревушках Испании, Италии, Греции, – пусть мерцают на весь парк Штрауса, точно блуждающие огоньки на сырых заболоченных кладбищах, где по ночам души мертвых встают из могил и мечутся светлячками, собираются в стайки, чтобы было теплее, до самой зари, ибо мертвые всегда добры друг к другу.
Я сидел бы здесь, не шевелясь. Ради нее я готов замерзнуть. Ибо сегодня она стала лицом моей жизни и того, как я так и не научился жить.
Надо думать, именно из-за холода у меня на глазах выступили слезы, хотя я столько выпил, что поди разберись. Я смотрел на ближайший фонарь, и он начал двоиться, а фонарный столб, который до того стоял внаклонку, вдруг закачался, будто пытаясь сдвинуться с места – того и гляди потащится в мою сторону, шаркая, точно нищий на больных ногах, вполне достоверно подражая лунатику. Он постоял, покачиваясь взад-вперед, будто пытался убедиться, что видит именно меня, а потом отстранился, зашаркал прочь и снова стал фонарем. Кто он был такой? Что делал в эту умопомрачительную ночь? Что я сам делал на холоде? Был ли он моим вторым «я», топтавшимся вокруг, твердившим, что лучше теперь попробует сам – ведь я так все запутал для нас обоих? Или он был мною незавершенным, и сколько их еще таких, которые так и не увидели света дня и, возможно, никогда не увидят, сколько из них мучительно пытаются вернуться из прошлого только лишь для того, чтобы угостить меня скомканным утешением и досадливым советом – не поминая, что записочки с пожеланиями, которые мы просовываем сквозь толщу времени, написаны симпатическими чернилами, – все эти «я» толпятся вокруг меня, точно назойливый легион из иного мира, жаждущий попробовать того, что столь непринужденно и, наверное, незаслуженно было дано мне и только мне: кровь моей жизни.
Пожалуй, я поставлю и им свечки в парке Штрауса, ритуальными двойниками того, что я не разглядел внутри себя и пытаюсь воплотить вовне в образе свечей.
Тут я все понял и дотронулся до заиндевелой ветки, висевшей прямо у меня над головой. Она превратилась в лед. Я подергал, но отломить ее не удалось. А если потянуть сильнее? Ветка, может, и отломится, но я, скорее всего, порежусь. Я представил себе, как на пальце набухает капля крови и падает на снег. Я закинул голову назад до упора и подумал, что бы сейчас сказал мой отец: «Ничего нового. Ты уже давным-давно такой. А помочь тебе некому. Жизнь в моей крови, душа моей жизни».
Что бы сказала Клара, если бы увидела, как с моего пальца капает кровь? Я представил себе, как она подходит ко мне в своих бордовых туфельках и стоит прямо передо мной на снегу.
Что с тобой такое? Дай-ка взглянуть.
Да ничего.
У тебя кровь идет.
Да, знаю. Боец в окопах, знаешь ли.
Жалеешь себя?
Без ответа. При этом – да, я себя жалел. И ненавидел.
Она оторвет лоскут от своей алой блузки, обмотает вокруг моего пальца, потом – вокруг запястья. Я вспомнил герцогиню Клевскую, как она обматывает желтую ленточку вокруг деревянной трости человека, которого любит. Этот виток ткани вокруг моей трости, моей плоти, моего Гвидо, моего всего – на краю твоей блузки, на твоей руке, на твоем запястье, твоем запястье, твоем милом испачканном благословенном богоданном запястье. Ты погляди, что ты натворил, – она улыбается – я пытаюсь сосредоточиться. Мог же заражение получить.
Ну и получил бы?
Можно мне здесь помедлить: как она врачует мою рану.
А потом, когда она завершила свою работу санитарки: ну, и зачем ты это сделал? – спросит она.
Из-за того, чего я всегда хотел, но никогда не имел.
«Из-за того, чего ты всегда хотел, но никогда не имел». Да ты насмерть замерзнешь, тут сидючи.
Ну? Просидеть в парке всю эту морозную ночь, а утром меня найдут замерзшим до синевы – но если ради тебя, я не против.
Ради меня или ради себя?
Я передернул плечами. Ответа я не знал. Но правильными были оба ответа.
Амфибалентность, говорит она.
Амфибалентность, говорю я.
И тут до меня доходит, что в этом кратком обмене репликами между нашими теневыми сущностями в безлюдном парке смысла было больше, чем во всем сказанном в эту ночь. Беседа влюбленных, как в стихотворении Верлена, где тени наши соприкоснулись, а остальное просто ждет, и ждет, и ждет. Ничего нового. Я так живу уже давным-давно.
– У вас что-то случилось? – Полицейский в форме захлопнул дверцу своей машины и шел ко мне через парк. Казалось, что на всей планете кроме меня только один он и остался.
Я покачал головой и сделал вид, что смотрю в другое место. Неужели я все это время говорил с самим собой?
– Вы здоровы?
– Да, инспектор. Просто собирался с мыслями.
«Собирался с мыслями» – за такое можно и под арест попасть.
– Никаких тут глупостей не задумали?
Я снова покачал головой и улыбнулся. Второй раз за эту ночь.
– Алкоголь употребляли?
– Еще как. С перебором.
– Счастливого Рождества.
– Вам тоже, инспектор…
– Рахун.
– Рахун, как в «Далекий дождь бормочет над Рахуном»?
– Не слыхал этой песни.
– Это не песня, стихотворение. Одного ирландца.
– Ничего себе!
Я хотел сказать «чесслово», но решил – не стоит.
– Чего там у вас, с женщиной нелады? – Он сложил руки на груди. Я видел, как из-под тесной синей куртки выпирает край пуленепробиваемого жилета.
– Не-а. Не с женщиной. А вот отец помер. Все думаю про него сегодня, скоро как раз годовщина будет.
И тут я вспомнил его собственные слова: «Скоро я и вовсе не буду знать, жил я или нет» – и если душа моя столкнется с твоей на запруженном тротуаре, сердце мое не екнет, как в тот вечер, когда ты заглянул в мою комнату. Столько любви – и все впустую, такой запас книг и стихов – и все кануло. Я смотрю на эту руку и знаю, что скоро ее уже не будет, потому что она уже не совсем моя – как и глаза мои не совсем мои, да и сам я не здесь, ноги уже ушли вперед меня и нашли местечко поуютнее в неком неведомом часовом поясе за Летой и Флегетоном. Я теперь даже и не вспомню Лету и Флегетон, или бурные волны Шэннона, или «Федон», или храброго Аристида и длинные речи Фукидида, которые мы читали вместе. Все эти бессмертные слова – исчезли; Византия – исчезла. Пф-ф! Часть моей души мне больше не принадлежит, как жизнь моя никогда мне толком не принадлежала, как моя одежда, моя обувь и запах моего тела никогда мне толком не принадлежали, как даже «мое» мне больше не принадлежит, мои мысли, волосы, все мое меня покинуло, и любовь мне тоже больше не принадлежит, она заемная, как зонтик, снятый с шаткой вешалки – ты и я – зонты на вешалке, хотя ты мне теперь ближе, чем кровь в моей шее, дыхание моей жизни. Я смотрю на себя в зеркало и делаю одно: прощаюсь со своим и с твоим лицом. Я оставляю тебя постепенно, моя любовь, я не хочу, чтобы ты горевала, я хочу забрать это твое изображение тебя с собой туда, куда меня гонят, – в надежде, что, когда я закрою глаза, это исчезнет последним, ибо говорят, что последнее тобою увиденное можно забрать с собой навсегда, если можно «забрать» за Лету и Флегетон.
– Слыхали про Лету и Флегетон, инспектор?
– А кто они такие?
– Неважно.
Худшее в смерти – это знание, что ты забудешь про то, что вообще жил и любил. Проживаешь семьдесят лет или около того и умираешь навсегда. Почему невозможно по-другому? Пробыть мертвым семьдесят лет – можно добавить и еще семьдесят для ровного счета – и при этом жить вечно. Для чего вообще нужно умирать? Плевать мне на тех, кто говорит, что прожить больше одной жизни никому не по силам. Спросите у мертвых, увидите, что они ответят, – спросите у мертвых, от чего бы они не отказались, только чтобы оказаться здесь, увидеть сегодняшний снег, насладиться целой неделей таких вот звездных ночей или влюбиться в самую красивую женщину на свете. Спросите у мертвых.
– «Пообещай мне одно, – бывало, говорил он. – Когда придет время, ты мне поможешь – но только если я об этом попрошу, не раньше; пока могу, я буду держаться, так что не раньше».
– И он попросил?
Представитель закона берет меня хитростью?
– Так и не попросил.
– Они никогда не просят, когда доходит до дела. Чего же вы так переживаете?
– Он задремал на несколько часов, а я бродил вокруг дома, точно любовник, который ждет, пока подружка заберет из его квартиры все свои вещи до последней, в надежде, что она передумает, пока не дошел до парка и не понял по свисту студеного ветра среди деревьев, что он добрался до места. Я собирался почитать ему Плутарха. Я дал этому произойти.
– Преднамеренно?
– Этого я никогда не узнаю.
Скажите мне, инспектор Рахун, что я не бесчеловечен. Скажите мне, что он все знал, инспектор Рахун.
– Вы гляньте, какая луна.
– Доброй ночи, луна, – сказал я.
– Доброй ночи, луна, – повторил он, чтобы меня потешить, и покачал головой, имея в виду: «Ох уж эти люди!»
Какая-то побирушка перешла улицу, двинулась к нам. Видимо, парк служил ей спальней. Уборной. Кухней. Гостиной.
– Мистер, дай хлебца.
Я засунул руку в карман.
– Охренели вы, что ли? – сказал полицейский. А потом повернулся к побирушке: – Проваливай, мамасита.
– Не браните ее. Рождество ведь.
– Вот она сейчас вцепится в вас своими загребущими пальцами – будет вам Рождество.
Побирушка, почуяв мягкосердечного человека, не сводила с меня глаз, беззвучно выпрашивая.
У самого выхода из парка Штрауса я вытащил из бумажника пятерку и сунул побирушке в ладонь. Por mi padre[13]13
За моего отца (исп.).
[Закрыть].
– Вы че, серьезно?
– Оставьте инспектор, – сказал я. Кто его знает, хотел я добавить. В другую эпоху старая карга попросила бы меня сесть на одну из скамеек, принесла ведро воды, чтобы омыть мне ноги, заметила бы что-то, и я оказался бы дома. Y por Clara también[14]14
И еще за Клару (исп.).
[Закрыть]. Вот что надо было добавить.
Рахун исчез вместе с машиной, снова тишина.
Переходя, кажется, дорогу, а не тротуар, я оглянулся на парк – теперь я знал твердо, что отдал бы все на свете, чтобы начать этот вечер сначала в точности так же, как все и вышло, поступить со временем так, как поступали римляне, объевшись до отвала: отрыгнуть время, перевести часы обратно на семь и начать заново отсюда, из парка Штрауса. Падает снег. Идти на вечеринку все еще слишком рано. Остановлюсь, выпью чая в этой маленькой кофейне. Потом подойду к дому, сделаю вид, что не уверен, тот ли это адрес, отряхну зонт, прослежу, как кряжистый русский с его звучным голосом открывает мне дверь, войду в лифт – его готический портал и намеком не выдает, куда все сегодня покатится. Вот бы начать вечер заново еще раз, и еще много-много раз, потому что я не хочу, чтобы он кончился, потому что, если нечто томительное, незавершенное повисло надо всей этой ночью, я ее никому не отдам, какой бы она ни была томительной и незавершенной, и сочту себе благословенным дважды.
Завтра ночью я вернусь и вновь зажгу каждую свечку, одну за другой, огляжусь, почти ощущая, как во всех уголках парка все еще звучит эхо Клариного присутствия, меня, моей жизни и того, как я эту жизнь провожу, моего отца, который, пусть я этого и не знал, следовал за мной с самого начала вечера и за которого я держался, точно за тень, что может исчезнуть в любой миг, а потом возвращается, дабы взглянуть последний раз, как будто забыла ключи, а потом еще раз, как будто забыла очки, и еще раз, как будто не проверила газ, и будет возвращаться много раз, как несчастный беспокойный измученный человек, который почти не ведал в жизни любви, как я буду возвращаться на это место, боясь, что оставил здесь что-то, зная, что оставленное – это мое теневое «я», причем это теневое «я» – самое подлинное и самое долговечное из всех «я».
Оглянувшись в самый последний раз, я подумал про себя, как сильно всегда любил этот маленький парк, как легко будет завтра приехать снова и посидеть здесь немного, поразмышлять в белизне предрассветного часа о непроницаемом безмолвии звезд.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?