Текст книги "Царь муравьев"
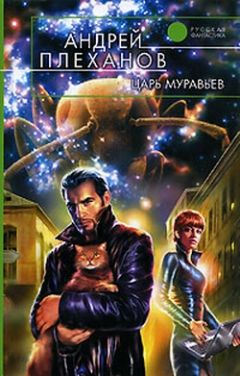
Автор книги: Андрей Плеханов
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Глава 25
Ах, Женя, я гуляю по Парижу! И Женя гуляет вместе со мной, держит меня под ручку. Женя в длинной плиссированной юбке, клетчатом жакете, на голове ее бордовая беретка, сдвинутая на бок; стройные ножки Жени, обутые в желтые теннисные туфли, мягко ступают по булыжной мостовой Монмартра. Толпа течет вокруг нас, людей несчетное количество, они стараются не задевать друг друга, но все равно мимолетно соприкасаются локтями. Люди улыбаются, щелкают фотоаппаратами, ежеминутно наводят друг на друга любопытствующие глазки фото– и видеокамер. Звучит французская, английская, голландская, русская, венгерская, японская, индийская речь. А еще играет шарманка – маленькая вертлявая француженка устроила на площади представление. Она похожа на обезьянку, она в кепи, в красной атласной рубахе, черных брючках с наружными карманами, обшитыми белой строчкой, в черном жилете и высоких армейских ботинках. Она крутит ручку, лента вползает в массивный ящик и звучит механическая мелодия, вызывает ностальгию по ушедшему веку. Француженка поет громко и картаво, подражает Эдит Пиаф. А может, и не подражает. Все француженки похожи на Пиаф, когда поют по-французски, громко и картаво. Все, кроме Патрисии Каас, к ней это не относится, но не думаю, что Каас будет выступать на площади с шарманкой – мадемуазель поет блюзы в больших концертных залах.
Середина октября, в Москве первый обильный снегопад, водители еще не успели переобуть свои машины в шипованую резину, и потому бьются друг о друга как пасхальные яйца – чья скорлупка не расколотилась, тот выиграл. А здесь, на Монмартре, плюс двадцать один по Цельсию. Я снял пиджак, повесил его на руку, остался в рубашке, и все равно мне жарко. Живут же буржуи!
На Монпарнасе стоит высоченный небоскреб, блестящий черным стеклом. Не помню, как он называется, помню только, что в нем двести с лишним метров высоты. Вчера мы с Женькой забрались на самую его крышу, на обзорную площадку. Там дул сильный ветер, солнце слепило глаза, и я цеплялся за ограду, боялся свалиться вниз, хотя свалиться никак не было возможно, даже если постараться. С детства боюсь высоты. «Видишь, видишь? – спрашивала Женечка, и показывала пальцем на игрушечные белые домики, усеявшие поле зрения до самого горизонта, тонущего в сизой дымке смога. – Вот Сена, вон остров Сите, а там Нотр-Дам. А вон Дом Инвалидов! А вот этот здоровенный прямоугольник – Лувр! Видишь, Дим?» Я подслеповато щурился и видел, и кивал головой.
Это было вчера, а теперь мы стоим на Монмартре, самой высокой горе Парижа, спиной к белой базилике Сакре-Кёр, и смотрим на этот самый небоскреб сверху. Он на самом деле высок – торчит из города как толстый черный карандаш, и кажется, что его можно сшибить щелчком. А чуть ближе тонким пиком выступает игрушечная Эйфелева башня. Хочется выломать ее из макета города, положить в карман и увезти домой на память. Когда смотришь на огромный город с горы, кажешься себе великаном. На самом деле ты лишь точка – одна из сотен точек-людей, хаотично перемещающихся по площадке перед Сакре-Кёр. С Эйфелевой башни тебя трудно рассмотреть даже в бинокль.
На Эйфелеву мы так и не залезли – я заявил, что с меня достаточно головокружительных высот, а Женя, оказывается, уже побывала там. Я думал, что покажу ей Париж, но именно она показывает мне город, и рассказывает, и для меня все раскрывается по-новому, не так, как в прошлый раз. Потому что я не знаю французского, просто ни бум-бум, а Женька, как выяснилось, свободно чирикает по-французски, да и по-английски – куда лучше меня. Память у подлиз работает будь здоров, это всем известно. Можно только позавидовать.
Интересно, а мэр Парижа уже стал фрагрантом, или не удостоен пока великой чести? Трудно сказать. Думаю, даже Женя этого не знает. Хотя среди финансовой олигархии Франции подлиз полным-полно (Ганс работает, не покладая рук), фрагранты все еще не афишируют свою принадлежность к избранным. Ксенофобия, зависть обычных человеков к высшим существам – то, с чем подлизам приходится сталкиваться на каждом шагу. Казалось бы, все так просто: приди в любое региональное отделение «Sazonoff’s Remedy Inc.», заполни анкеты, пройди собеседование и бесплатное медицинское обследование, и, будь ты хоть королем, хоть нищим, имеешь полноценный шанс получить инъекцию волшебного эликсира, и стать идеально здоровым. Казалось бы, все равны…
Некоторые равнее прочих, это очевидно. И преимущество состоит далеко не в богатстве – Ivan Sazonoff давно стал мультимиллиардером и деньги волнуют его меньше всего. Главное – интеллектуальные показатели и генетическое здоровье испытуемого. Старательно декларируется то, что фрагранты ничем не отличаются от обычных людей, они всего лишь пациенты, получившие по медицинским показаниям доступ к новому фармакологическому препарату – эффективному, но далеко не безопасному. Действительно, известны десятки случаев, когда пациенты, даже успешно прошедшие тесты, умирали после инъекции в течение нескольких часов. Против Сазонова подавали сотни судебных исков – он либо выигрывал их, либо оплачивал без малейшего для себя урона. Потому что миллионы людей, отобранных по его методике и ставших подлизами, составляют основу гигантской финансовой империи, не имеющей государственных границ.
Они не рабы Ганса. Они даже свободнее обычных людей, потому что могут не задумываться ни о здоровье, ни о хлебе насущном – братья по крови поддержат их в любом начинании, выдадут беспроцентный кредит и помогут наладить дело. И все же никто из них не скажет открыто на улице: «Я – фрагрант». Потому что из тех, кто приходит в отделения «Sazonoff’s Remedy Inc.», тесты проходят не более пятнадцати процентов. Остальным остается только завидовать.
Я – не подлиза. Не подумайте, что не прошел тесты, мне даже не нужно их проходить. Ганс лично предложил мне стать фрагрантом, – из уважения, как ветерану «боевых событий», предшествовавших его выборам. Но я отказался. Трудно сказать, почему. Наверное, слова Мозжухина все еще сидят в моей многажды травмированной черепушке.
Сколько подлиз сейчас гуляет в толпе возле нас? Понятия ни имею. А вот Женя чует каждого из них. Подлизы вынюхивают друг друга моментально, но никогда не подают вида, что узнали, если находятся в публичном месте. Их время еще не пришло, пока они не стали господствующим биологическим видом и вынуждены вести себя скромно. Но станут, сомневаться в этом не приходится. Фрагранты не спешат. Им нельзя спешить, чтобы не поставить на дыбы остальное человечество. Подлизы врастают в общество незаметно, и столь же незаметно переделывают его.
Мы с Женей поселились в гостинице на северо-западе Парижа, недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль. Добираться оттуда до центра далеко, сперва на электричке, потом на метро. Зато там дешевле – в самом Париже цены на номера заоблачные. Если учесть, что гостиницу нам оплачивают, то выбирать не приходится. Впрочем, жаловаться не на что: отель маленький, но современный и удивительно удобный. Отделка безлично-офисная – то, что у нас в России гордо называют «евроремонтом». В небольшой комнатке – двуспальная кровать, занимающая большую ее часть, комод, телевизор на кронштейне в углу, окно во всю стену, закрытое жалюзи темно-зеленого цвета. Курить нельзя, но мы и так не курим. Нам обоим очень нравится санузел. Это треугольник из пластика, намертво вдвинутый в угол комнаты – кремовый снаружи и ярко-оранжевый внутри. В нем умещается умывальник, унитаз и душ, хлещущий сразу со всех сторон. И еще в кабинке прекрасно умещаемся мы с Женей – конечно, лечь там негде, но ложиться ни к чему – мы делаем то, что нам нравится, стоя, прямо под теплыми струями воды. Очень экзотично, по сравнению с обычным домашним душем – в десять раз лучше. Если не верите – прихватите свою любимую девушку, езжайте в Париж, снимите номер на окраине, в отеле «Relais Premiere Classe», и немедленно в душевую. Немедленно! Ваша девушка будет в восторге, ручаюсь, и вы тоже. Если кабинка немного разболтана и покачивается при движениях, то вероятно, это та самая, где мы с Женькой провели немало приятных минут. Наша с ней работа. Мы старались.
Еще не наступили сумерки. Мы с Евгенией спускаемся с Монмартра, держась за руки, многие оглядываются на нас и почему-то отворачиваются – наверное, мы выглядим невыносимо счастливыми. Каждые несколько минут к нам пристают местные негры. Негры смотрятся живописно – кожа у них иссиня-черная, одежды цветасты, на голове копна дредов – ямайских косичек, на узловатых пальцах – множество железных колец. Я не расист, к неграм отношусь спокойно. Монмартрские негры были бы ничего, если бы не доставали так сильно. Они очень хотят ваших денег, и готовы их заработать. Некоторые продают дамские сумочки, но таких немного. Имеются также наперсточники на французский манер – в руках у них три пластиковых стаканчика, и шарики куда больше, чем на бескрайних просторах России, а в остальном все тот же обман трудового населения. Большая часть негров предлагают дернуть за веревочку. Я наблюдал за процессом со стороны, но так ничего и не понял, потому что не знаю языка. Дернул за веревку – плати бабки. Все честно. Я дергать не стал, хотя предлагали раз сто. Денег у нас Женькой предостаточно, но не люблю тунеядцев любого сорта. «Get lost, guys! [32]32
Отвалите, ребятки! (англ.).
[Закрыть] » – говорю я им. Они делают вид, что не понимают.
Кто финансирует нашу поездку в столицу солнечной Франции? Я так и не разобрался. Ясно, что оплата идет по линии фрагрантов, но за что, за красивые глазки? Женя уверяла, что мы едем по делам, и действительно на второй день мы зашли в какой-то офис в Дефансе – для этого пришлось пройти через тройную охрану и подняться на лифте на сто пятый этаж. Дело заняло минут десять : Евгения перебросилась парой слов с носатым мосье, подписала несколько бумаг и получила компьютерную распечатку, которую довольно небрежно сунула в свой рюкзачок. И ради этого нам выписали командировку на неделю с солидными суточными?!
Хорошо быть подлизой, что и говорить. Или, к примеру, любимым человеком подлизы – как я. Любимым человеком даже лучше: меньше знаешь – дольше живешь.
– Сколько раз ты была в Париже? – спрашиваю Женю.
– Пять, – она показывает открытую ладошку с растопыренными пальцами.
Я хмыкаю и затыкаюсь. Куда нам, простолюдинам, до фрагрантских аристократок? На языке вертится вопрос: с кем она здесь была, не могла же такая красивая девушка жить одна? Но лучше не спрашивать – вдруг ответит? Женя неохотно рассказывает мне о прошлом, лишнего слова из нее клещами не вытянешь. Да я и не хочу знать о тех, кто был до меня, потому что ревную к ним мучительно и безысходно. Лучше не знать.
Женька любит меня, хотя я не подлиза. Значит, я самый лучший. Во веки веков, аминь.
Мы доходим до знаменитой Пляс Пигаль – в реальности ободранной и непрезентабельной, садимся на автобус и едем к центру. Скоро начнет смеркаться, и, значит, пора подумать об обеде (то есть, в переводе на русский язык, об ужине). Сегодня, как и вчера, Женя тащит меня в Латинский Квартал, это ее любимое место. А я даже не подозревал о его существовании, когда был в Париже раньше. Нас, русских докторов вывезли с симпозиума в Германии во Францию на один день, и все время мы куда-то мчались с высунутыми языками: Эйфелева башня, вид снизу, Сена, вид сверху, квартал Дефанс, вид издалека, Лувр, вид сбоку, Нотр-дам-де-Пари, вид изнутри, Триумфальная арка и Елисейские поля, вид из автобуса, из безнадежной автомобильной пробки. Большую часть дня заняло путешествие в автобусе туда и обратно. И после этого я хотел рассказать Жене о Париже? Смешно.
Вчера мы обедали (ужинали) в тайском ресторане, и я пришел в совершеннейший восторг – обожаю восточноазиатскую кухню. Сегодня Женечка обещала накормить меня в настоящем французском ресторанчике – маленьком, весьма дорогом, но именно настоящем. Я слабо брыкался, пускал слюни, вспоминая вчерашнее восточное пиршество, но Женя строго сказала, что мы во Франции, и поэтому должны есть французское, а вот когда будем в Тайланде, тогда уж от пуза наедимся тайским. Самая мысль о возможном посещении Тайланда привела меня в доброе расположение духа, и я согласился.
Мы идем по Латинскому Кварталу. В средние века это место было густо населено студентами, обучались они на латинском языке, отсюда и название. Помните: «На французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете». Музыка – Тухманов, слова – из вагантов. Когда я был маленьким, то думал, что «Вагантов» – это фамилия, а «Из» – это сокращенное имя Изя. Ну да ладно… Речь в песне идет именно о той части Парижа, по которой мы сейчас не спеша шествуем. Именно не спеша. Время подходит к семи вечера, в желудке возмутительно пусто. Это для меня, малоежки, пусто, а уж у обжоры Женьки там наверняка космический вакуум. Однако маленькая злодейка ведет меня куда-то совсем не туда. Подводит к магазину, витрины которого заставлены не сырами, колбасами и паштетами, а книгами, совершенно несъедобными с виду. Далее между нами происходит диалог – небольшой, но энергичный, подогреваемый чувством голода:
– Дим, ты здесь был?
– Миллион раз. Пойдем дальше.
– Врешь, ты не был здесь никогда.
– Ну хорошо, не был. Тут едят?
– Тут читают.
– Давай поедим, а потом вернемся и будем читать сколько влезет.
– Надо сходить сейчас. Пока мы будем кушать, она закроется.
– Кто – она?
– Лавка Шекспира.
Тут я замечаю, что поверху магазинчика написано корявыми буквами: «ShakespeareandCompanyAntiquarianBooks»[33]33
Антикварные книги, Шекспир и компания (англ.).
[Закрыть] . Вполне по-нашему, то есть по-английски. Такое даже я понимаю.
– Жень, если тебе так приспичило, заглянем в ближайший бар, скушаем по паре бутербродов, обретем сил на час-другой, и тогда уже пойдем смотреть книжки.
– Нет, никаких бутербродов, испортим весь вечер! Во французский ресторан нужно приходить голодным как волк.
– Там так ужасно кормят? Если не умираешь от голода, съесть это невозможно?
– Перестань, там кормят офигительно. Я заказала столик, и нас ждут через час. Если придешь раньше, будешь топтаться у дверей. Я специально оставила час, чтобы зайти в эту лавку. Ты идешь?
– Нет!
– Ладно, если не хочешь, не надо, можешь погулять по окрестностям. Я выйду через сорок пять минут. Если потеряешься, вызвоню тебя. Оревуар!
Она меня вызвонит… Смартфоны подлиз отлично работают в любой части света – не исключено, что даже в Антарктиде. К тому же совершенно бесплатно. Конечно, кто-то оплачивает это, но я не подлиза, мне всякие тонкости знать не положено. Пользуюсь телефоном на халяву и нисколько не возражаю.
Женя делает шаг к магазину и оборачивается. И говорит:
– Очень люблю эту лавку. Каждый раз, когда бываю в Париже, сижу здесь часами. А ты глупый, Дим. Глупый и упрямый.
Я молчу – упрямый так упрямый. В конце концов, я мужик и хочу жрать! Сколько можно таскать меня как болонку на поводке? Вали, милая, в свою антикварную лавку! Давай, вали! Что ты там читаешь – Овидия в подлиннике? Иди, рыскай по магазину, а я немедленно посещу бар и употреблю сандвич длиною в полметра, и запью его литром местного пива. Когда через сорок пять минут мы встретимся, я буду добрым и пушистым. Таким же глупым, как и раньше, но, вероятно, уже не таким упрямым.
Дверь в лавку – массивная, старинная, украшенная черными чугунными узорами. Женя поворачивает ручку и скрывается внутри, я вздыхаю с некоторым облегчением.
Оглядываюсь. По ту сторону Сены – вездесущий Собор Парижской Богоматери, вид слева, мы натыкаемся на него по пять раз в день, куда бы ни шли. Прямо передо мной – деревце неизвестной южной породы, с гладким лоснящимся стволом, растущее почему-то прямо через скамейку. Я нахожусь на самой окраине Латинского Квартала, сзади от меня на парковке расположились два десятка мотоциклов и мопедов, называемых здесь скутерами, и ни одной машины. Оно понятно: по узким улочкам квартала на нормальном автомобиле протиснуться трудно, разве что на игрушечном двухместном «Смарте», автомобильном огрызке, кургузом детище глобализации. Направо уходят узкие средневековые улицы. В приступающих сумерках мягко загораются вывески баров – их неисчислимое множество. Цены, конечно, кусаются… Достаю из кармана мятые купюры и пригоршню металлических евро. Сколько тут? Насчитываю полторы сотни. Никаких проблем – можно сидеть в обычном заведении не то что сорок пять минут, а хоть до самого утра. Вперед, Дима?
А как же лавка Шекспира? Женя там одна. Что она делает? Общается с друзьями-подлизами, местом сборища которых сей магазинчик является? Пьет чай с владельцем лавки, носатейшим аборигеном по имени, предположим, Пьер, и обсуждает, какой дурачок ее русский бойфренд, променявший самое уютное место в Париже на вульгарный бар? Или просто бредет вдоль полок, задумчиво проводит пальчиками по кожаным спинам старых фолиантов? И думает о чем-то, о чем угодно, о ком угодно, только не обо мне, потому что я в случае необходимости я отыщусь моментально, прибегу на цырлах, стоит лишь нажать кнопку телефона…
«Я очень люблю эту лавку. Каждый раз, когда бываю в Париже, сижу здесь часами. А ты глупый, Дим…»
Боже, какой я дурак! Судьба дала мне лучшую девушку в мире, а я постоянно брыкаюсь, пытаюсь стать выше ее, показать, кто в доме хозяин. Пора понять, что никогда я не буду хозяином. Мы равны, и каждый из нас – достойный и состоявшийся человек. Я хочу, чтобы она стала моей женой, мечтаю, что у нас родятся дети. Но, чтобы она согласилась на это, мне нужно переделать себя, а не ее. Внешне Женя чем-то похожа на Любку, но внутренне – ничего общего. Разница между ними – как между ограненным топазом и стеклянной подделкой.
Минуту назад я был готов отдать за пиво все свои деньги. Минуту спустя: даже если некий шейх Аравии отдаст мне все свои сбережения, не пойду ни в какой бар. Хочу к Жене.
Не потому что я переменчивый. А потому, что периодически начинаю думать посредством головы. Именно это сейчас и происходит.
Спешу в лавку Шекспира. Попутно вспоминаю, читал ли я что-либо из произведений великого автора. Выясняется, что практически ничего, кроме пары сонетов в школьном детстве, на факультативе по литературе. Ничего, вся жизнь впереди – прямо сейчас куплю и прочитаю. В оригинале. А вот возьму и пойму, что там написано – что я, хуже других?
Вхожу в лавку. В салоне ни одного покупателя, кроме меня. Магазин как магазин – стандартные сувениры и аляповатые хипповые «фенечки» на витрине; полки, уставленные разноцветными томиками книг современных авторов. Как принято на Западе, в основном в мягких обложках – нечего дом захламлять, прочитай и выброси. А где же антикварные книги? Где дух Шекспира? И где, кстати, Женя?
– Месью, – говорю пожилому продавцу на чистейшем английском, – вы не видели здесь девушку? Такую… э… в длинной юбке и шапке на голове?
Показываю на голову, чтоб понятнее было. Вдруг не поймет, чурка нерусский?
– А, Женья! – восклицает продавец. – Мадемуазель Женья?
– Йес, Женя.
– Она там, там, – он говорит на английском, но с таким акцентом, что понимаю его с трудом. – Там, дальше, – он машет опущенными пальцами в типично французском жесте. – Туда, и право, и верх! Там, где все!
– Гран мерси! – прикладываю руку к сердцу и кланяюсь. Месью улыбается в ответ во весь рот, вместо половины передних зубов – черные дыры. Звериный оскал капитализма? Или старый хиппарь экономит на зубной страховке? Седые волосы до плеч, короткая бороденка, наряд как у индейца из племени сиу. Скорее всего, экономит. Зубы не обладают для него духовной ценностью, не способствуют утолщению кундалини. Что ж, каждому свое.
Иду «туда и право». Кто такие «все», кстати? Пустят ли меня ко «всем»? Или, не воспользовавшись возможностью вовремя придти вместе с Женей, я буду распознан как чужой и вежливо спущен с лестницы?
Появляются люди, и вместе с ними изменяется интерьер. Исчезает равнодушный лоск современности, обстановка становится почти домашней… пожалуй, живи я во Франции, а не в России, воспринял бы ее совсем как домашнюю. В таком доме мог бы жить какой-то местный интеллигентный старикан, помешанный на книгах, и, само собой, с левой резьбой. В западной Европе, замечу, большая часть старой интеллигенции – леваки, чуть ли не марксисты. Не хлебнули они в свое время прелестей недоразвитого социализма, в отличие от нас. Надо мной нависает низкий потолок, оклеенный пожелтевшей бумагой, частично оторвавшейся и свисающей вниз лохмотьями. Тусклые конические лампочки без абажуров. Стены представляют собой простенькие, без стекол, стеллажи, сплошь уставленные книгами. Книги идут до самого потолка. Они, по сути дела, не антикварные, просто устаревшие – по оформлению видно, что большая часть их издана в шестидесятые-восьмидесятые годы. Все названия на французском языке – мне недоступны. Ладно, ладно… Вверх уходит лестница, исполненная в стиле, обычном для жилых домов Европы – настолько крутая, что перила идут почти вертикально, а ступеньки не шире пятнадцати сантиметров. Когда пробираешься по такому сооружению, то прикладываешь немалые физические усилия, что само по себе полезно для тренировки сердечно-сосудистой системы.
Через три секунды я уже на втором этаже – взлетел ловко, даже не держась за перила. Передо мной небольшой залец со столом, за которым расположены две невзрачных девицы в очках – сидят и читают, водят пальчиками по строчкам, беззвучно шевелят губами. Читают, похоже, не на родном своем языке, производят усилия ума. Вижу в стене коридора нишу – низкую, ровно в сидячий рост человека, крышей для нее служат полки, уставленные толстенными фолиантами. Страшно подумать, что будет, если они рухнут, потому что ниша представляет собою крохотный рабочий кабинет – здесь есть полочка, на которой стоит допотопная печатная машинка, и колченогий стул со вмятой красной подушкой, и настольная лампа, довольно ярко освещающая клетушку. Повинуясь внезапному порыву, сгибаюсь в три погибели и втискиваю в игрушечный кабинетец свое тело, сдавшее вдруг непомерно долговязым. Из машинки торчит лист, я бью пальцами по клавишам с латинскими буквами, а потом бросаю взгляд на сам лист…
Ниже бессмысленного набора букв, только что настуканного мною, написано:
«Darling Dima! I am waiting for you in the forth room. Don’t be silly.
Love, Eugenia.» [34]34
Дима, дорогуша! Жду тебя в четвертой комнате. Не будь глупеньким. Люблю, Евгения. (англ.).
[Закрыть]
От неожиданности я резко выпрямляюсь и бью темечком в полку-потолок. Зажмуриваюсь в ожидании, что центнеры осыпавшихся томов немедленно погребут меня под собой… Кажется, обошлось.
Выбираюсь на четвереньках. Два молодых красивых араба в клетчатых рубахах навыпуск следят за моими телодвижениями, улыбаясь настолько белозубо, словно сошли со стоматологической рекламы. «И разбивается на части, вооруженный до зубов, внезапно выпрыгнув из пасти рекламы пасты для зубов» [35]35
Доктор Бешенцев цитирует Е. Евтушенко.
[Закрыть]. Один из них протягивает руку и помогает мне подняться. Говорит при этом что-то по-французски. «Мерси! – говорю я. – Мерси боку! Шерше ля фам! Се ля ви! Оревуар!»
Квадратный вход ведет дальше, над ним на белой бумаге написано большими черными буквами: «Benotinhospitabletostrangerslesttheybeangelsindisguise». Будь я знатоком Шекспира, непременно воскликнул бы: «А, так это же наш старина Вильям, фраза из его пиесы „Перикл, князь тирский“! Но я не знаток Шекспира, поэтому ничего не восклицаю, а с трудом перевожу: „Не будь негостеприимным к незнакомцам, дабы им не быть ангелами в маскировке“. Бред какой-то… Иду дальше, в этот самый проход. Там должна быть четвертая комната. Всего лишь четвертая, а не, к примеру, четыреста сорок восьмая. Там ждет меня Евгения – мастерица загадок.
Иду влево, в глаза бросается плакатик: «Русский район». Прямо так и написано. Стоят книги – наши, советские. Глянцевый Лермонтов, строго-дерматиновый Пушкин, потрепанный Василий Белов. И, конечно, Ленин – почему-то на английском. Много тут чего есть, нет только Жени. Пробираюсь еще через два зала и наконец-то нахожу ее. Она сидит на низком диванчике, покрытом цветастым лоскутным одеялом, и читает толстенный том. Рядом сидит светло-коричневый парень в бородке и тюрбанчике и нашептывает Женьке что-то на ухо. Что, подлизы и в Индии появились? Или это местный, парижский сикх?
Для меня есть место на диване. Я приземляюсь.
– Ты ждала меня, милая? – спрашиваю.
– Привет, – Женя целует меня в щеку.
– Привьет, Дьима, мьеня зовут Ратур, – здоровается индус, протягивая руку. Я вяло отвечаю на пожатие, не интересуюсь, почему он умеет говорить по-русски и откуда знает мое имя. Ну, знает, и бог с ним.
Женя, оказывается, изучает подшивку журналов «National geographic» двадцатилетней давности. Смотрю на часы – еще минут тридцать здесь торчать, не меньше. И ничего тут нет экстраординарного – ни тайного сборища подлиз, ни шпионской сходки, просто библиотека. Поэтому я нахожу книгу на индийском языке и начинаю ее листать. Судя по пикантным картинкам – «Кама-сутра». Довольно занятная акробатика.
– Дьима, ти знаешь индийски? – спрашивает Ратур.
– Ни уха ни рыла.
– Извини, я не поняль.
– Не знаю я индийского. Это «Кама-сутра», да?
– Нет, это «Самара Хасиа Биака», учьебник секса. Ты любишь секс, Дьима?
– Я фанат секса, профессионал высшего разряда. – Женя реагирует на мои слова, бросает взгляд, почему-то скептический, и снова утыкается в журнал. – Вот эта поза как называется? – я показываю пальцем на картинку. – «Золотой пестик, смазанный вазелином, входит в нефритовую вазу снизу»? Примерно так?
– Перестань, Дим! – говорит Женя. Люди в зале оглядываются на нас, но мне плевать. Я хочу еды и секса – немедленно, и побольше. И пива хочу. Я грубое животное мужеского пола. Самец.
– Нет, это «кейра» и «нарвасадата» вместе, «полет орла», – терпеливо объясняет Ратур. – Очень сложный позишен. Такое могут делять только йога. Если ты хочешь так делять с твой дьевушка, вам надо соблюдать нияму, acaну, пpaнaяму, пpaтьяxapу и дxapaну.
– Да уж…
На картинке голый юноша стоит, широко расставив ноги, и не менее голая девица пышных восточных форм делает стойку на руках. Про остальные подробности позиции деликатно умолчу. Хоть я профессионал секса (и нечего смотреть на меня так скептически!), кажется мне, что подобная гимнастика вряд ли может доставить удовольствие. Впрочем, индусам виднее.
Ставлю книжку обратно на полку – вредно смотреть такое на голодный желудок. Наклоняюсь к Жениному ушку и шепчу:
– Я русский жеребец. Хочу тебя прямо сейчас!
– Мужчина, называющийся «Жеребцом», – шепчет в ответ Женя, – хорош собой, его тело восприимчиво к женской ласке, а член длинен. В любовном акте он тороплив и неаккуратен, самолюбив и неблагодарен. Его предпочитают рабыни, но не принцессы. «Кама-сутра», глава «Типы мужчин».
Я поперхиваюсь. Вот и разговаривай с такой ходячей энциклопедией. Что я могу процитировать ей в ответ? Отрывок из поэмы «Бородино»? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..»
– Ладно, ладно, принцесса, – бормочу я. – Вот ужо доберемся до дома, тогда посмотрим, кто у нас тороплив и неблагодарен…
– Все, пойдем кушать! – Женя поднимается на ноги. – Так и не дал мне почитать, негодяй!
Я на седьмом небе от счастья.
***
Ресторанчик занимает два этажа узкого, в три окна, дома, втиснутого между такими же узкими старыми домами. Нам достается столик в углу, у самой входной двери. Интерьер напоминает дешевую забегаловку советских времен: корявые деревянные столы, грубо оштукатуренная стена, крашенная ярко-желтой масляной краской, ряд веселеньких кафельных плиток в цветочек – точно таких же, как в туалете моей покойной бабушки. Народу, однако – полным-полно. На черных досках мелом написано меню – само собой, на языке Александра Дюма. К нам подходит мадам лет шестидесяти с гаком, вся в морщинах, но вполне французистая, с гонором во взгляде. Женя делает заказ: луковый суп, достаточно прожаренный бифштекс, отварной картофель, овощи. Ничего особенного.
– Что тебе взять на десерт? – спрашивает Женя. – Мороженое?
– Только не мороженое, – сиплю я, еще не отошел от недавней простуды. – Есть тут что-нибудь не холодное? Как в тайском ресторане – помнишь, личжи в сиропе?
– Тут не тайский ресторан. – Женя поворачивается к мадам и начинает что-то выяснять, физиономия мадам делается еще более брюзгливой. – Ага, Дим, не холодный десерт только один – «Семулю».
– Давай «Семулю».
– Ты уверен, что будешь его есть? – во взгляде Женьки появляется таинственная лукавинка.
– Оно ядовитое?
– Это нежное суфле под клюквенным сиропом. Во всяком случае, здесь так написано, – Женя показывает пальчиком в меню.
– Пойдет! И пива закажи!
– Может, вина?
– Пива, пива! У меня от их красного сухого сразу изжога.
Приносят пиво. Через полчаса, когда наконец-то доставляют суп в горшочках, я уже влил в себя две кружки и слегка осоловел – в хорошем смысле этого нехорошего слова. Луковый суп вкусный. Ну, вы знаете, что это такое – ели, вероятно, не раз, когда бывали во Франции. Бурый бульончик, в нем плавают размокшие куски поджаренного хлеба и нити расплавленного сыра. «Достаточно прожаренный» бифштекс – как всегда, полусырой, так тут принято, но есть можно. И, наконец, приносят это самое «Семулю» в фаянсовой плошечке. Я в ажитации размахиваю чайною ложкой, готовлюсь вкусить нежнейшего суфле. Разгребаю клюквенный сироп и вкушаю. Физиономия моя вытягивается в откровенном недоумении.
– Что-то знакомое, – говорю. – Специфический вкус, но не могу определить точно.
– Вкусно? – Женя хитро прикусывает нижнюю губу.
– Дрянь. Редкостная гадость.
– Хочешь узнать, что это такое?
– Не отказался бы.
– Даю подсказку. По-английски сие блюдо называется «Semolina». Не знаешь такого слова?
– Нет, с ходу не переведу.
– Посмотри в словаре.
– Лезу в словарь и смотрю. «Semolina– манная каша», – значится в словаре. Все, оказывается, просто. Душенька Евгения Павловна подколола меня умело и изощренно.
С детства ненавижу манную кашу, и Женька знает это. Бифштекс просится из желудка обратно. Вот ведь кобра подколодная!
– Это месть за плохое поведение в лавке? – спрашиваю я тихо, но напряженно. – Травануть меня решила, да? Вывезти на родину в гробике?
– От манной каши никто еще не умирал.
– Я буду первым!
– Ну прости, Димочка! – Она нежно гладит меня по руке. – Я больше не буду. Правда-правда!
Ну как тут не простить? Да я и не злюсь, только притворяюсь.
Злюсь я на Женьку только в одном случае – если ее долго нет со мной. Не могу без нее. Ужасно быть настолько зависимым от кого-либо, но что я могу поделать? Она – мой кислород, моя пища и питье мое. Когда она рядом, я спокоен и мыслю вполне здраво. Когда ее нет – начинаю сходить с ума.
Я болен Женей, и знаю, что болезнь эту не вылечить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































