Читать книгу "Первый, второй"
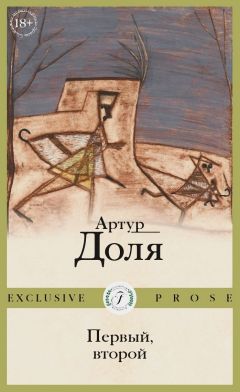
Автор книги: Артур Доля
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Белый парик с буклями, сюртук из красного сукна, шелковая сорочка с кружевным воротником, – рассматриваю портрет Вольфганга Амадея, – жлоб жлобом; типичный представитель австрийского дворянства XVIII века.
– Двое грабителей в масках, ворвавшись в ювелирный магазин… – продолжает Матвей.
Скручиваю фольгу в мячик, затираю углы о поверхность стола, пытаюсь создать идеальную форму шара.
– …разбив молотком витрину… – доносится голос.
А если б и вправду зарубил? Творческие разногласия – вечно в подвешенном состоянии – во сне кошмары – никаких обнадеживающих перспектив. Две недели такой работы, и нервы ни к черту, на каждый шорох начну вздрагивать. А тут… тюк! обухом по голове, в порыве отчаяния, и все. Остается набрать 911, бессмысленно уставиться в стену, сидеть, ждать, пока не придут… Последние минуты на свободе. И полная апатия – все равно что дальше будет; дальше не будет ничего, – можно наблюдать за собственным телом со стороны: вот оно, рядом, покоится на стуле; зачем его трогать? Нас разделяет пуленепробиваемое стекло. Либо пуститься в бега. Заехать домой, объявить жене, что уезжаю: «На днях меня объявят во всероссийский розыск… Ничего уже не изменить». Предупредить: «Когда тебя будут допрашивать, скажи, что собирался бежать в Испанию. Нужно пустить следствие по ложному следу». Договориться о встрече: «Пусть все немного утихнет». И шепотом, чтобы не услышали дети: «Запомни, ровно через год в шестнадцать ноль-ноль на скамейке Тверского бульвара, у памятника Есенину». Забрать наличность, какая имеется, обручальные кольца, ноутбук… лишить детей ноутбука! Потом на три вокзала. Скрываться от правосудия в провинции – самоубийство, там каждый новый человек – событие для окружающих, иголку лучше прятать в стоге сена, в Москве. Приехать на Комсомольскую площадь, найти на Казанском вокзале людей, торгующих поддельными документами, купить паспорт, снять по нему квартиру в Ясенево, затаиться и ждать, пока за мной не придут или пока не истечет срок давности за убийство; подходить к входной двери, вслушиваться в шаги на лестничной клетке, не дышать.
– …план «Перехват» результатов не дал. – Раевский ставит чашку на стол, сворачивает газету, произносит голосом разуверившегося в жизни человека: – Нет приличного материала.
– Восьмидесятидвухлетний пенсионер зарубил топором семидесятидевятилетнюю супругу.
– Ну и что? – ворчит режиссер.
– Материал.
Матвей снова шелестит газетой, находит текст, пробегает глазами:
– Жили-были старик со старухой, а в финале он ее зарубил.
Все-таки приятно иногда быть непонятым людьми. Почти злорадное чувство:
– То, что тебе показалось финалом, на самом деле завязка: старик зарубил старуху. Имелись у него основания или всего лишь почудилась измена, зритель должен понимать не раньше, чем закончится фильм.
Раевский кисло улыбнулся:
– Дедуля сидит в тюрьме и вспоминает прожитую жизнь.
– Не сваливайся в мелодраму.
– Во что я должен свалиться, если основная идея: был у него повод убивать или нет? В черную комедию? – наивно интересуется режиссер.
Прав, ехидна! Надо четче формулировать мысль, не с собой разговариваю. Святая уверенность, что собеседники находятся на одной волне, поэтому не стоит все проговаривать, уточнять детали, – достаточно определить направление движения мысли, и можно перескакивать с объекта на объект, пытаясь настичь неуловимое, – в очередной раз выставила меня недалеким, самоуверенным существом. С таким сознанием, да затевать полемику, – устанешь от плевков утираться.
– Дедуля пускается в бега. Он не намерен проводить остаток жизни в тюрьме, – сколько той жизни осталось? Теперь это загнанный волк. Закончились деньги – грабит ювелирный. Покупает в «Детском мире» пистолет, не отличить от боевого, надевает чулок убиенной супруги на голову, упирается игрушечным стволом в спину охранника: «Кто хочет умереть героем? Ты?!» Мы видим, как на штанах охранника появляется мокрое пятно. Старику везет – то, чего не было с ним последние лет пятьдесят, – он выбегает с добычей на улицу и растворяется в толпе: камера теряет налетчика из вида, мечется, прочесывает квартал за кварталом, наконец, останавливается, зафиксировав его в гастрономе, покупающим хлеб с колбасой. «Нет смысла заботиться о здоровье», – думает пенсионер и берет кока-колу. Пьет колу, кормит хлебом голубей на Патриарших прудах, напрягается при виде спешащего мимо полицейского, смотрит вслед стражу порядка тяжелым, недобрым взглядом. По всем приметам, у старика наступила вторая молодость. Дождливая осень, ранние сумерки, дед сидит на скамейке, недалеко от бронзового Крылова и ест мороженое. Рядом аккуратно одетая старушка роется в загаженной урне, чем-то неуловимо напоминая безвременно ушедшую жену. Старик вынимает из кармана горсть ювелирных украшений с бирками, выбирает оттуда золотую цепочку, серьги, и отдает горемыке. Наверняка у нее есть свой угол, приличная по российским меркам московская пенсия. Что она потеряла в жизни, чем хочет разжиться, переходя от урны к урне? Куда тащит мусор, домой? Размышления до сего дня не являлись характерной чертой существования пенсионера, даже реформа ЖКХ не вызывала желания рассуждать, и вдруг такое баловство. Почему от нее не воняет? Мимо на велосипеде проносится ребенок, распугав голубей. День назад в спину мальчишке полетели бы проклятия, а сейчас морщины сплелись в улыбку. Крупный план: улыбка понимания на лице.
Матвей морщится при упоминании крупного плана, его раздражает, когда сценаристы залазят на чужую территорию: кроме режиссера, никто на площадке не должен знать, как снимать. Я замолкаю. Смотрим друг на друга. Один… два… три…
– Извини.
Время от времени актер должен испытывать легкое чувство вины, если верить Раевскому. Повторюсь, режиссер – ментовская профессия. Пусть побудет актером, недолго, пока досчитаю до десяти, – девять… десять.
Извинения приняты.
– Становится прохладно…
Матвей понимающе кивает: да, да, продолжай, прохладно.
– Старик заходит в молодежное кафе, заказывает кофе. В начале фильма мы должны показать, что у него повышенное давление: тонометр, таблетки на столе. Сейчас, когда мир полон событий и красок, соткан из угроз, артериальное давление стабилизировалось. «Любому фору дам. Раунда против меня никто не выстоит!» – думает убийца, рассматривая посетителей за соседними столиками: изнеженные, безвольные лица! О них только кулаки разбивать. И в этот момент замечает за собой слежку. Пытаясь выглядеть беззаботным, шаркая разбитыми башмаками, каждым движением подчеркивая свой почтенный, неопасный возраст, неторопливо покидает кафе. Оказавшись на улице, резво перебегает через дорогу, запрыгивая в уходящий троллейбус. Сходит на следующей остановке, быстрым шагом направляется во дворы. Не успевает пройти и тридцати метров, как кто-то снова садится на «хвост». Выбрав безлюдное место, пенсионер вынимает безотказный, проверенный в деле пистолет, резко разворачивается, наставляя оружие на преследователя: «Руки! Подними руки! Покажи мне свои руки!» Насмерть перепуганный пешеход умоляет не убивать: «Не берите грех на душу!» – как-то так, в стилистике Достоевского… Возможно, слезинка ребенка. Отдав грабителю мобильный телефон, случайный прохожий сбегает, оставляя старика в недоумении. «Что-то неправильно, – размышляет преступник, разглядывая чужой мобильник, – что-то тут не так. Не вяжется одно с другим. Если за мной установили наружное наблюдение, значит, оперативник валял комедию, разыгрывая испуг. Перестрелки, погони, – заштатная для них ситуация. А если не притворялся, тогда зачем наступать на пятки? загонять в угол? Решили проверить, на что я способен? – Хмыкает, вспоминая перепуганного мента. – С помощью локатора они будут за мной следить!» – Спохватывается пенсионер, выбрасывая телефон. И тут же вспоминает бабульку, рывшуюся в урной: «Старая карга! Все вынюхивала что-то, высматривала. Делала вид, будто ей на меня плевать!» Поклонникам ментовских сериалов хорошо известно, как оперативники любят рядиться в сантехников, новобрачных, дорожных рабочих и еще не пойми кого. «А я-то, дурень, расслабился! Милостыню ей дал! – Давление прыгнуло, старик осознал допущенную оплошность: – Даже бирки не оторвал!» Страдая одышкой, с небольшими, но частыми остановками семенит на Патриаршие пруды. Цепким взглядом осматривает территорию, – старушки нигде нет. Прочесывает местность: нет! В голове единственная мысль: «Улики! Как избавиться от улик?» Роется в урнах, тех самых, где рылась она, надеясь на чудо. «Они уже приобщены к делу как вещественные доказательства!» – чуть ли не завывает преступник. Мания преследования усиливается. В одном человеке… потом в другом… в третьем… в каждом живом существе начинают мерещиться богини мщения, Эриннии. Сначала они молча преследуют старика, и тот, пусть с трудом, но как-то мирится с их существованием. Но затем Эриннии обретают голос, и каждое их слово, как жалящая оса. Через день мы находим его с воспаленными глазами, едва живого, у костра посредине городской свалки, в кругу бомжей. Старик заговаривается, вызывая злые насмешки и хохот собравшихся, но не обижается, понимая, что это никакие не люди, а дочери Зевса Хтония и Персефоны, принявшие облик бомжей.
Первая Эринния. Нас много здесь, но речь не будет долгою.
Вторая Эринния. Мы задаем вопросы, отвечаешь – ты.
Третья Эринния. Вопрос наш первый. Правда ль, что жену убил?
– Да, правда. Я убил. Не отпираюсь, нет.
Четвертая Эринния. Теперь сказать ты должен, как убил ее.
– Скажу. Своей рукою, топором в висок.
Пятая Эринния. Кто так велел, кто дал тебе совет такой?
– Божественный провидец, он свидетель мой.
Шестая Эринния. Так, значит, Бог тебе сказал жену убить?
– Да. И доселе не браню судьбу свою.
Седьмая Эринния. Заговоришь иначе, приговор узнав.
– Что приговор ваш? Только после тысяч мук.
И после тысяч пыток плен мой кончится.
Бомжам надоедает полоумный старик, они избивают его, обшаривают карманы – ни ювелирных украшений, ни детского пистолета; сто рублей медью весь улов, – и оттаскивают в сторону, оставляя подыхать. Через минуту про него уже все забыли.
Бесконечная свалка. Одной поломанной вещью на ней прибавилось. Но покуда бегут титры, слабые стоны разносятся над помойкой.
Я замолчал, упершись взглядом в Матвея. Оставалось выслушать чужое мнение. Ну что ж, послушаем! Наверное, так ведут себя маленькие свободолюбивые республики, всем своим видом демонстрирующие независимость.
Раевский потянулся за сигаретой:
– Будешь?
Мне показалось, он уходит от ответа:
– Что скажет профессионал?
Режиссер закурил, сделал пару глубоких затяжек, положил сигарету в ложбинку хрустальной пепельницы. Гад, не томи!
– Ты гений.
Откидываюсь на спинку стула. Все встало на свои места.
Много ли человеку надо? Словно навьюченный ослик он идет за морковкой, сносит понукания и побои, терпит тяготы в пути – приобретает жизненный опыт. Жизненный опыт подсказывает: лучше бездумно ступать, чем тупо считать шаги, на какой-нибудь цифре с тремя, четырьмя, пятью нулями ослик запросто может сойти с ума. Сколько раздирающих душу и-а! доносится с разных сторон? И-а! – пугает жизненный опыт, кричит прямо в ухо: И-а!
Но если отслеживать шаг – не повторять его, не считать, не добывать в поте лица своего – вслушиваться… слышишь шаги волхвов, дары несущих? – принимать каждый шаг как дар, все пропускать через себя, ни от чего не отказываться, ни к чему не привязываться, идти, покуда мир не наполнится светом… дальше идти. Тогда и морковки не надо. Быть может, ослик начнет светиться.
А не будь морковки на горизонте, кто бы согласился терпеть?
Похрустев морковкой, быстро пресытившись, я увидел себя со стороны. Точнее, передо мной промелькнула история двух персонажей, сочиняющих историю. Она была показана в стилистике «Эринний» или «Влюбленных велогонщиков», с той лишь разницей, что объединяла эти истории, как спицы в колесе. В ней не было ничего, заставляющего учащенно биться мое сердце. Не было тайны. Я смотрел на Раевского, он перешел к обсуждению камеры, как действующего персонажа: «Прием не нов, но если камера одна из Эринний, а здесь именно так… – смотрел и думал, неужели в тебе нет тайны? Когда я успел упростить реальность, лишив ее главного? Для чего? чтобы легче было притерпеться к ней? – Здесь нужно развить. Понимаешь о чем я? В этой точке зритель должен испытать катарсис…» – продолжал режиссер.
Мне захотелось оборвать эту историю. Но Матвей говорил и говорил, неудобно было перебивать. Я колебался как пламя свечи, смотрел на пламя, тянул время, пытаясь на что-то решиться. Решиться?.. На что?.. И тут же поправил себя, уточнив, – пытаясь что-то понять. Про двух персонажей на кухне, я и так все понимал. Их история не стоила выеденного яйца. Кстати, неплохое название для автобиографического романа: «История выеденного яйца». В эпоху либеральных ценностей любое имя можно смело поставить рядом с таким заголовком. Кого из художников нельзя подать на завтрак к столу? Ларса Фон Триера? Курта Кобейна? Альфреда Шнитке? Приятного аппетита. Ням-ням, господа!
Серая сигарета покоилась в ложбинке пепельницы, прогорев до фильтра, она не рассыпалась и выглядела как настоящая. Дальтоник точно бы не отличил. Ткнуть в нее пальцем? развеять одну из иллюзий дальтоника, на глазах обратив сигарету в прах?
– Знаешь, о чем я подумал? – Матвей, подавшись вперед, похлопал меня по руке, словно удостоверяясь, что я на месте.
Господи, мне неинтересно, о чем ты думаешь! о чем я думаю! Здесь все понятно. Когда ты, наконец, остановишь мыслительный процесс? Пора закрывать балаган, – мог бы сказать в ответ, но смолчал, наклоняясь к столу, упираясь в столешницу локтями. Может, сказать?
– А знаешь, о чем я подумал?
– Не перебивай, это важно, – отмахнулся Матвей. – Жена была ему верна. Она обязана быть невинна, иначе вместо трагедии мы получим чернуху.
Чтобы размышлять, Раевскому нужен слушатель, и потому он размышляет вслух. Тут ничего не исправить. Гений возможен как понимание чужих слабостей либо должен клеймить их словом и делом.
Похрустев морковкой, ослик безвольно кивнул.
– Он не ее, он себя зарубил! – протрубил Матвей.
Кивнул я, уже кивнул. Ему в ад, ей в рай. Впрочем, это не из древнегреческой трагедии.
– Что у нас остается за кадром, пятьдесят лет их совместной жизни? Сначала любовь, потом привязанность, потом привычка. Как это соотносится с жизнью страны? Нужно ли соотносить? Сначала рассвет Советского Союза, потом застой, потом распад. Я думаю, нужно. Рассвет приходится на студенческие годы, застой совпадает с трудовой деятельностью, – он инженер, она библиотекарь; оба любили свою профессию, их фото висели на доске почета, – пенсию символизирует распад. В исходном событии они испытывают глухое раздражение друг к другу. Как думаешь, у них были дети? – Не успеваю кивнуть. – Были наверняка. Перед нами обычная, ничем не выделяющаяся на общем фоне семья, из тех, что со стороны легко принять за счастливую.
«Каждый из нас мог быть их сыном, – думаю я. – По возрасту совпадаем. Представить страшно, в каком состоянии я бы сейчас находился. Взмах топора – и сирота. Что впереди? Когда в генах сидит убийца, когда жертва заложена в структуре ДНК, что тебя может ждать? Маета… маета… Оглянешь назад – там ясно, там смеется отец, умный, красивый, сильный. Рядом стоит улыбающаяся мать. Вот вырасту – буду таким, как он, – думаешь ты. – Или у кого по-другому? Как по-другому, если мы говорим об обычной, ничем не выделяющейся на общем фоне семье? Муж не пьет, жена себя блюдет. Или у кого без скандалов? Больше всего на свете дети боятся скандалов в доме. Они всегда должны быть вместе, пусть они будут рядом! – смежая веки, просишь незнамо кого перед сном. В Советском Союзе не принято было обращаться к Богу. По воскресеньям, если неделя в школе прошла без двоек, все вместе идете в кино на дневной сеанс, если есть двойки – наказан. Переживаешь, когда наказан. Вот твой отец в детстве… – мать часто ставит тебе в пример отца. – Тьфу, тьфу, тьфу, – мысленно плюю через левое плечо. – Господи, спаси и сохрани».
Исходя из логики сюжета, в момент работы над этим самым сюжетом, должен зазвонить телефон:
– Здравствуйте, мне нужен такой-то такой-то.
– Слушаю вас.
– Такой-то такой-то? Я капитан полиции такой-то такой-то. Такая-то такая-то, проживающая по такому-то адресу, кем вам приходится?
– Что случилось?
– Понятно. Сейчас я передам трубку нашему психологу, вы только не волнуйтесь, она все расскажет и объяснит. Ее зовут…
– Что случилось?! – кричит в трубку такой-то такой-то. – Вы можете толком объяснить, что случилось?!
«Какой-то неискренний крик, – подумалось вдруг, – крикливый. С чего бы? Правильно рассказанная история, все движения естественны, одно вытекает из другого, страшная по своей сути. Но персонаж кричит, а ему нет веры. Фальшь!.. Фон, на котором проходил телефонный разговор, изменился, – понимаю, в чем дело. – Последнюю фразу персонаж кричал в полной тишине».
На кухне стояла тишина, словно вода в забившейся пищевыми отходами раковине. Раевский смотрел на меня с плохо скрываемой досадой. По-видимому, я что-то пропустил.
– Н-да… любопытно. – Нехитрым способом пробую прочистить засор, восстановить журчанье живой человеческой речи. – Очень интересно.
– Я что-то не то говорю?
Чуть не кивнул.
– Скучно тебе? – с видимым участием интересуется Матвей, выказывая сочувствие, заглядывает в глаза.
– Да нет, почему? – пробую возмутиться в ответ; противно, когда заглядывают в глаза.
– По-моему, это твоя идея, она заложена в тексте, – зазвучали стальные нотки. – Поправь, если не так.
Скорее всего, Раевский развивал свою идею, но… и я снова кивнул.
Мой дежурный кивок разозлил напарника:
– Мавр сделал дело, мавр должен отдыхать? У нас на руках почти ничего нет! Так, легкие фантазии. Ты ведь не хуже моего понимаешь…
И тут зазвонил телефон. Я вздрогнул, с ужасом глянув на черную, ставшую вмиг похожей на миниатюрный гроб с окошечком, в виде дисплея, трубку Panasonic'а. Окошко горело мертвым бледно-синим пламенем. Господи, не дай мне дара предвиденья! Не облекай в плоть воображение мое! Позволь мне оставаться обыкновенным человеком, обывателем, мещанином, жлобом!
– Ты чего такой нервный? – Раевский покачал головой, затем потянулся к телефону.
Молю Тебя, Господи!
– Алло?
У меня хороший слух… на том конце провода требовали слесаря, угрожали затопить соседей, если мастер не явится в ближайшие десять минут, грозили небесными карами и ничего не желали слышать в ответ. Оказывается, полчаса назад они нам уже звонили, излили все свои беды и теперь, успокоенные обещаниями, ждали сантехника, поставив тазик под протекающий стояк: а слесаря нет! Вы понимаете?! У нас тут вселенский потоп! Купаться можно!
Такие звонки не редкость, не то чтобы каждый день, но случаются. Дело в том, что у Матвея домашний номер совпадает с диспетчерской ДЕЗа, только последние две цифры 17, а в диспетчерской 71.
– Ошиблись. – Владелец неудачного номера МГТС поморщился и дал отбой, он устал посылать людей на три или на пять букв. – Достали! Всегда звонят в самый неподходящий момент, будто специально.
– Ты тоже их видишь?
– Кого? – не понял Раевский.
– Десятки людей, разбросанных по всей Москве, настроенных на одну волну. Они сидят перед телефонами и ждут.
– Смешно, – буркнул Матвей. – На чем мы остановились?
– На мавре. Ты предлагал его разбудить.
– Ну, да…
Люблю шутить. Смех создал из обезьяны человека, и бог весть, кого еще создаст. Некоторые, испытав просветление, хохочут как ненормальные, словно впервые в жизни столкнулись с собой: Ха-ха-ха-ха… и вот это вот… – Кто знает, что они видят? Если бы обладал чувством юмора, шутил бы не останавливаясь. – На мавре?.. – человек давится от смеха. – Мы остановились… мы стоим на мавре?.. Ха-ха-ха-ха. Конечно, реальность шутит куда веселей: та же история со слесарем, или испытавшие просветление, со своим безумным хохотом, – человека другой человек так не рассмешит.
Сколько раз после неудачных острот ловил на себе осуждающие взгляды? Вот и сейчас.
– Давай вернемся чуть назад. – Матвей задумался, выбирая, в какую точку повествования нам лучше вернуться.
Назад так назад.
– Она была ему верна…
Я расслабился, приготовившись выслушать очередной монолог. Но монолога не последовало. Раевский замер, словно увидел в супружеской верности нечто, что сильно изменит нашу дальнейшую жизнь. Его взгляд уперся в невидимую точку у меня на лбу. Интересно, упади сейчас тарелка на пол, разбейся с грохотом, вздрогнул бы мой напарник или нет?
«Алле! Соавтор?»
«Вызываемый абонент временно недоступен».
Что режиссеру могло привидеться?
Оживившись, почувствовав новый поворот в действии, успеваю прокрутить несколько вариантов развития темы: верна – неверна, ничего интересного не обнаруживаю, пробую еще раз… Нет, полная ерунда, без малейшего внутреннего отклика. Из этого не следует, будто муки ревности мне незнакомы. Примеры? Лет двадцать назад хотел проверить жену на детекторе лжи. Однажды ревновал чужую супругу к ее же собственному мужу. В семнадцать лет…
– Я тут подумал… – Режиссер снова оказался в зоне доступа. Он смотрел на меня как на старую, наконец решившуюся проблему. – В истории с Эринниями чего-то недостает. Не зря ты выглядел безучастным при ее разборе. Авторская интуиция, великая вещь.
– По мне, так все нормально. – Кто-то внутри меня усиленно захрустел морковкой. – Может случиться гениальное кино.
– Что, если мы используем другой архетип?
– Зачем?
– Перед нами Отелло. – По тому, как была произнесена фраза, стало ясно: режиссер все для себя решил. – Не будем копировать жизнь: в финале он ее задушит подушкой.
Топор… это же так красиво!.. Мою морковку облили серной кислотой.
– Представь себе…
Незапный мрак… Я ничего не мог представить: на месте морковки зияла пустота.
– …кого бы? Ну, хоть меня. Представь себе меня, но с черной кожей.
Сделав старика полковником в отставке, поменяв отставнику цвет кожи с белого на черный, наградив его голодным африканским детством, сочинив историю про полтавское высшее военное артиллерийское училище, вспомнив советских девушек, обожавших курсантов, нередко выскакивавших замуж за представителей черного континента, выбрав самую чистую сердцем из этой среды, соединив студентку пединститута и чернокожего красавца, без пяти минут лейтенанта на танцплощадке в Доме офицеров… был белый танец. Курсант говорил о каннибалах – то есть дикарях, друг друга поедающих. О людях, которых плечи выше головы… Дочь секретаря обкома внимала ему, затаив дыхание.
После этого Матвей вкратце обрисовал семейный конфликт в доме высокопоставленного советского чиновника, возмущенного коварным поступком родной дочери, тайно расписавшейся с Отелло Ивановичем, топавшего на мавра ногами, угрожавшего аннулировать регистрацию, позвонив в ЗАГС: «Достаточно одного моего звонка! – Но в конце концов смирившегося с непрошеным зятьком. – Непрошеный зять хуже татарина», – смирившегося не до конца.
Раевский хорошо знал пьесу, Шекспир умел закрутить сюжет, режиссеру было что переосмысливать. Вместо Кипра появился черный континент, вместо рассеянного бурей турецкого флота – боевые действия в Анголе, русский мат, орден Красной Звезды, палящее африканское солнце, взрывы на весь экран.
После взрывов Матвея повело куда-то в сторону: решил нарушить законы жанра. О, человеческая слабость! Желание изменить мир.
Возник военный городок под Новосибирском, размеренная семейная жизнь. Мавр затосковал в российских снегах, почувствовал, что не вписывается в окружающую среду, где даже поля для стрельбищ большую часть года белее кожи жены. Не сказать, что бы сильно запил, но стал подозревать свою вторую половину в неверности, а через полгода уже ревновал ее к любому столбу. Еще через месяц – ударил.
Ударил?.. – я прочел удивление в глазах Раевского, словно кто-то другой, не он произнес: «Еще через месяц – ударил». – «То есть как? Зачем ударил?» – читалось в глазах. Удивление тут же сменилось негодованием, Матвей возмутился низким поступком мавра, бросавшим тень и на него самого.
– Человек не всегда поступает так, как желает Создатель. Кто сказал, что персонаж не имеет права на собственное волеизъявление? – попробовал откреститься от автобиографической составляющей режиссер.
Но если без метафизики для подростков, чуть четче: кто кого породил? Откуда возникла сама мысль ударить жену? Всему виной личный жизненный опыт. Мы оба помним, из-за чего четыре года назад Раевские развелись. Да, да, я не оговорился, двадцать лет просуществовали бок о бок, а потом развелись. Теперь вы знаете о Матвее в два раза больше: он дважды женат. Правда, оба раза на одной и той же женщине. Со штампом о разводе, они не прожили и года. Расписывала их та же сотрудница ЗАГСа, что и разводила. «Аферисты», – сказала она непонятно кому.
Возмущение Раевского сменилось обидой на жизнь, на какую-то вечную ее несправедливость. Отодвинувшись от стола, он принялся раскачиваться вместе со стулом, несильно, вперед-назад. На него было больно смотреть, – сообщили бы в дамском романе, и отзывчивый читатель, незаметно для себя в этом месте обязательно тихо вздохнул: «Бедный ты бедный», – так бы вздохнул читатель; отнял от книги глаза, задумчиво посмотрел в окно. Есть тихая радость читать про несчастья других, неяркий печальный свет.
На самом деле вздыхать не хотелось.
Сомневаюсь, чтобы полученная рана была глубока, что-то значила. «Но даже самая пустячная обида капризна, как дитя малое, любит, когда с ней носятся, прижимают к сердцу, кормят собственной грудью – что-то сосет под сердцем! – убаюкивают, – возмутится отзывчивый читатель, наделенный большим воображением. – Как здесь не сопереживать?» – «Да, капризна, да, убаюкивают, и что с того? Мы же понимаем, что режиссер дулся на самого себя», – отвечу читателю. По неписаному закону в подобной ситуации мне нужно подменить напарника, проявить инициативу, взять соавтора за руку и потащить вперед за собой: творческий процесс прежде всего.
Но я не договорил. Мавр не робот, работающий по заложенной в него программе, повторяющий чужие ошибки, быть может, когда-то – четыре года назад – совершенные самим программистом; точнее, он робот – пока повторяет чужие ошибки. Чтобы робот ожил, автор должен помочь ему сделать свои. Тогда мавр найдет отклик в любом сердце: «Смотрите, какой он чумазенький, несчастненький весь! – стать достойным сопереживания. – Как лоха развели! – будить презрение, жалость, обожание. – Красавец! Что творит, что вытворяет? А?! Я б так не смог».
Матвей затих, перестал раскачивать стул, он не из тех, кто взращивает обиды до совершеннолетия – кормит молоком сердца своего, – а потом, возмужавшие, выпускает в свет; погоревал минутку и перестал. Да и горевал не из-за того, что наградил персонаж своими ошибками – сложно избавить сознание от собственного присутствия, – горечь возникла от бессилия, от назойливого навязывания своих услуг. Отелло сам должен наломать дров, без посторонней помощи. Вот если б вспыхнула искра божья! Если б каждое движение мавра вызывало у его создателей оторопь, хотя бы легкое недоумение!
Но нет.
На кухне сидели два африканца – ни больше, ни меньше, – ровно два. Один плотного телосложения, с круглым лицом, густыми жесткими волосами, с левой стороны разделенными идеальным пробором, второй худощавый, лицо имел продолговатое, мягкие, жиденькие волосики, говорящие о покладистом характере, ухитрялись торчать во все стороны. Первому недавно исполнилось сорок девять, худощавому полгода назад стукнуло пятьдесят. Оба мавра напряженно молчали, как будто пытались осознать себя, понять смысл своего пребывания в этом мире. Другими словами, мы с Матвеем, каждый по-своему, вживались в образ восьмидесятидвухлетнего чернокожего полковника в отставке. У меня получалось совсем плохо.
С одной стороны, я видел пройденный путь, точнее, чем этот путь закончится, с другой – его надо было пройти, споткнуться о каждый камушек на дороге, набить шишки, что-то понять про себя, обмануться, снова что-то понять, проклясть или благословить мир, уйти раздосадованным или восхищенным. Знание финала играло здесь злую шутку, заставляло подстраиваться под финал. Это же целое искусство, доступное немногим – уметь подстроиться; сколько раз пробовал, так и не смог овладеть! Ослиное упрямство не помогало. Вот и теперь, как ни старался, ничего не мог сделать, заносил ногу и не понимал, куда ее ставить, – на месте морковки зияла пустота.
В какой-то момент захотелось отгородиться от пустоты черным юмором. В тот день у Отелло текло из носа. Когда Яго протянул ему платок, расшитый цветами земляники, мавр с удовольствием зычно высморкался в него – громче – несколько раз. Затем, приблизив сморкальник к глазам, внимательно рассмотрел оставшиеся на нем выделения. После чего вернул услужливому товарищу всю перемазанную соплями главную улику: «Отдай жене, пусть Эмилия простирнет».
Представил Эмилию, как она загружает огромную бочку грязным бельем – мелькает сопливый платок Дездемоны – заливает бочку мочой, залезает внутрь и топчет белье ногами, потом заливает чистой водой, кидает туда раскаленные камни, доводит воду до кипения, а после полощет возле фонтана (все в соответствии с европейскими технологиями XVI века); представил, как она развешивает белье на веревке, увидел носовой платок.
Что, если сделать Отелло спортсменом, велогонщиком, победителем «Тур де Франс», одного из этапов? – Созерцание свежестиранного платка наводит на счастливую мысль. – Мы видим финишную прямую, с десяток велосипедистов, несущихся к заветной черте, темнокожего спортсмена, на последних метрах вырывающего победу. (Когда я на верном пути – ветер в лицо – несусь в пустоту – вырываю победу – сам режиссер мне не брат.) Дальше ритуал награждения. Мавр на подиуме, по краям две блондинки в мини-юбках, по протоколу они должны целовать чемпиона. Одна из блондинок – Дездемона. (Вот я! Вот я! Пританцовываю на красной ковровой дорожке, с золотой пальмовой ветвью в руке. Прекрасное решение: одна из блондинок – Дездемона! Волшебное начало: ничего не значащий первый поцелуй.) Работают телекамеры, блондинки искусственно улыбаются в объективы, по всем новостным каналам транслируется дежурный поцелуй. Но Отелло, словно почувствовав прикоснувшееся к щеке будущее, вздрагивает.
И тут же испытывает необъяснимый прилив сил. А рядом – Яго – поверженный соперник, пришедший к финишу вторым. После торжественной церемонии Отелло отыскивает Дездемону, и они вдвоем проводят незабываемый вечер. Он говорит о каннибалах, то есть дикарях, друг друга поедающих, о людях, которых плечи выше головы… Девушка в мини-юбке внимает ему, затаив дыхание. (Когда я на верном пути, то успеваю все – к месту цитирую соавтора, не делая паузы в рассказе, отмечаю, что все к месту, я к месту – когда на верном пути.) С группой сопровождения Дездемона решает следовать за велогонщиком дальше. Ее осмысленное желание в корне изменить жизнь внешне выглядит как сиюминутный порыв. Африканец дарит Дездемоне расшитый цветами земляники платок. После очередного этапа, блестяще выигранного мавром, они венчаются. Но это последняя победа спортсмена, дальше Отелло не удается войти даже в десятку лидеров, как будто надежду Франции сглазили завистливые представители команды «Астана» из Казахстана. Вся история разворачивается на фоне крайнего физического переутомления. Как лейтмотив проходит движущийся по трассе велосипедный пелатон: кто-то отстает от группы, кто-то пробует оторваться. Из-за жары, физических и нервных перегрузок мавра начинают посещать видения – в них безобидный глуповатый Яго превращается в коварного злодея, Кассио летит по трассе в желтой майке лидера, утирая, на камеру, пот эксклюзивным платком, а неизвестно откуда возникшая фраза: «Та, что тебя целует в губы, меня вылизывала языком» – лишает мавра сна. Когда перед последним этапом Отелло душит Дездемону подушкой, его поступок можно принять за нервный срыв.









































