Читать книгу "Первый, второй"
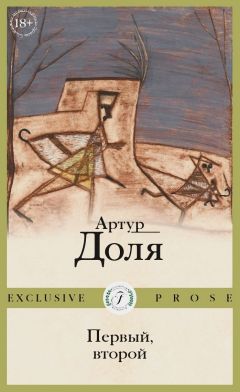
Автор книги: Артур Доля
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Режиссер задумался. Здесь есть о чем подумать, – соглашаюсь с ним.
– Может, скрестить Отелло с Гамлетом, заставить африканца рефлексировать в белых снегах?
Баньер-де-Бигор в белых снегах? в июле месяце? Видимо, история с Дездемоной, получившей в глаз, произвела на соавтора неизгладимое впечатление, после случившегося несложно увидеть что угодно: как она глушит водку стаканами где-нибудь на кухне под Новосибирском, пьет мелкими глотками и не морщится, а потом в одежде заваливается спать. Отелло вглядывается в лицо Дездемоны: душить или не душить? Вот в чем вопрос. Представив Дездемону, как она храпит на кровати, неожиданно понимаю, что «Тур де Франс» не обсуждается. Режиссер размышляет о военном городке под Новосибирском, о полковнике, тупо уставившемся на спящую жену… Я посмотрел на Матвея с вызывающей нежностью:
– До скольких будем рефлексировать? До восьмидесяти двух?
– Не цепляйся к возрасту. В этом что-то есть! – огрызнулся Раевский. – Где-то рядом зарыто зерно.
Ничего в этом нет! Есть вопрос, встающий перед человеком в ранней юности, когда мы все, хотя бы на пять минут, художники. Какую жизнь ты хочешь прожить – короткую, но яркую или бесцветную, но длинную? – с гибельным восторгом спрашивает себя в такие минуты юный творец. Те, кто дожили до восьмидесяти двух, отдали предпочтение длинной. Некоторые из стариков уверены, что выбирали яркую, просто так получилось. Плешивые и седые, лысые или с залысинами, оглядываясь назад, пенсионеры видят то, что хотят видеть, – в собственных мелодрамах наблюдают трагедии, – сами себе лгут.
– Определенно, в этом что-то есть… – размышляет Матвей.
Какие-то они были бледнолицые, наши мавры.
– Ты только представь… – И режиссер снова уставился в невидимую точку у меня на лбу.
Я обладаю неплохим воображением, при желании могу представить что угодно…
Мое воображение не могло справиться с семидесятидевятилетней Дездемоной. Галерея из всевозможных старушек, от королевы Англии Елизаветы II, до состарившейся проститутки, исполняющей роль бабушки Красной Шапочки в жестком немецком порно, выстроилась перед глазами, и ни одна из них не имела шансов быть задушенной в порыве ревности. Не получался даже радостный Голливуд – подростковый, плюющий на правду жизни – даже он не мог себе такого позволить. На лице Раевского, светлом мгновение назад, отобразилось уныние. Как понимаю, его интересовал тот же вопрос: почему Отелло должно быть восемьдесят два? Что значит преклонный возраст убийцы? В чем здесь трагедия?
Кто-то скажет: все эти так называемые мучения художников происходят от желания удивить зрителя неожиданной трактовкой, – и будет не прав. До подобных пустяков мы с Матвеем, как правило, не опускаемся. Человек и так удивительное зрелище.
Кто-то, пусть будет жена, обреченно поинтересуется: «Ты считаешь себя удивительным зрелищем? – внимательно посмотрит в лицо, заглянет в глаза, тихо вздохнет не к месту. – Ты считаешь меня удивительным зрелищем?» – «Ну какое я удивительное зрелище?» – здесь главное – ничего не перепутать и вовремя согласиться.
Действительно, ну какое?
И все же, если посмотреть холодным взглядом со стороны… что-то совсем непонятное, что-то удивительное клубится в стороне от Матвея, буквально в полушаге от него… или струится, формы обманчивы. Что-то совсем непонятное, что-то удивительное клубится в стороне от меня, буквально на расстоянии вытянутой руки.
Не найдя ответа в концептуальных построениях, режиссер предпринял попытку зайти с другой стороны:
– Думаю, мы все про них поймем, если в деталях пропишем одну из сцен. Сюжет должен обрасти мясом.
– Нужно создать атмосферу. Конструктор всегда успеем собрать, – поддакиваю с умным видом; мыслей никаких, весь упор на умный вид. – Допустим, он ее ударил…
– Каким был удар? с замахом? без? упала она после удара? нет? Ругались они за минуту до этого или жена просто что-то не то сказала? безо всякого видимого повода? – Матвей потирает руки в предвкушении творческого процесса, для него хорошо поработать и со вкусом поесть – одно и то же. – Супруга… – подсказывает режиссер.
– Супруга… – пытаюсь представить Дездемону в халате, с синяком под глазом. – Супруга с синяком под глазом идет на кухню. – Пытаюсь представить, зачем она туда идет: поплакать в одиночестве? разбить тарелку? перемыть посуду? съесть котлету, чтобы расслабиться? чаю попить? Куда вместо кухни можно еще пойти? – Кипятит чайник, наливает в чашку крутого кипятку.
– Здесь главное не что, а как. – Закипела работа над созданием атмосферы. – Мы видим, как она достает спички – детальным планом спичечный коробок – вынимает одну. Уверенные четкие движения, женщина сосредоточена на чем-то важном, глаза сухи е, никакой дрожи в руках. Чиркает спичка, вспыхивает пламя, огненные блики скользят по лицу, зажигается газовая конфорка. Звучит музыкальная композиция из Земфиры или «Наутилуса», как в фильме Балабанова «Брат». Я хочу быть с тобой, – тут же поет Матвей, подражая Бутусову; у него ни слуха ни голоса. Впрочем, вокальные данные значения не имеют, здесь главное – не как, а что. – И я буду с то-обо-о-ой. Потом, – на одном дыхании продолжает Раевский, – женщина открывает водопроводный кран, наливает четверть чайника, ставит чайник на газ. Должно создаваться впечатление, будто она делает как минимум бомбу. Бурлит вода.
– Налив в чашку кипятку, добавив немного заварки, застывает на мгновение, мыслями не здесь; можно подумать, наблюдает клубящийся пар. По дороге в комнату, где мавр, развалившись в кресле, смотрит телевизор, левой рукой – правая занята чашкой – приоткрывает входную дверь.
На кой ей эта дверь? – опять из ниоткуда возникает моя благоверная, – она что, собирается мириться? предложить ему чаю? зачем наводить тень на плетень?
Мало ли зачем? – появление второй половины давно не смущает, все равно что общаюсь с самим собой (я и сам до конца не понимаю, зачем эта дверь), – ждет соседей, поэтому и открыла.
В такой ситуации не до соседей. Должны быть разум ные объяснения, – сообщает второе я.
Хочет, чтобы их обворовали! Так разумней? Пока она будет в большой комнате унижаться, предлагая психопату чай, лебезить, делая вид, что простила, у них из прихожей сопрут пальто и сапоги. Зная супруга как облупленного, Дездемона решает наказать Отелло материально, нанести удар в самое больное место, по семейному бюджету; здесь неважно, чьи сапоги украдены: чем больше украдут, тем лучше.
Жена не собирается унижаться, тем более, как ты говоришь, лебезить. Но она и вправду готова раскалить ситуацию до предела, чтобы стало совсем невмоготу, хоть в петлю лезь, – подхватывает заведомую глупость моя жена. – Ударил? Так пусть все катится прахом, пусть еще и обворуют, пусть все унесут!
Таким экстравагантным способом Дездемона проветривает квартиру, – довожу диалог до полного абсурда, чтобы на этом прервать.
Необычайная сговорчивость супруги, та решительность, с которой она согласилась подвести их к последней черте, словно только и ждала удобного повода, меня, как сторонника семейных ценностей, слегка уязвляет.
Скажи, ты бы смог поднять на меня руку? – не может успокоиться жена, будто и вправду сидит с нами за одним столом, запутала меня вконец.
Как тебе такое могло прийти в голову?
Смог или нет? – Близкий человек настаивает.
Что тут ответить?
Не знаю.
Как думаешь, что бы я сделала в ответ?
Пока я думаю, что бы она сделала, Раевский, проявляя терпение, ни во что не вмешивается, будто и в самом деле является ненужным свидетелем чужой семейной сцены; боится нарушить творческий процесс. Смотрю на Раевского.
– Затем проходит в большую комнату, – выдавливаю слова, словно зубную пасту из пустого тюбика.
– Шаги решительные, – уверенно добавляет Матвей, личным примером показывая, как надо действовать: без ложной рефлексии. – Выплескивает на мужа кипяток и бегом на лестничную клетку. Хлопает входная дверь.
Нет ничего надежней простых решений – не столько восхищаюсь решительностью Матвея, сколько злорадствую в адрес вездесущей жены, способной из пустяков создавать проблемы. Проблема, это когда за тобой гонится разъяренный супруг, а ты возишься с замком! Пробую представить, как бы действовала моя благоверная, обдав своего благоверного кипятком. Сразу рванулась к двери или помедлила? Молча бежала по коридору или с криком? Выскочив в одних тапочках и халате на лестничную клетку, хлопнула входной дверью или бросила нараспашку? Ринулась по лестнице вверх или вниз? Убедившись, что я не гонюсь следом, как себя повела?
– Два часа, сжимая в руках пустую чашку, Дездемона просидела на бетонных ступеньках между третьим и четвертым этажами. – Представил свою жену на лестничной клетке: скорее всего, она поступила бы именно так: сжимала чашку в ладонях, слегка наклонившись над нею, словно озябшие руки грела.
– Дальше попытка примирения, – командует Раевский.
– Два часа два существа по разные стороны двери просчитывали дальнейшие варианты, живописали будущее. Сначала с яростью, вплоть до убийства: она представляла, как бьет его обухом топора по голове, Отелло в этот момент душил жену подушкой.
– Пусть так.
– Но краски с каждой минутой блекли, вплоть до развода.
– С разводом тоже можно не спешить.
– Потом дверь квартиры открылась, и голова мавра, показавшись в проеме, сказала: «Заходи, ничего не сделаю».
– Больше он ее не бил, – решает за них режиссер.
Вот так бы за нас кто решал: бить – не бить, писать – не писать, быть – не быть. Впрочем, многие так и считают, что за них все решают. Я сам колеблюсь: считать – не считать. Представьте: Главный Режиссер, самый Главный, с большой буквы «Г» командует: Не писать! – являет знаменье. Ты видишь знаменье – здесь всегда вместо «я» – «ты», – ты видишь знаменье и… все равно как дурак пишешь.
– Время от времени возникала идея развода… – запнувшись, смотрю на Матвея. – Про развод я только что говорил?
– Ничего страшного, – утвердительно кивает Раевский. – Напряжение постоянно висело в воздухе.
Повторяюсь. Ну что ты будешь делать? ведь сказано было: Не писать! – что тут добавишь? Выбирая длинную жизнь будь готов к повторениям, неоправданным паузам, ворчливому брюзжанию.
Не ворчи! – добавляешь ты. – В чем еще старикам проявлять свою невоздержанность? Только брюзжать. Не пиши и не ворчи!
– Напряжение постоянно висело в воздухе… – напоминает режиссер, словно подталкивает вперед, мол, остановка смерти подобна, заставляет двигаться.
– Оставалось ждать прихода старости, когда сил поубавится и проклятия пенсионеров станут смешными, воцарится относительное спокойствие. – Двигаюсь, как могу, оставляю за кадром тридцать лет семейной жизни, не знаю, чем их, кроме повторов, заполнить, тороплю финал. – Пришла старость.
– Спокойствие не наступило.
– А тут еще сосед по лестничной клетке…
Вроде бы все сошлось, все как в газете: «Приревновав к соседу по лестничной клетке…» – история завершена, осталось поставить жирную точку: кого-нибудь задушить или тюкнуть обухом топора по голове. Можно самодовольно потирать руки. Но куда там…
– Кассио. – Раевский обреченно кивнул.
Добравшись до соседа, претендовавшего на чужую собственность, движение остановилось. Мы уперлись в преграду, перед которой все время и находились. Матвей называет ее Великой Стеной Стереотипов. Обычно он первый кривит лицо при легком намеке на высокопарность, а тут каждое слово с заглавной буквы.
– Стена защищает сознание от бездны, – режиссер разработал целую теорию на этот счет, – но площадка, которую она оставляет для жизнедеятельности человека, напоминает загон для скотины. Бунтующие умы, разрушая, укрепляют ее, именами павших героев названы самые красивые камни в Стене. Ищущие умы пытаются отыскать и находят трещины в кладке, вставляют туда телескопы, микроскопы, калейдоскопы, – что-то наблюдают. Лучшие умы бьются над обоснованием существования Великой Стены, пишут трактаты: «О субстанции и качестве», «Об умопостигаемой красоте», – формулируют тезисы. Остальные девяносто девять процентов не обращают на нее внимания; бывает, конечно, что-то давит им на мозги (как мне сегодня утром), но при чем здесь стена? Ее невозможно разрушить, через нее нельзя перепрыгнуть, сквозь нее не пролезть. Но ее можно отменить, пройти сквозь стереотипы, как нож сквозь масло, оказаться на краю беззвездной бездны, увидеть, чем мы на самом деле окружены, решиться на следующий шаг – шаг в бездну. А как иначе? Иначе ты стереотип. От совокупляющихся стереотипов кто может появиться на свет? Очередной стереотип. – В этом месте режиссер не то что бы сокрушается… нет, все-таки сокрушается. – На краю бездны не повторяются. – А в этом месте я с удовольствием киваю ему. – Кто из нас готов заглянуть в себя как в бездну? Если не в силах, значит, нет в тебе этой бездны, – говорил он мне. – В лучшем случае бездна понимания, в худшем – бездна мнений или вещей. Впрочем, любая вещь – мнение. – В стилистике «лучших умов» закончил монолог Раевский.
Было это пару лет назад.
«Что, если и наши истории сочиняются подобным образом? Что, если и там совокупление стереотипов? – улыбаюсь собственной трусости. – Там бездна. Конечно нет!»
Добравшись до соседа, претендовавшего на жилплощадь Отелло (что еще мог внушить Яго ответственному квартиросъемщику, чтобы пробудить ревность?), движение остановилось. Мы с Раевским смотрели друг на друга, просчитывая дальнейшие варианты, и ничего у меня не получалось в их будущем.
Не было ни желания, ни сил биться головой о стену. Где-то высоко над нами, на самой вершине Стены, почти в синем небе красовалась строка из стихотворения Маяковского: «Да будь я хоть негром преклонных годов…». Сам ли поэт сумел забраться так высоко, чтобы заявить о себе, или за него это сделали другие? Не знаю, а спросить не у кого. Я представлял Маяковского старым негром, большегубым, с красноватыми белками, с глубокими черными морщинами под глазами, грубым и ранимым одновременно, с молоткастым, серпастым советским паспортом в кармане штанин. Я представлял Маяковского, я распекал себя, на чем свет стоит: зачем мы довели мавра до преклонных годов? состарились вместе с ним? получили пенсию с военными надбавками? почувствовали бессилие? Тридцать семь – больше Отелло не должен здесь быть, дольше – ошибка. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» – вопрос должен прозвучать где-нибудь под Луандой, на пике эмоций, в рассвете сил.
– Давай поймем, кто перед нами: бытовой алкоголик, с опытом ведения боевых действий, или думающее существо, из-за отсутствия боевых действий попавшее в тупиковую ситуацию? – Руководитель проекта не имеет права поддаваться паническим настроениям. Он должен генерировать идеи, любые, самые завиральные; ставить тонкие – простые – неожиданные – предсказуемые – спорные – фундаментальные и не выдерживающие никакой критики вопросы. Я готов помогать ему в этом. Вот, например, Маяковский, с непростой строкой о себе, он кто: думающее существо, попавшее в тупиковую ситуацию, либо бытовой алкоголик, с опытом ведения боевых действий? Под ведением боевых действий мной подразумевалось позднее творчество поэта. До двадцати четырех Владимир Владимирович легко проходил сквозь Стену, «не мужчина, а облако в штанах». Замерев на краю бездны, с ужасом всматривался в нее, заносил ногу, взвесив все «за» и «против» заносил ногу, но не шагнул. И вновь оказался перед Стеной; сделал выбор. А потом, сколько ни пробовал продраться сквозь стереотипы (разбивая лоб, раздирая в кровь колени и локти, стиснув зубы), сколько ни старался вернуться в края, где был счастлив, сколько ни пытался исправить ошибку…
– Перед нами тонкое существо, ведущее себя как бытовой алкоголик, – отвечаю на вопрос. – Муж ударил жену, пошел в большую комнату, не снимая шлепанцев, бухнулся перед телевизором на диван, (в первом варианте было кресло?.. диван лучше, дольше вставать. Пока он будет вставать, Дездемона успеет выбежать на лестничную клетку) уставился в экран. Злость улеглась. Осталось легкое чувство досады, словно любимый футбольный клуб проиграл кубковый матч. Впрочем, с этим чувством полковник давно сжился, который год его не оставляло ощущение проигранной жизни. По «Матч ТВ» показывали футбол: «ЦСКА» уступал «Зениту» 0:1. Мавр даже не пытался кому-либо сопереживать. После стольких лет совместной жизни Дездемона стала его второй половиной. «Получается, я ударил сам себя?» – думал полковник, глядя в экран. На самом деле, все обстояло гораздо хуже, офицер просто не знал, с чем сравнивать. Как будто меня прилюдно унизили, оскорбили перед строем, а я не могу ответить ударом на удар, – наконец, сравнил. Тем временем у ворот «ЦСКА» назначили штрафной. И прилепится муж к жене, – глядя, как устанавливают мяч, африканцу пришла на ум строка из Библии. Вот и прилепился… – подумал он и, чтобы не было так горько, тут же превратил все в шутку, – как банный лист к жопе. На мгновение стало легче (армейский юмор незаменимая вещь), но через секунду возникла новая мысль: теперь так будет всегда. Мысль вытекала из наблюдений за другими, сомневаться в ее правильности не имело смысла: кто хоть раз ударил свою вторую половину, на этом не остановится, – говорил жизненный опыт; различие по гендерному признаку значения не имело. Слабый пол, если берет ситуацию в руки, проявляет не меньшую деспотию к ближнему. Зам. начальника штаба, подполковника Федулова, боевого офицера, прошедшего Афганистан, постоянно дубасит благоверная, стоит тому заявиться домой пьяным; бьет каждый день. «Что же ты делаешь?.. Блядь!.. Не позорь меня… – пробует отбиваться словами, взывает к разуму, превращается в пацифиста воин. – Мы обсуждали стратегию!.. – икает в местах многоточий, таращит глаза. – Ты поступаешь как форменная пиз…» – получив удар под дых, не успевает закончить фразу. Конечно, Отелло, на фоне остального офицерского корпуса, выглядит белой вороной, в Российской армии других таких нет. Но внешность обманчива, – с умным видом озвучиваю очередной стереотип, спотыкаюсь на фразе, увидев себя со стороны, недовольно поджимаю губы. Во мне сейчас – если кто не понял – спаривались стереотипы.
– Прекрасно. А теперь вернемся немного назад, – на смену соавтору заступает другой соавтор. – Одно время Отелло занимался актерским искусством.
– В военном училище? – интересуюсь, не скрывая ехидства. – Или будем отматывать пленку еще дальше, в темноту африканских племен?
– В военных училищах, – в голосе Раевского зазвучали интонации взрослого человека, что-то терпеливо объясняющего шкодливому неразумному дитяти, – весь упор делается на физподготовку, кроме спортивных секций, ничего нет, в лучшем случае кружок художественной самодеятельности. Но в Полтаве начальник решил проявить инициативу и, пригласив из областного театра драмы режиссера, седовласого, в синем берете, помнишь, я много рассказывал про него, предложил тому поставить спектакль.
– Хороший дядька, – соглашаюсь с Матвеем; теперь, с годами, заметно приблизившись к «дядьке» по возрасту, я воспринимаю мэтра именно так, но в юности он виделся мне библейским старцем.
– Не просто хороший дядька: человек трагической судьбы, любимый ученик Леся Курбаса, надежный хранитель его идей, за долгие годы служения Мельпомене обросший собственными учениками, в кругу учеников не раз заявлявший, что без раздумий согласился бы отдать свою жизнь за жизнь учителя, быть расстрелянным в тридцать седьмом вместо него.
Надежный хранитель идей был несмелым интерпретатором этих идей; во всяком случае, живя в Полтаве, так утверждал Раевский, по молодости лет относившийся к старшему поколению без всякого пиетета. Каковы же были идеи у самого Леся Курбаса, я не знал и не стремился узнать, поскольку не любил театр.
– Ты нас знакомил, – напоминаю ему.
– Так вот, пригласив из областного театра драмы режиссера, выдал тому карт-бланш: Бери сколько угодно курсантов и поставь мне к двадцать третьему февраля спектакль, что-нибудь из классики. Не подведи! Будет проверяющий из округа.
Увидев темнокожего студента с пылающими глазами, режиссер спросил:
– Шекспир устроит?
– Действуй! – Начальник будущих артиллеристов отдал приказ.
Поскольку курсанты в училище имелись только мужского пола, женские роли пришлось распределять между безусыми юношами; все как во времена Шекспира. Двадцать третьего февраля состоялась премьера. Курсанты вместе с офицерским преподавательским составом забили актовый зал. Отелло не был лишен актерских способностей и на сцене душил своего сокурсника вполне убедительно. Несмотря на военную дисциплину, в зале стоял хохот. Но высокому руководству из округа подобная самодеятельность дико не понравилась:
– Что это у тебя тут негры белых ребят, переодетых в женщин, душат? – строго спросил проверяющий.
Начальник училища что-то робко пробормотал в ответ.
– Какой, твою мать, интернационализм?! – взвившись соколом, закричал на него старший по званию. – Ты как воспитываешь будущих офицеров? – Раевский с восторгом посмотрел на меня.
– Неплохо, – в меру сил разделяю чужой восторг.
– Прикоснувшись к Шекспиру, Отелло внутренне изменился.
Улыбнувшись такому повороту мысли – Отелло разбирает текст Шекспира – персонаж анализирует замысел автора – человек, прикоснувшись к Богу, становится иным, – желая отблагодарить Раевского за неожиданный поворот, но, не имея достойного продолжения, пользуюсь тем, что есть, – развиваю тему Новосибирска:
– Когда Дездемона выплеснула на него кипяток, мавр даже не понял, в чем дело. Вскочил, зарычал от боли, кинулся вслед, но женский ум все просчитал, перед самым носом преследователя захлопнув входную дверь. «Дура, – рычал Отелло, диким зверем метаясь по квартире, – кипятком обварила! И все ей мало! Теперь зрителей подавай, чтобы весь дом над нами потешался. Актриса недоделанная!»
Благодаря футболке и спортивным штанам ожог получился не очень сильным. Никакой спасительной мази в доме не имелось. Скинув одежду, Отелло решил измазать себя соплями, но пораженный участок кожи оказался довольно обширным. Пришлось заживлять рану собственной мочой. В годы перестройки африканец, как и многие его сослуживцы, принял обряд крещения и теперь, смазывая вонючей желтой влагой живот, размышлял: как же непросто грешнику на раскаленной сковородке… ой-ёй-ёй! Через пару часов боль притупилась. Открыв входную дверь, мавр позвал жену: «Заходи, ничего не сделаю».
– Больше он ее не бил, – перебивает Матвей, тут же возвращаясь к полтавской премьере. – Дездемона впервые увидела Отелло на сцене. Весь спектакль студентка филфака просидела, затаив дыхание, ловя каждое слово, не обращая внимания на сальные шутки курсантов, комментировавших происходящее, на шум и смех, царившие в зале. «Я полюбила мавра, чтоб везде / Быть вместе с ним. Стремительностью шага / Я это протрубила на весь мир. / Я отдаю себя его призванью…» – Ей показалось, что она влюбилась в Шекспира.
Легкая тень скользнула по моему лицу.
– Что-то не так?
– Каким образом Дездемона проникла в военное училище?
– Ну, это же не засекреченный военный объект? – Раевский снисходительно улыбнулся. – Помимо военных, на премьере присутствовали несколько почетных гостей из гражданских, в том числе секретарь обкома с дочерью. После спектакля все руководство направилось в офицерскую столовую, где по случаю праздника накрыли банкетные столы. Курсантов стройными рядами отправили в Дом офицеров, там в большом беломраморном зале для них организовали танцплощадку, играл духовой оркестр. Чтобы лишний раз не напиваться на глазах у дочери, обкомовский работник предложил ей сходить на танцы: «Быть может, приглянется какой-нибудь будущий генерал?» – то ли выразил надежду, то ли пошутил отец. В Доме офицеров соискательниц на звание будущих генеральш оказалось немало, наверное, поэтому каждый второй танец объявлялся «белым». Отыскав глазами Отелло, Дездемона сразу же пригласила его на вальс.
Что-то меня смущало в Полтаве, Анголе, Новосибирске, Доме офицеров, чашке с кипятком, а главное – в восьмидесятидвухлетнем Отелло, Отелло Ивановиче, – я чувствовал в происходящем какую-то неправду, но, несмотря на это, история начинала понемногу нравиться.
– Что мы с этого имеем? – тем временем размышлял Раевский. – Во-первых, Дездемону, на миг заглянувшую в будущее, примерившую на себя роль жертвы, на подсознательном уровне согласившуюся ее исполнять. Во-вторых, мавра, получившего несвойственный советскому офицеру опыт. Он мог прожить жизнь, так ничего и не поняв про себя. На репетициях, разбирая с режиссером образ главного героя, у Отелло порой начинала кружиться голова, курсанту казалось, будто они раскладывают по полочкам его самого: читают мысли, внимательно рассматривают страсти, кипящие в потемках африканской души.
– Режиссер отмечал повышенную восприимчивость мавра, хвалил его за редкий дар перевоплощения, ставил в пример другим актерам-любителям, – подхватываю идею, где чернокожий курсант артиллерист и режис сер в синем берете, драматург Шекспир и родовитый мавр на венецианской службе являются участниками единого действа, еще до конца непонятно какого… как отцы и дети… как солдаты на театре военных действий, от рядового до генерала… как инфузории-туфельки под микроскопом… или совсем по-другому. Стоит истории обрести дыхание, так сразу Великая Стена Стереотипов из каменного монстра превращается в живое существо, способное поведать что-то необычайно важное, касающееся лично тебя.
– Не отвлекайся на детали, – отмахивается Раевский.
– В угловатом чернокожем пареньке проснулся трагический герой.
– Здесь о другом, – раздражается Матвей. – Режиссер перепрограммировал Отелло – показав африканцу новые горизонты, обесценил имевшиеся – на фоне звездного неба поблекли звездочки на погонах. Увидев на сцене мавра в роли Отелло, Дездемона оказалась в той же ситуации, что и курсант, – она утратила свободу воли, в ней активировалась резервная программа, заложенная даже не в подсознании, а где-то на уровне клеток ДНК. Или ты думаешь, у кого-то из нас нет резервной программы? Детерминист несчастный. Быть может, по ней ты Моцарт! – За мыслью Раевского становилось сложно следить. – До двадцать третьего февраля их жизни могли сложиться как угодно, как у всех. После премьеры Дездемона обречена, у нее появилась судьба; дальнейшее – дело времени.
В отличие от Матвея, я не так хорошо помнил пьесу, чтобы рассуждать о детерминизме. Знал, что там существуют Яго и Кассио, что Яго, доблестно воевавший под началом Отелло в языческих и христианских странах, рассчитывал на повышение по службе, но Отелло – свинья свиньей – назначил на эту должность молодого выскочку Кассио, и Яго начал мстить. Наш Отелло не совершал подобных промахов, не спал с матерью – если идти к первоистокам жанра, – не убивал отца. Из чего создавать трагедию? Как из соседа по лестничной клетке сделать Кассио? Из подполковника Федулова Яго? Никак!
– Почему в нашем сценарии нет Яго?
– Потому что Яго и Отелло один человек.
Я так и замер с открытым ртом.
– То есть… Яго есть?
– Есть, – сказал Матвей и поведал историю о конце времен, где Яго, Кассио, Дездемона, Брабанцио, Эмилия, Родриго, Монтано, Бьянка, в общем, все, все, кто встречается на пути Отелло, являются одним человеком – Отелло, как и все, кто встречается на пути Яго: Кассио, Дездемона, Брабанцио, Эмилия, Родриго, Монтано, Бьянка, Отелло – являются одним человеком – Яго, как и все, кто встречается на пути Кассио… и т. д. Мир схлопывается, человек замыкается на себя, с кем бы он не встречался, он встречается с собственными отражениями в изогнутых зеркалах, на кого бы не злился, злится на самого себя, чему бы не радовался, радуется себе, мстит самому себе. Нас стало слишком много, нас гораздо больше, чем чувств, мыслей, различий между нами, в какой бы последовательности эти различия мы не складывали. Земля уменьшилась – под землей нет ада – теперь она легко умещается в мониторе компьютера, в сознании пользователя; ее не увеличить. Отныне ад и рай в голове. В век Шекспира все было по-другому: Отелло – это только Отелло, Яго – Яго, – каждый из них нес свой заряд, и, когда заряды сталкивались, сверкала молния, молния могла попасть в кого угодно, ее не встречал громоотвод. – Почему Отелло должно быть восемьдесят два? Потому что Европе восемьдесят два! – Матвей посмотрел на меня: так смотрят на близкого человека, совершившего досадный промах. – Ты же не думаешь, будто мы затеяли очередной римейк?
Я уже ни о чем не думал.
– Шекспировский мавр – в расцвете лет, – не унимался Раевский, – наш – на излете сил. Он стар и поэтому хочет жить, а значит, смерть его будет смешной и жалкой. В восемьдесят два невозможно принять геройскую смерть.
Мне было жаль зрителя. Какие бы подсказки ему ни делались, понять, что восьмидесятидвухлетний Отелло олицетворяет современную Европу… мне не понять.
– …а шекспировский мавр – Европу времен ренессанса, – развивал свою мысль Матвей. – Перед нами один и тот же герой, оба мавра совершают один и тот же поступок, но между ними ничего общего.
Мне стало жаль Матвея. Своей жалости я не скрывал.
– Читаю немой вопрос в глазах: почему ничего общего?
– Вся разница в возрасте, ты же сказал.
Исходное событие – возраст. Предлагаемые обстоятельства – возраст. Весь фильм зрителю придется сопоставлять двух мавров, две Европы, сравнивать проявления зрелого организма и реакции старого. Все бы ничего, пусть сравнивает, пусть сопоставляет, только мавр на экране один! Мне возразят: шекспировский мавр не обязан появляться в кадре, поскольку вбит в подсознание каждого из нас, и, если мы видим, как брутальный темнокожий мужчина в подъезде или в спальне душит бледнолицую женщину, отлично понимаем, о чем речь, сразу вспоминаем, как их зовут. Пусть так, но остается пустяк, как объяснить зрителю, что перед ним две Европы, а не один-единственный мавр.
– Впрочем, здесь надо решать, – продолжал Раевский. – Возможно, речь идет не о конце времен, а о закате европейской культуры. В эпоху Шекспира она находилась на подъеме…
Бесцветное, бледное облако окутало меня. Как будто в голове хранится множество склянок, и вдруг одну разбили. Апатия разлилась по телу. Я устало смотрел на Раевского и думал: мне восемьдесят два… уже лет десять, как восемьдесят два. Пусть Новосибирск будет в Европе, а Дездемона самым обычным женским именем в Полтаве. Какое это имеет значение? Да хоть каждая вторая Дездемона! В угоду сюжету пусть африканцы приезжают к нам на учебу с начала пятидесятых, а не с середины шестидесятых годов прошлого века. Мне безразлично, когда они впервые поехали за знаниями в СССР. Пусть Европе будет восемьдесят два, пусть восемьдесят три. В любом случае мавр не жилец. Из Отелло Ивановича не выйдет Отелло. Как бы мы ни выправляли ситуацию, ее не исправить. Все силы уйдут на исправления. Я устало смотрел на Раевского и думал: да, мавр не жилец… с такими дефектами не выживают. С моей помощью он умрет или без – без разницы, но чем быстрее, тем лучше.









































