Читать книгу "Первый, второй"
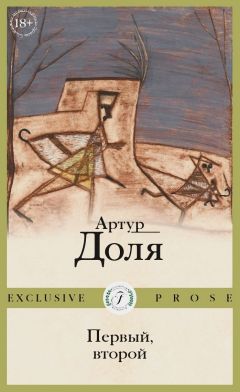
Автор книги: Артур Доля
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– …речь идет о закате культуры больших белых мужчин.
Наверное, я неврастеник. Чужие глупости меня раздражают. План по ликвидации мавра возник сам собой.
– Место действия – дом престарелых.
– Это еще почему? – насторожился Матвей.
– Если Отелло восемьдесят два, а Дездемоне семьдесят девять, значит Яго, Кассио, Брабанцио, Эмилия, Родриго, Монтано, Бьянка – глубокие пенсионеры. У Кассио рак простаты, у Эмили – Паркинсон, Дездемона, Брабанцио, Яго – гипертоники, к тому же у Яго недавно удалили грыжу, Отелло пользуется слуховым аппаратом, при ходьбе сильно хромает, у него проблема с коленным суставом, Монтано давно впал в маразм, постоянно пытается шутить, все шутки про памперсы, одна удачная: сравнил памперс на Бьянке с поясом верности; у Бьянки недержание мочи. Все они любят поговорить про свои болезни, за исключением Бьянки. Бьянка, в отличие от Дездемоны с Эмилией, почти не красится. В каком месте удобнее всего свести стариков? Либо в туристическом автобусе, курсирующем по Золотому кольцу, либо в доме престарелых в Рузе. В автобусе мы ограничены пространством и временем. Остается Руза.
Режиссер мгновенно представил шекспировскую трагедию в декорациях дома престарелых, и ему это не понравилось.
– Артиллерийское училище, взрывы на весь экран, лестничная клетка с Дездемоной остаются за кадром. Чем давать их через воспоминания, лучше вообще не показывать. Перед нами восьмидесятилетние старики, ведущие себя… как они должны себя вести?.. словно им по двадцать пять. Это ли не трагедия? Они мнят себя молодыми. Трухлявые пни.
Матвей недоверчиво посмотрел на меня. По-видимому, я убедительно проиллюстрировал основную идею фильма, и ему показалось, будто над ним насмехаются. А мне показалось, он немного обиделся, когда я напомнил, что Новосибирск расположен в Азии, что в пятидесятые Отелло не мог учиться в Советском Союзе, и уж тем более мавр не может быть индикатором культуры больших белых мужчин, что я не расист (ответ на замечание Матвея), что закат Европы не вяжется с белыми снегами, что дело не в Новосибирске (ответ на предложение убрать Новосибирск, перенести действие в Тамбов), что Дездемона слишком экзотичное имя для Полтавы, что Отелло не может ударить Дездемону, не разрушив тем самым жанр.
– На Украине любят редкие имена. – Раевский попытался хоть что-то сохранить. – Ты сам прекрасно знаешь; вспомни Лауру Диденко, грудастенькая такая.
Что я не помню пышнотелую Лауру?! Как можно забыть Диденко?
– Бог мой, видел бы ее Петрарка! – воздеваю руки к замызганному потолку.
– Петрарка примерно такую и видел! – огрызнулся Матвей, неплохо разбирающийся в женских фигурах, служивших эталоном красоты в эпоху Возрождения.
Я приготовился отражать следующую атаку; кто знает, как он задействует Петрарку на своей стороне? Но на большее его не хватило, победил здравый смысл. У соавтора появились круги под глазами, стало заметно, что он тоже сегодня не выспался.
Развивать идею, где чернокожий курсант артиллерист и режиссер в синем берете, драматург Шекспир и родовитый мавр на венецианской службе являются участниками единого действа, еще до конца непонятно какого, быть может влекущего за собой глубокий тектонический сдвиг, способный разрушить Великую Стену Стереотипов: Дездемона впервые увидела Отелло на сцене… Прикоснувшись к Шекспиру, Отелло внутренне изменился, – Раевский отказался.
Наступила минута молчания. Восьмидесятидвухлетний Отелло Иванович почил на глазах.
Стало слышно, как бьется муха в окно: жужжание – глухой удар – жужжание. Как будто глухой удар – точка в конце предложения: жужжание, глухой удар и следующая строка. В ней могло говориться о том, как душа полковника покидает тело, что впереди ее ждут мытарства, чем дальше она будет подниматься, тем испытания будут сильней. Это могла быть фраза из некролога или жалоба на внезапно прошедшее лето. Скорее всего, она была ни о чем, эта строка.
Муха билась в окно, рвалась на свежий воздух, но что-то невидимое ее не пускало. Своей упертостью она превосходила любого барана. Впрочем, ее можно понять – за окном стоял ясный солнечный день. В самом центре прозрачного неба расположилось два небольших облака, как глаза на лице. Можно было подумать, что кто-то на нас смотрит. Слегка расправив плечи, выпрямив спину, я сделал серьезное выражение, чтобы сверху меня не приняли за легкомысленного идиота, потом отвернулся к столу.
Говорить было не о чем. Налив в чашку остывшей заварки, стал рассматривать радужную пленку на поверхности. Пить не хотелось. Недавно Матвей, призывая насладиться тонкими вкусовыми достоинствами индийского чая, утверждал, что такая пленка признак хорошего качества напитка. Не знаю, откуда он это все берет. Похоже на бензиновые разводы в луже… еще бы плавающий осенний лист, что называется, добавить чуть-чуть горчинки… как будто живописец запечатлел мое настроение. Первые дни осени – название картины.
Стояла тишина. Никто не бился в окно, по-видимому, муха вылетела в форточку или забилась в укромное место, чтобы не раздавили, затихла, набираясь сил, обдумывая непростое положение. Целебная тишина. В такую погоду хорошо в лесу собирать грибы, а потом всю зиму заставлять жену готовить жульены, вспоминая за трапезой, как собирали грибы, были застигнуты дождем, прятались под столетней сосной с развесистыми лапами, и все равно промокли. Кто-то недавно рассказывал подобную историю, звучало заманчиво. Надо будет попробовать поехать всей семьей по грибы, шататься по лесу ради жульенов, прятаться под сосной, слушать шум дождя.
Стояла тишина. Никакого тебе жужжания крыл, ударов головой о невидимую преграду: ничего похожего на состояние творческого бессилия. Счастливая муха летела в сторону леса, слышимая только Богу, видимая только Ему, либо, довольная, сидела внизу прямо под нашим окном, в кругу подруг, на собачьей какашке, в «Макдоналдсе», если по-ихнему…
Прошел год.
Ничего особенного за это время не случилось. В пятьдесят время летит быстро, глазом не успеешь моргнуть…
Мое отражение на радужной поверхности чая моргнуло глазом.
«Год?» – кто-то внутри меня (пусть будет жена) удивленно покачал головой.
Ну хорошо, не год, месяц. Сколько можно сидеть за столом и молчать, уставившись в чашку: неделю, день?
«Максимум час».
Будь по-твоему, прошло пять минут.
Итак, прошло пять минут.
«Пять минут?» – кто-то внутри меня снова покачал головой.
Именно пять! Если не веришь, – киваю куда-то в бок, – мавр подтвердит.
– Коварная белая обезьяна! – закричал мавр, заходясь в припадке, словно только и ждал, когда о нем вспомнят. – Из-за тебя вся моя жизнь псу под хвост! – от неожиданности я растерялся, нить реальности ускользнула из цепких рук. – Богом клянусь, я ничего не подтвержу! никаких минут! – вопил африканец. Блондинка, с лихорадочным блеском глаз, стояла поодаль, она прижимала к груди шестипалую сиротку, девочка плакала. Эмигрант из Казахстана по фамилии Свидригайло, объяснял французским полицейским, через переводчика, что он ничего не слышал про этих долбаных спортсменов на велосипедах и с выразительным укором смотрел в мою сторону. Звонил телефон:
– Такая-то такая-то, проживающая по такому-то адресу, кем вам приходится?
Меня прогоняли сквозь строй:
– Мы могли стать частью твоей жизни!
– Зевс, пожирающий собственных детей!
– Такая-то такая-то, проживающая по такому-то адресу, кем вам приходится?
– Ты не дал малышке обрести полноценную семью! – шестипалая ручонка тянется к горлу. – Гомофоб недоношенный!
С трудом сглатываю слюну, – эк меня перемкнуло! до спазма в горле. Чувствую на кадыке детскую шестерню.
Когда тебя прогоняют сквозь строй, время тянется бесконечно долго, пять минут могут показаться вечностью. Можно год прожить и не заметить, как он проскочил, ни одного седого волоса не прибавить, словно за чашкой чая осень – зиму – весну – лето просидеть, и не стать мудрей, а можно в пять минут поседеть, превратиться в развалину. Лично я, не задумываясь, пожертвую годом жизни, лишь бы избавиться от таких минут.
«Пять минут, пять минут, бой часов раздастся вскоре.
Пять минут, пять минут, помиритесь те, кто в ссоре», – запела Людмила Гурченко у меня в голове.
Вот и скажите теперь, что это не равноценный обмен, что я не люблю жизнь, что мне пятьдесят, и надо ценить оставшийся срок, не разбрасываться годами.
Люблю! И как многие в моем возрасте, до сих пор на что-то рассчитываю, хотя умом понимаю, что все в этой жизни уже было, расчет и безрассудство, предательство и преданность, позор и слава – пусть в большем, пусть в меньшем количестве, иногда заметное только мне – было! и трудно, практически невозможно меня удивить.
Последнее время ловлю себя на том, что являюсь персонажем драмы абсурда. Раевский, знаю, не согласится. Мы играем в одном спектакле, какой здесь абсурд? Дело не в том, что он считает себя героем трагедии, комедии или чего-то другого, скажем, мелодрамы. У него появляется мнение в момент отталкивания от чужого мнения. «Где ты увидел драму абсурда? – возмутится поклонник Беккета. – Не иди на поводу у эмоций. Перед тобой мелодрама. Действующие лица: Режиссер – мужчина сорока девяти лет; Сценарист – друг Режиссера, пятьдесят лет; Отелло – полковник в отставке, восемьдесят два года. Место действия: кухня в двухкомнатной квартире. Время действия: наши дни».
«Пять минут, пять минут…» – не прерываясь на лирические отступления, на драму абсурда поет Людмила Гурченко.
Как ни стараюсь уйти от мелодраматического течения жизни – внутри-то мне двадцать пять! – все чаще ловлю себя на том, что являюсь действующим лицом мелодрамы. «Где ты увидел здесь мелодраму?» – возмутится почитатель Ионеско. «Будь объективен – драма абсурда. От себя не уйти! – И тут же начнет перечислять состав действующих лиц: – Режиссер – мужчина сорока девяти лет; Сценарист – друг Режиссера, пятьдесят лет; Отелло – родовитый мавр на венецианской службе. Место действия: городская свалка. Время действия: наши дни».
Представил, как мы на машине подъезжаем к полям фильтрации, останавливаемся, Раевский на всякий случай не выключает движок. Выходим из «фольксвагена» «роlо», оглядываемся по сторонам: на сотни метров вокруг ни души, ни бомжа, только стая собак шагах в пятидесяти, да воронье, тучи воронья. Я открываю багажник. Вдвоем с Матвеем вытаскиваем из багажника труп чернокожего старика, снова осматриваемся. Затем, пятясь задом, как раки, тащим мавра волоком по отходам человеческой жизнедеятельности куда-то в глубь преисподней, где обитают зачатые, но не рожденные души. Матвей пыхтит. «Я думал, он будет легче», – пытаюсь ободрить подельника, тому совсем тяжело. И вдруг подъезжает полиция.
Смешное могло бы получиться кино.
– Мы тут таких, как вы, раз в месяц вяжем, – самодовольно хмыкает старший сержант.
– Нет, вы все неправильно поняли… это персонаж… всего лишь персонаж. – Лежу, распластавшись на пищевых отходах, рядом с мавром, руки за голову, лицом уткнувшись в прогнившую банановую кожуру, яичная скорлупа прилипла к щеке. Сбоку сопит раскрасневшийся Раевский, с картофельной шелухой на носу.
– Персонажем тебя на зоне сделают, дурилка картонная! – Сержант, почти без замаха, пинает меня по ляжке ногой; довольно болезненный удар. – Стасюк, ты слышал, какое он себе алиби сочинил?
– Под шизика косит, – не прекращая обшаривать карманы Раевского, отвечает Стасюк.
– Кино! – радуется жизни старший сержант. – Пожизненное тебе светит, мокрушник.
– Пятнадцать лет расстрела! – поддакивает Стасюк.
Напарник Стасюка хохочет.
«Что ты, мусор, шнягу гонишь?» – надо бы ответить менту, да боязно, не хочется лишний раз получать по ногам.
Старший сержант, чуть ли не мыча от удовольствия, снова пинает меня в то же самое место, только больней.
Есть существа, питающиеся чужими страхами.
В отличие от ментов (повторюсь, режиссер – ментовская профессия), режиссеры гораздо всеядней. Помимо страхов они питаются чужими мечтами, желаниями, надеждами. Все зависит от жанра, в котором на данный момент работают мастера. Нет, они не удовлетворяют чужого желания, аки продажные женщины, не возбуждают его, демонстрируя женские ноги, не вытесняют кадрами, после которых у нормальных мужчин не стоит, а сами, возбуждаясь от твоего желания, или желания уличной девки, тут же кричат: «Мотор!» – переводя наши желания в кадры, после чего удовлетворенно потирают руки. В свете прожекторов пьют кровь из актеров.
Я с ненавистью посмотрел на Раевского, не оправдавшего моих надежд на легкий заработок. Стасюк, не найдя в чужих карманах ничего ценного, тем более противозаконного, распрямился и врезал режиссеру по почкам ногой. Матвей застонал, но закрываться руками не стал, как будто у него уже имелся подобный опыт: начнешь закрываться или подвывать, только хуже будет. Я знал режиссера от младых ногтей – подобного опыта в его распоряжении не было. А что касается мента… Стасюк в моей трактовке выходил незамысловатым существом: получил внешний импульс – ненависть к режиссерам – и сразу пришел в действие.
– Прости, друг, – во мне заговорила совесть.
– Да пошел ты… – огрызнулся Раевский. Попытался сдуть с носа картофельную шелуху, не получилось, попробовал еще раз.
– Вытри о землю.
– Пошел ты!
– Не надо было мавра мочить, – соглашаюсь с Матвеем.
– Где тут земля? – возмущается подельник. – Метров на десять под нами одни отходы… сейчас блевану.
– Крепись, братан!
Матвей отвлекся от своих мыслей, посмотрел на соавтора, на нетронутый чай, – на слове «братан!» оборвал смешное кино:
– Кофе будешь?
– Давай.
Быть может, в его мыслях меня точно так же пинали, если не больней, топили в чашке, прогоняли сквозь строй, называли братаном? Кто знает, о чем он думал эти пять, или сколько там прошло, минут?
– Все беды от сценаристов!
– Щелкоперы бездарные!
– Малоталантливые говнюки!
– Гнать их надо! Они ва-аще не из мира кино!
– Это литература. – С такими словами возвращают текст, если тот ни на что не годен. Выносят сценарию смертный приговор.
А если не топили, не мстили за Отелло, печаль режиссера была светла, или он ни о чем не думал, или думал о новом сюжете?
Тогда я гад.
Матвей открывает дверцу настенного шкафчика, на первой полке друг подле друга две кофемолки, новая электрическая и старая, деревянная, ручная. После секундной паузы достает ручную. Электрическую на Новый год преподнесла жена, сопроводив подарок словами: «Чтобы ты ради чашки кофе не молол зерна, пока руки не отвалятся; у тебя золотые руки!» Все надо делать вручную – девиз Раевского. В отличие от меня, он действительно может устранить течь, поменяв прокладку в кране, такой резиновый кружочек; не поранившись, вбить в стену гвоздь; да что там, заменить в межкомнатной двери стекло. Hand-Made – ручная работа.
Матвей крутит ручку по часовой стрелке, хрустят кофейные зерна, никакого тебе электрического вжи-и-и. Приятный хруст.
– Мели, мельница, мели,
И Питтак молол когда-то,
Милитены царь великой… —
в стиле рэпа читает самый древний, из дошедших до нас, европейский текст.
Смотрю на круговые вращения по часовой стрелке – как земля вокруг солнца. Было бы здорово, если и там вручную. Впрочем, именно об этом говорит теология. Наблюдая за круговым вращением земли, понимаю: не топили меня, не били.
«Ну, ты и сволочь!» – думаю о Матвее.
«Ну, я и дрянь!» – думаю о Матвее на очередном витке.
Время от времени, если верить Раевскому, актер должен испытывать легкое чувство вины.
Неожиданно возникает усталость. Я закрываю глаза. Гаснет свет, медленно, как в театре.
Да пошло оно все!
По сцене запрыгали зайцы. Сначала я подумал, что это группа поддержки, из тех, что развлекают публику в перерывах между таймами на баскетбольных площадках: девочки из кордебалета, слишком натурально загримированные под зайцев. Но это были самые настоящие не сексуальные зайцы. Зеленый задник сцены давал понять, что дело происходит на природе, в сумерках, скорее всего на лугу. Для создания сельской идиллии не хватало травяного покрытия; ушастые вегетарианцы вразнобой, неритмично стучали лапами по деревянному полу, как будто две бригады плотников устроили соревнование, кто больше забьет гвоздей. Темнота сгущалась, с каждым мгновением зайцев становилось все труднее различать. Какое-то время во мраке еще мелькали прыгающие силуэты, но потом от них остался один хаотичный стук.
– Я думал, мы ведем войну с постмодернизмом, – стуча лапами, заявил один заяц другому.
Затаив дыхание, я стал вслушиваться в темноту.
– Постмодернизм может быть преодолен только наиболее универсальным и наиболее последовательным, трансцендентальным постмодернизмом, – отвечал разочарованному зайцу другой заяц, увлеченный. – Возьмем обыденную ситуацию: чашку с чаем. Представь, что в передних лапах ты держишь чашку с чаем. Чтобы не «расплескать» трансцендентальный опыт нужно или остановиться, или быстрее двигаться. Я, вслед за Марксом, Ницше, Гуссерлем, предпочитаю второй вариант. Первый обозначал бы некоторую остановку, субстантивацию потока переживаний, некоторую «метафизику». Второй вариант, вариант усиления тенденций – усилить постмодернизм, – это вариант разрушения субстанций, вариант «быстрого движения», которое само становится субстанцией. Дело, конечно, не в быстроте движения, но в том, что мир и трансцендентальный опыт предстает, как «Гераклитов поток»: поток заменяет структуру.
Говоря все это, зайцы беспрерывно двигались. С ними невозможно спорить! Да и не собирался я спорить, просто сидел, не шелохнувшись, стараясь ничего не расплескать. Стоит открыть глаза, и свет хлынет волной, сметая зайцев, заменяя одну структуру другой. Но глаза не разлеплялись, не думали разлепляться глаза.
Легкое чувство вины
Заяц – называла меня подруга сердца, на которой я чуть не женился, или интимно, впотьмах, с придыханием, горячим шепотом: «Зай-йя. Зай-йя!» – и все мое юное тело дрожало, как заячий хвост. «Иди ко мне, Волчонок!» – говорила другая, любившая заниматься сексом при электрическом освещении, с употреблением ненормативной лексики, нараставшей по ходу движения, к моменту кульминации переходящей в нечленораздельный вой. По утрам, за завтраком, талантливо показывая, как я смешно умею злиться: Серый волк зубами щелк! – кормила бездарной овсянкой. Однажды она меня чуть не загрызла. «Кися, – последние двадцать пять лет обращается ко мне моя вторая половина. – В Третьяковке выставка Серова. Почему бы нам не сходить, Кися?» – «Быся! – раз в десять лет я пытаюсь с этим бороться, доводя „Кися“ до абсурда, чуть ли не обзывая, в ответ, жену. – Быся! Серов отменяется». – «Ну, Кися! Ты же сам говорил, что „Девочка с персиком“ про меня».
По-видимому, я мало обращаю внимания на то, как меня называют, хоть горшком, лишь бы в печь не сажали. Это как люди за окном, они, конечно, несут в себе какой-то смысл, куда-то движутся, что-то обозначают, но чтобы следить за ними? демонстративно не замечать? внимательно разглядывать? окликать? вступать в спор? давать советы, высовываясь из окна семнадцатого этажа? объяснять, куда нужно идти? И все-таки «Кися!» перебор. Раевский куда непримиримей в борьбе с мещанством: «Кися! – бесконечное множество раз режиссер пародировал мою жену, – мы сегодня будем пить водку?» – но потом, не дождавшись результатов, и он успокоился. Мещанство воевать с мещанством, – скажу я вам. И еще, по поводу выставки в Третьяковской галерее: та, что меня называла «Волчонком», постоянно раздражала, чуть не загрызла, помните? – Серов и ее умудрился запечатлеть – Ида Рубинштейн. Я долго стоял перед этой картиной, пока жена не занервничала. Посетители приходили и уходили, некоторые сначала смотрели на меня, потом на картину, кто-то проходил, не останавливаясь.
– Больше всего в искусстве не люблю бойких профессионалов, – сказал я, отворачиваясь от Иды, когда нельзя уже было дольше смотреть. – Художник должен служить не людям, а Богу, даже если не верит в Него.
– О Господи, при чем здесь Бог, скажи мне?
Я снова направил на картину долгий, пристальный взгляд, со стороны могло показаться, будто взыскательный зритель подыскивает необходимые аргументы:
– Мне кажется, Серов, нахрапистый профессионал.
Моя прекрасная половина не стала спорить, она прекрасно все понимала. Хочешь еще раз посмотреть на нее? смотри! не выдумывай повод. Держи себя с достоинством! твою мать!
Если бы «Ида Рубинштейн» висела у нас в квартире на стене, это как-то повлияло на нашу жизнь? Не уверен. А если в спальне? Я огляделся по сторонам, вычисляя, где расположены камеры наблюдения: насчитал две. Сказать, что у меня криминальный склад ума? Да вроде бы нет. Я никогда не хотел ограбить банк, как некоторые домохозяйки, не хотел быть банкиром, не разделяю желания соседа по подъезду, заслуженного ветерана труда, придушить какого-нибудь банкира. Наверное, у меня слабый темперамент: я никогда не хотел никого убить. Но где бы ни оказался, на Курском вокзале, в Большом театре, возле обшарпанного подъезда в Отрадном или в Кремлевском дворце съездов, всегда отмечаю расположение видеокамер.
И еще, по поводу Иды Рубинштейн: той ночью она явилась ко мне маленькой девочкой, на станции метро «Площадь Революции». Народу в вестибюле почти не было, словно перед закрытием, в час ночи. Она бегала среди отлитых в бронзе фигур советских людей совершенно голая, как на картине Серова. Иногда останавливалась, гладила ладонью стахановца с отбойным молотком или матроса-сигнальщика с линкора «Марат» и убегала. Она смеялась, постоянно держала меня в напряжении, хотела, чтобы я смотрел на нее, словно нахрапистый профессионал. Я смотрел на нее и знал, что это грех, что так нельзя, что надо вырвать себе глаз, а лучше два, хотя бы отвернуться. Мало ли чего хочет ребенок, чего я хочу? Редкие пассажиры не обращали на нас никакого внимания. Она хотела, чтобы я ее трогал. Ребенок не понимает своих желаний, тем более когда этот ребенок Ида Рубинштейн! Я ждал спасения, но электричек не было. Приблизившись ко мне вплотную, ладонью, будто фиговым листочком, она прикрыла свое лоно; смешинки погасли в глазах. Боже мой, где же полиция? Дайте хоть одного мента!.. Мои пальцы коснулись ее плеча. Как после этого, – в голове мелькнула последняя мысль, – каким проснусь? как после этого жить?
…она… рука… немного вперед и вниз… целуя фиговый лист…
Что бы сказал Фрейд? Жуть!
– Жуть! – подтвердил правообладатель либидо.
Жуть, когда тебя несет фиговым листочком, вздымает к небесам, волочит по земле, кружит в воздухе, прижимает к детскому лону так, что не отодвинуться, хоть двумя руками в него упрись – вдавливает, – запах преступления на лице, на руках. Жуть, когда из добропорядочного, светлого, рассчитанного на пять шагов вперед, умиротворенного «всегда», ты проваливаешься в полный мрак, в «никогда», в одночасье превращаясь в изгоя. Мозг мечется диким зверьком, посаженным в клетку: теперь на тебя будут смотреть сверху вниз все те, на кого ты смотрел сверху вниз. «Но я не смотрел на людей сверху вниз! – возмущаешься ты. – Ни на что никогда сверху вниз! – возмущаешься ты. – Не смотрел!» – возмущаешься ты. «На поверку выходит, смотрел!» – возмущается мозг. – «Неужели смотрел?» – «Еще как! А иначе б откуда взялась эта мысль: „Будут смотреть сверху вниз“? – он орет на меня, как на младший армейский чин. – Откуда б она взялась?!»
«Вот и кончился день! – изумляешься ты (слезы блестят в глазах). – Кончился мой день! – соглашаешься ты (слезы блестят в глазах). – День прошел и другого не будет. Мне отныне нельзя находиться среди людей». «Почему?» – удивляется мозг. «Остается держаться от них подальше (ни слезинки в сухих глазах: ни обиды, ни сожаленья)». – «Почему?» – раздражается он. «Чтоб никого не запачкать».
– Ни слезинки в твоих глазах: ни обиды, ни сожаленья, – говорит совесть.
– Ни слезинки в твоих глазах: ни обиды, ни сожаленья, – говорит гордыня.
– Сердце болит, – говорит сердце.
– На кого ты меня оставляешь? Как мне жить одному без тебя? С кем я буду делить свою пищу? Мне любой кусок в горле застрянет! С кем ты будешь делить свою пищу, рассуждать, что она для ума? – по-простому, с надрывом, по-бабьи запричитал мозг.
От такой безыскусности стало жалко себя до слез.
– Сокол ясный, летавший высоко над землей, чтоб крыла не испачкать.
Перемазаться жизнью боялся, – а теперь весь в говне, весь во мраке!
Далеко ты теперь улетел.
«Я обделался, – думаешь ты. – От меня неприятный запах: смесь предательства и воровства».
– Как же нежно все это бормочешь: «От меня неприятный запах. Ты обделался и облажался!»
«Я обделался и облажался».
– Обокрал себя! предал! отрекся!
«Обокрал себя, предал, отрекся».
– Все равно принимаешь себя?
– Так! но я никого не убил. От меня не смердит убийством.
– Это мысль, – восторгается мозг. – Одним махом решить проблему: всех, кто мог что-то видеть, убить. Нет свидетелей – нет преступленья, нет позора, никто не узнает! Все мертвы. И не надо бояться: больше грязи, чем есть, не пристанет.
– Но не видел никто.
– Ха-ха-ха!
– Что ты хочешь сказать?
– А она?
– Врешь! Она из материи сна.
– Я соврал? Нет проблем… ха-ха-ха! Что известно двоим… ха-ха-ха!
– За кого ты меня принимаешь?
– Не-е-е… неправильно ставишь вопрос: за кого меня примут другие?
– Ты свинья!
– Педофил! Ха-ха-ха! Ха-Ха-Ха! ХА-ХА-ХА! АХХАХА!
– Как я буду душить воздух?..
Утром, боясь проснуться, я долго лежал с закрытыми глазами, казнил себя, создавал алиби, постоянно проваливался в сон. Беспорядочные метания ума, загонявшие меня в гроб: «…все те, на кого ты смотрел сверху вниз… но я не смотрел сверху вниз… а иначе б откуда взялась эта мысль?»; бабьи причитания над гробом: «На кого ты меня оставляешь? С кем я буду делить свою пищу?»; истерические вопли юродивого, танцующего на крышке гроба: «…а теперь весь в говне, весь во мраке!»; – в конечном счете обернулись чудесами изворотливости, вытащили из гроба. Оказалось, что путь к спасению – как и любое нетривиальное решение – лежит на поверхности, вытекает из логики развития правосознания. Достаточно сделать из преступника обвиняемого, и все меняется: приходится вникать в суть вопроса, наделять присутствующих правом голоса, всех выслушивать, включая юродивого, устраивать прения, взвешивать «за» и «против», переносить слушания на следующий день. Вся эта каша заваривается исключительно ради торжества правосудия – чтобы не допустить самосуда, избежать кары небесной. На дворе XXI век: нужно договариваться, а не рубить с плеча. При хорошем адвокате безнадежное дело может длиться годами, как бы в мутном полусне. Пойдя путем вопросов и ответов, сочинив по голливудским лекалам судебный процесс, мозг усадил меня на скамью подсудимых.
– При свете дня, находясь в здравом уме и твердой памяти, ты бы пошел на преступление, совершенное тобой в состоянии сна, глубокой ночью?
– Нет.
– А если бы вы оказались вдвоем на необитаемом острове?
– Нет.
– Ждал, когда ей исполнится восемнадцать?
– Хотя бы шестнадцать.
– Или четырнадцать? – Кто-то интересуется за спиной.
– Я протестую! – протестует мозг. Но его тоже не видно, он находится где-то сзади.
– Протест принят, – раздается прямо за мной.
– Шестнадцать, – настаиваю на своем.
– Он верит в то, что говорит.
– Или пытается в этом себя убедить.
– В любом случае ответ не будет приобщен к делу. – Непонятный шелест за спиной: бумаги? листвы? крыльев? Почему я не решаюсь обернуться?
– Представь, – продолжает мозг, – разрушенный город, Третья мировая война, сотни закоченевших мертвых тел разбросаны по земле, и вдруг посреди руин живой ребенок, очаровательная обнаженная девочка, дочка твоих врагов?
– Никогда!
– Следовательно, в состоянии бодрствования у тебя достанет сил противостоять подобному искушению?
– Думаю, да.
– Так «думаю» или «да»?
– Не уверен по поводу необитаемого острова.
– Пальмы, море, закат, одинокий костер в ночи, на тысячи миль вокруг ни души, быть может, на годы вперед только ты и она? Так?
– Нет, все-таки ждал бы.
– Уверен?
– Да.
– Ночью, на станции метро «Площадь Революции», рядом с несовершеннолетней девочкой находился ты или кто-то другой, допустим, твой двойник или просто очень похожий на тебя человек? или совсем не похожий, но представляющийся тобой?
– Ночью, на станции метро «Площадь Революции», рядом с несовершеннолетней девочкой находился… – затягиваю с ответом. Все бы сейчас отдал, лишь бы это был кто-то другой! совсем не похожий на меня! – Рядом с несовершеннолетней девочкой находился я.
– Значит, все происходило с тобой, – словно о каком-нибудь проходном эпизоде, никак не влияющим на дальнейшую судьбу, продолжает расспрашивать мозг, – ты не снимаешь с себя ответственности за совершенное преступление?
– Не снимаю.
– Как думаешь, в твоем распоряжении имелись другие модели поведения?
– Уточните, пожалуйста, вопрос.
– У тебя был выбор? Находясь в состоянии сна, мог ли предпринимать самостоятельные действия, отвечать за свои поступки, решать, вступать с ней в интимную связь, не вступать? Мог ли противостоять преступлению?
– Не знаю… разве только проснуться?
– Но ты не проснулся?
– Нет.
– Высокий Суд! Должен ли человек нести ответственность за то, что не сумел проснуться?
– Должен, – отвечаю как на духу.
Мозг морщится – кто тебя дергает за язык? где ты и где Высокий Суд? – показывает свое отношение к незадачливому подзащитному. Я не вижу, как морщится мозг, просто представляю сморщенный лоб.
– Высокий Суд! Должны ли мы судить человека по законам сна или обязаны применить Уголовный кодекс Российской Федерации? Знаем ли мы законы сна? Имеем ли право наказывать его за случившееся во сне? Мой ответ: не имеем. Вполне возможно, данный сон сам по себе является наказанием для подсудимого, генератором душевных мук. Велика вероятность, что сон несет важное сообщение или намекает на проблемы в жизни, которые желательно исправить, предупреждает об опасности. Быть может, значение сна прямо противоположно его содержанию? Мы не знаем. Что нам известно? Откроем сонник: «Увидеть во сне незнакомую обнаженную женщину – знак того, что кто-то оклеветал вас. Однако если женщина будет прекрасной, то вас ожидают радости и удовольствия, которых, возможно, вы потом устыдитесь».
– При чем здесь обнаженная женщина? – недоумеваю сквозь сон.
– Да, это не совсем то, – размышляет мозг. – Перед нами девочка, совсем ребенок. – Листает страницы в уме, останавливается на букве «Д», читает: – «Девственница, пленившая мужчину во сне, наяву принесет много забот, огорчений. Такой сон также предсказывает, что после пробуждения дела мужчины могут прийти в упадок».
– Девственница и девочка не одно и то же… – мучительно соображаю в тумане.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































