Текст книги "Первый, второй"
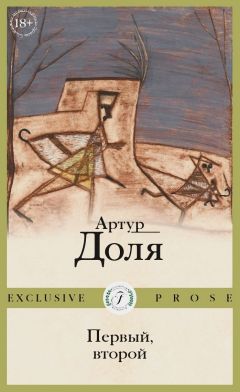
Автор книги: Артур Доля
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Перед нами преступление, совершенное на территории сна, следовательно, оно должно караться по законам, установленным во сне. В соответствии с этими законами подсудимый должен отбывать наказание в состоянии сна. Заметьте, не полусна и уж тем более не в состоянии бодрствования.
– Логично, – рассуждаю я. – Отбывать наказание в состоянии сна. Все по закону.
– Высокий Суд! Вынося обвинительное заключение, не пойдем ли мы по пути двойных стандартов? Мне могут возразить: во сне и наяву перед нами один и тот же человек, одно и то же живое существо, сон – это вторая половина жизни, во сне пейзаж и действия реальны. Так! Но, засыпая, человек никогда заранее не знает, в какое пространство опустит его сон. Во сне человеческое существо лишено воли. Мне снова возразят: «Научись перемещаться в своих снах и тогда обретешь волю». Согласен. Но, к сожалению, мой подзащитный таким искусством не овладел: перед нами обычный человек. Высокий Суд, является ли это достаточным поводом для наказания?
Мне предоставили последнее слово, и я открыл рот, не столько в надежде оправдать себя – надежды не было – сколько желая посрамить мозг: мне показалось, он не меня – себя защищает. Так яростно, так широко открыл, что проснулся, не успев произнести заранее заготовленную фразу: «Во сне пейзаж и действия реальны».
Не знаю, какой приговор вынес Высокий Суд, возможно, я отбываю сейчас наказание – повесили вниз головой, качаюсь над бездной – просто, не догадываюсь об этом; возможно, оправдан. Скорее всего, оправдан, ничего принципиально в моей жизни не изменилось, разве что несколько дней, как после тяжелой болезни, не мог оправиться. С тоскою смотрел по сторонам. «Быть может, это мои скрытые желания?» – думал о том проклятом сне. «Так вот ты какой?!» – всплескивала руками Совесть. Что она напридумала обо мне, чтобы так удивляться? «А ты, паренек, не промах! Такую девочку поимел!» – Похоть потирала руки, точь-в-точь как Раевский, перед тем как вкусно поесть. Сердце болело. Жуть, когда Похоть потирает руки.
Попытка снять с себя ответственность, разделить ее с мозгом, о многом говорит. О моей растерянности, о преступлении и наказании, о нелепой попытке спрятаться за спины других, о жизненном опыте, о том, что я все-таки спрятался.
– Это всего лишь сон, – сказал Раевский, выслушав длинный рассказ. – Удивительно, как тебе удается запоминать столько подробностей? Нормальный человек почти все забывает. У меня остается пара-тройка деталей, смысл которых тут же утрачивается, как фразы, вырванные из контекста. – На мгновенье соавтор представил себя поэтом. – Так камень, играющий светом и тенью под водой, поднятый на поверхность, высыхая, превращается в булыжник. – Посмотрел на меня со значением. – Примерно так.
– Во сне пейзаж и действия реальны.
– Что с тобой происходит? Жуть! – произнося «жуть», Матвей явно спародировал отца-основателя либидо, после чего посоветовал надеть жене на голову красный шелковый бант, натянуть на бритые ноги детские колготки до коленей (откуда он знает, что у нее бритые ноги? он что, смотрит на ее ноги?) и повязать на морщинистую шею пионерский галстук. – Вот увидишь, поможет. Только не занимайтесь этим на станции «Площадь Революции», не успеете кончить, менты повяжут.
– Счастливый человек, младенец. Хочешь сказать, у тебя не было снов, после которых неделями боялся уснуть?
– Почему? Были, и не раз. Стоял у окна в ожидании рассвета. Но там совсем другое, не чепуха всякая. – Раевский на мгновение замер, припоминая. – Вот, например…
Примерный семьянин на станции метро «Площадь Революции» совокуплялся с девочкой, ужасно похожей на Иду Рубинштейн. Он знал, что это грех, что расплата неизбежна, страшился геенны огненной, и все равно. По-видимому, ему было чудо как хорошо, но он этого почти не помнит. Все, что было, – помнит, не помнит только «хорошо». После той ночи его не оставляет гадкое ощущение, что теперь он у всех на виду, даже когда один, например, заперся в общественном туалете, тужится, сидя на унитазе. Никто не дергает дверь, не надо кричать: «Занято!» Но самый последний алкаш в Торжке, перед тем как принять на грудь, заглянет в стакан и замрет на мгновение, увидев его. Образцовый семьянин чувствует свое одиночество, как будто между ним и всеми живыми поставили стекло. В кругу семьи, в компании друзей он отделен от всех. «Дядя, – хочется спросить у него, – что ты такого узнал о себе? что лишает тебя надежды?»
Ветер сорвал одежды, унес, как унес надежды.
Стыжусь своей наготы, – говорит примерный семьянин. Образцовый отец семейства не должен изъясняться стихами, тем более когда ему за пятьдесят. Кто в юности не сочинял стихов? Любой паренек с рабочей окраины либо бормочет рэп, либо блатной шансон, либо ему не дает покоя Уильям Батлер Йейтс. Но сейчас не юность, не стоит говорить стихами, просто не хватит сил. Давным-давно, когда сил было много, гораздо больше, чем требовалось, когда требовалось опустошать себя – жизнь лилась через край, – любое событие в мире случалось для меня. Даже распад СССР я воспринимал как очередную очистительную акцию, – чтобы день свой не проспать, исследовать новые пути, расширить горизонты сознания, – на что только не идет мир ради меня! Стоило о чем-либо подумать, что-то представить, как вдруг узнавал, что где-то на земле нашлось место для воплощения моих идей: открыли частицу Pi. И хотя ее открыли задолго до моего рождения, частицы Pi не существовало, пока я не помыслил о ней. Иногда в голове бушевала война. Войны не стало меньше, но теперь я не нес за нее никакой ответственности: мир сам по себе, я сам по себе. Все, что происходило со мной, ни на что не могло повлиять. Не знаю, сам ли пришел к такому выводу, или кто из ровесников подсказал: говорил о себе, а я услышал и согласился. Нам некуда больше идти.
– …я медленно взошел на эшафот, и голову отбросил на дуршлаг, – закончил делиться ночными кошмарами Раевский. – Вот это ужас! это да! это я понимаю!
– Пятистопный ямб, – констатирую факт.
– При чем здесь пятистопный ямб? – Раевский, уязвленный в самое сердце, блеснул очами.
– Ты пересказывал свой сон пятистопным ямбом.
– Видишь, какой ужас я испытал? – Матвей сокрушенно покачал головой и тут же добавил: – Тебе не мешало бы изменить жене, для профилактики. А то мало ли чего? Если уж Фрейд говорит «Жуть!», значит, действительно, жуть. Мне лично никогда голоса не являлись. Ни бас Шаляпина, ни баритон Станиславского.
После Станиславского он принялся рассуждать о картине Валентина Серова «Ида Рубинштейн», как если бы вырезанная из рамы и смотанная в рулон, она стояла прислоненная к стене возле дивана. В тот раз мы пили водку у него дома в большой комнате. Матвей сидел на стуле, я, через стол, на диване.
– Картина ценою в квартиру, даже в две, если не в три, да еще краденная! Вот и задумаешься, что с ней делать? куда лучше повесить? стоит ли кому показывать? можно ли знакомых в гости приглашать? Одни проблемы. На кухне она просто не поместится, со временем полотно пропитается запахами, к тому же, когда я жарю мясо… ты видел, как я жарю мясо! как брызжет жир!
И вдруг:
– Вопрос на засыпку, та, что называла тебя Волчонком, чуть не загрызла, я ее знаю? Оксана Истомина?
– Иди в жопу.
– Иду. – Раевский деловито осмотрел собственную комнату, как будто оказался здесь впервые. – Единственно правильное место для нее над диваном.
– Для кого?
– Для картины. Ида Рубинштейн с запахом котлет. Звучит?
Тот день, как и многие другие, ушел в жопу.
«Если во фразе есть слово „жопа“, публика, как бы она не была изыскана, услышит только это слово», – Жюль Ренар.
Жюль Ренар, иди в жопу.
Мне было девятнадцать, когда я приехал покорять Москву. «Москва, встречай того, кем будешь!» – первое, что сказал, ступив на перрон Киевского вокзала, носом, насколько позволяли легкие, втянул бодрящий воздух, уловил запах столицы и сразу поехал на Ваганьковское кладбище. Через полчаса был на месте. Бродил по аллеям, рассматривал надгробия, искал знаменитые фамилии; таковые почти не встречались. У могилы Сергея Есенина стояли люди, человек пять. «Надо же! – не столько удивился, сколько обрадовался за посмертную судьбу поэта. – Всем бы так!» Какой-то старик в поношенном сером костюмчике – как сейчас понимаю, старику было лет пятьдесят, – читал неизданные стихи поэта; ходили упорные слухи, что запрещенных стихов на Руси немало. Две успевших пожить дамы – обеим за тридцать – после каждого стихотворения аплодировали. Стояла хмурая осень – желтые листья, серые тучи, вороны, каркающие со смыслом, – любимое время года лет с пятнадцати и где-то до двадцати семи. Сегодня мне все равно, зима ли, весна? лишь бы не осень. Есть в осени легкое чувство вины.
– Бог сел на нас черной жопой,
А мы его солнцем зовем.
Старик закончил читать очередное стихотворение, дамы зааплодировали. Мне стало обидно за Сергея Александровича. «Если это действительно его стихи, а не одна из многочисленных поделок какого-нибудь эпигона, тогда понятно, почему он покончил жизнь самоубийством, а если поделка самовлюбленного последователя, тогда понятно, кто именно сводил счеты с жизнью на могиле поэта», – подумал я, оставляя теплую компанию. Заморосил мелкий дождь. Прогуливаясь по кладбищу – что еще нужно для счастья? – жестом Алена Делона поднял воротник пальто и в такт шагам, негромко, нараспев принялся декламировать: «Черный человек, ты прескверный гость! Эта слава о тебе…» – вокруг было много чувства и смысла, – любая буква на камне… капля дождя на ветке… – но счастья не было. «Черная жопа» не шла из головы.
Прошло более тридцати лет, все эти годы рядом со мною книги, но я так и не удосужился проверить, его ли это стихи? Как будто мне все равно.
После кладбища надо было искать ночлег, и я поехал в Медведково. Меня там никто не ждал, но была одна дверь… Думаю, на пару ночей пустят, отчего не пустить? – размышлял в вагоне метро, разглядывая москвичей. Дело в том, что в прошлый приезд, полгода назад, я ходил в ЦДЛ на творческий вечер поэта Кайсына Кулиева. Мне было все равно на кого, просто в тот день был творческий вечер Кулиева. Сидя в Большом зале, до отказа утрамбованном национальными поэтами, я впервые увидел, что такое настоящий тамада. Ведущий вечера, такой же уважаемый всеми человек, как Кайсын Кулиев, такой же народный поэт то ли Дагестана, то ли Кабардино-Балкарии, стоя перед микрофоном на сцене говорил: «В страшные годы, в священные годы Великой Отечественной войны, в те годы, когда Кайсын с оружием в руках защищал любимую Родину, как защищают любимую женщину, как защищают сестру, как защищают мать, в него с расстояния пяти шагов выстрелил коварный немецкий солдат и целился прямо в голову. Но пуля оказалась умнее немецкого солдата, пославшего ее убивать, она понимала, какой великий человек стоит перед ней, и, подлетев к Кайсыну, обогнула голову!» – в этом месте, народный поэт Дагестана или Кабардино-Балкарии показал на себе, указательным пальцем руки демонстрируя немецкую пулю, как та, подлетает к голове, столкнувшись с невидимым препятствием, огибает ее, уходя направо, недолго движется по прямой и снова налево, возвращаясь на заданную траекторию; дальше ей некуда было лететь, рука тамады не позволяла.
«Так выпьем за пулю!» – подумал я, покидая зал.
В нижнем буфете пили за что угодно. Там пребывали избранные. Старые и молодые, талантливые и бездарные, бедные и богатые, маститые и непризнанные, – они посвятили себя литературе. Я знал пароль и без труда влился в коллектив.
– Пишешь?
– Пишу.
– Прочти.
– Память разыгралась метелью в голове:
Каждая снежинка – лицо.
Холодно мне.
Будто устал, прилег в пути,
И прибавился в поле сугроб. —
В девятнадцать лет поэта не надо упрашивать.
А он мне:
– Я смотрю на тебя сквозь крыло стрекозы,
Сквозь изломы на нем еле видимых линий.
Я смотрю на тебя, почерневший от ржи,
Я смотрю на тебя, перелет журавлиный…
А я ему в ответ… а он мне…
Так мы познакомились. Сначала кофе с эклером, потом водка с колбасой, и все время стихи.
Длинный, худой как жердь, с детскими корявыми татуировками на руках, полуслепой, откуда-то из-под Астрахани, лет на десять старше меня – впоследствии выяснилось, что мы одногодки, – он читал стихи непривычно высоко, во второй октаве, нелепо задирая голову, всем телом раскачиваясь в ритме слов.
Из Полтавы надо бежать, – это я сразу понял, на третьем стихотворении, – там у меня не было соперников, а тут первый встречный – хороший поэт. Жизнь!
Узнав, что мне негде спать – прошлую ночь я провел на Киевском вокзале, – Слава пригласил к себе. Жил он в общежитии для лимитчиков: никакой коридорной системы, обычный одиннадцатиэтажный многоподъездный панельный дом. Вход по пропускам. На первом этаже вахтерша; не зверь. «Брат приехал». – «На сколько?» – «На два дня». – «Смотрите! Водку не пить»!
В трехкомнатной квартире на последнем этаже ютились двенадцать человек, все, кроме Славки, – мордва. Простые славянские лица. Никогда б не подумал. Все, включая Славку, работали на стройке; подъем в шесть утра.
– Утром уходят, и до вечера никого. Тишина, хоть весь день пиши! – Стихотворец третий месяц не выходил на работу, но до сих пор числился в каком-то строительно-монтажном управлении каменщиком второго разряда. Зарплату, понятное дело, никто не платил, но из общаги не гнали. – Ночью кухня опять свободна, – расхваливал свой быт вольный каменщик, – хочешь – читай, хочешь – твори.
– Так ты, можно сказать, живешь один? Хороший повод сходить за водкой, как думаешь? – Денег у меня было с запасом, не то что на бутылку, на ящик водки хватит.
Хозяин гостеприимно улыбнулся:
– Мысль!
– Соседи будут? – деловито интересуюсь, чтобы сразу представлять размеры пьянки.
Водку мордовские ребята не пили.
По пути в магазин заглянули в соседний подъезд, там, на седьмом этаже, в квартире близнеце, с такими же бумажными обоями, только чуть позамызганнее, обитал Олег. В трудовой книжке поэта значилось «экспедитор». Вместе с экспедитором квартиру делили восемь человек. В двух комнатах размещались по четыре лимитчика, и только поэт, пятый год работающий на стройке, жил в комнате один. У него даже собственный замок на дверях имелся. Первое, что бросалось в глаза, как только переступал порог: большое количество технической литературы в жилище поэта, включая задачники по высшей математике.
– Это как-то связано с работой экспедитора? – Мой вопрос всех рассмешил.
Я и сам сомневался, что экспедитору вменяется в обязанность решать задачи по высшей математике: какие на стройке научно-исследовательские эксперименты, кто будет их там проводить? Но чтобы за таким названием – экспедитор! – скрывался обычный курьер? А книги («Дифференциальное и интегральное исчисление», «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры») просто жалко было выбрасывать: Олег два года отучился на заочном отделении в Бауманке. С утра недоучивший студент собирался на работу, о чем сразу и предупредил: «Ребята, я с вами ненадолго».
На кухне у Славки мы просидели до утра. Олег утверждал: «Драма мертва, наступает время трагедии. Только через трагедию в стихах можно отобразить современный мир», – рисовал какие-то графики. Я настаивал на верлибре. Слава не спорил, все больше читал стихи: силлаботонику, блин! Ночь за окном сияла в лучах нашей будущей грозной славы. Строители спали; народ оказался привычный. Они еще не знали, что мы, за разговорами сожгли их чайник. У Славки собственного чайника не было.
Вернувшись в Полтаву, чтобы ее бросить, дождавшись летней сессии и с легким сердцем завалив ее, я пошел в деканат забирать документы. С учебой у нерадивого первокурсника и до этого не складывались отношения. После неудачной зимней сессии – три хвоста, весь второй семестр меня грозились отчислить из пединститута, я даже переживал. Несмотря на старославянский, на малый и большой юсы, на филфаке было неплохо, совсем неплохо, даже хорошо. Столько прекрасного женского пола, почти не разбавленного мужским! Но где-то там, в стороне находилась Москва, красивое женское имя. И когда после летней сессии я пришел забирать документы, сомнений не было – в Москву! Документы мне не отдали, предложили подумать, не совершать опрометчивых поступков: «Вам уже девятнадцать! – уговаривали остаться. – Хвосты в сентябре досдадите». Родители в те годы работали на Крайнем Севере, и я им ничего о своих планах не сообщил. После этой истории отец с матерью перестали мне доверять. Столько лет прошло, а они все ждут от сына подвоха.
В августе мы всей семьей отдыхали в Крыму. Хамелеон (гора, постоянно меняющая свой цвет), могила Волошина на горе, нудистский пляж, который я исходил вдоль и поперек, не снимая плавок, как рыцарь в железных доспехах; «паперть» – пятьдесят метров набережной возле Дома творчества советских писателей, где вечерами совершали променад отдыхающие; какой-то малоталантливый гражданин, читающий на «паперти» свои стихи. И всюду солнце, всюду море. Счастливый Коктебель!
Вернувшись в Полтаву, родители, уверенные, что все у меня хорошо: «Только не женись!» – спокойно отправились зарабатывать деньги на Север, а любимое чадо, проявив твердость, забрало документы и поехало покорять столицу…
Пока я добирался до общежития, стало темно. Заготовив историю про старшего брата, вошел в подъезд. Вахтерша куда-то отлучилась, и я прошмыгнул в лифт. «Если Славки нет, все равно кто-то есть, мордва с работы вернулась, – думал, поднимаясь в лифте. – На кухне подожду. Надо будет им новый чайник купить».
Дверь открыл Олег:
– Ты ко мне?
– О! Какие люди! – То, что рядом живет Олег, совершенно выпало из головы, ни секунды о нем не помнил. Я обрадовался такому сюрпризу, но врать не стал:
– Вообще-то, к Славке.
– Славка жил в соседнем подъезде. – Поэт смотрел на меня сверху вниз, был он на полголовы выше, широк в плечах, голову держал прямо, но во взгляде сквозила непонятная растерянность, почти обреченность. Своей фигурой он загораживал весь проход.
– Что значит «жил»?
– Ты к нему приехал?
Я кивнул.
– Заходи, – словно с чем-то смирившись, посторонился Олег.
И я зашел.
Странно устроен мир, совсем не так, как рисует обыденное сознание. Нет в нем будничной тягомотины. Иногда мир приоткрывает завесу, показывая свой механизм, точнее, одну из деталей механизма, по которой человек с воображением легко дорисовывает целое. К сожалению, многие сразу бросаются дорисовывать друидов, единорогов, вампиров и прочих инопланетян с планеты Сириус.
А теперь по существу опишем деталь. От Медведково до общаги минут двадцать – двадцать пять на наземном транспорте. Я был уверен, что хорошо помню номер автобуса, и ошибся номером. В сумерках вышел на остановку раньше, на параллельной улице, и, не заметив этого, почти не смотря по сторонам, быстро зашагал вперед, подойдя к дому, перепутал подъезды, войдя в лифт, нажал не на тот этаж, позвонил в дверь, ожидая увидеть Славку или кого из мордвы, и вместо них увидел Олега. Все бы ничего, мало ли, как петляют дороги, куда выводят наивного путника, в конце концов? Но не меня! Двигаясь к определенной цели, я никогда не ошибаюсь, не путаю подъезды, знаю, на какой остановке мне выходить, где находится восток, где запад. Я настолько в себе уверен, что какое-то время, пока заваривался чай, все ждал появления Славки, думая, что меня разыграли, и мы от души посмеемся, почитаем новые тексты, поговорим о будущем мира, разукрашенном яркими флагами наших стихов, а потом Олег отправится спать в соседний подъезд, а я заночую здесь. Но сам оказался в соседнем подъезде.
«А не ошибись этажом, – спрашиваю себя, – не ошибись в тот вечер подъездом, остановкой, номером автобуса, позвони в Славкину дверь и узнай от мордвы, что Славки нет? У меня и в мыслях не возникло бы искать Олега, я вспомнил о нем, когда он дверь открыл».
– Выслали Славку, – сказал Олег, разливая крепкий грузинский чай, заваренный в пол-литровой банке с огурцами на этикетке. Двумя пальцами ухватив стеклянную посудину за горлышко, как ухватом дымящийся горшок, он резко наклонил банку над граненым стаканом, мгновенно заполнил его до краев, не пролив ни капли, и тут же, делая в воздухе небольшую дугу, вернул банку на стол. Подул на пальцы, подержался за мочку уха; потом повторил фокус. Чайник у него имелся, медный, блестящий, но заварочный чайничек отсутствовал, за ненадобностью.
Чуднó меня принимает столица, – я смотрел на Олега, тот снова держался за мочку уха. Пока он кипятил воду, обдавал банку кипятком, намывал стаканы, неторопливо готовясь к ночным посиделкам, к обстоятельному рассказу – я раз пять прокрутил все возможные варианты отсутствия Славки. Если б услышал «убили», не удивился бы. Женился, в Литинсти-тут поступил, удавился – не удивился. Но здесь другой лексикон. Он же не Солженицын? Ему – как и мне – плевать.
– За что?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































