Читать книгу "Фрекен Жюли"
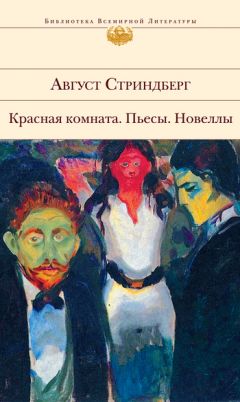
Автор книги: Август Стриндберг
Жанр: Зарубежная драматургия, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Г-н X. Но если стоять в стороне и не вмешиваться, то можно избежать опасности.
Луиза. Избежать?
Г-н X. Да, все в жизни улаживается гораздо лучше, если не вмешиваться. Никто не может требовать, чтобы я принимал участие в деле, в котором задето столько человеческих страстей. Я не в силах успокоить эти страсти и не могу направить их по другому пути.
Луиза. А как же ребенок?
Г-н X. Я уже давно отказался от многого… и по правде сказать, это уже не так волнует меня с тех пор, как она побывала здесь и испортила все мои воспоминания, Эти воспоминания были так хороши, и я хранил их так бережно, а теперь у меня больше ничего не осталось…
Луиза. Значит, вы свободны теперь!
Г-н X. Если бы ты знала, какая пустота кругом, – как в квартире, покинутой жильцами. А там наверху все имеет такой вид, как после пожара…
Луиза. Кто-то идет…
Агнес входит в большом волнении, у нее испуганный вид. Старается овладеть собой. Идет к двери, ведущей во двор, у которой сидит Кондитер.
Луиза (г-ну X.). Это Агнес! Странно! Что же это значит?
Г-н X. Агнес? Ну значит дело пошло на лад.
Кондитер (спокойно). Добрый вечер, дитя мое! Где ты была так долго?
Агнес. Я ходила гулять.
Кондитер. Мать уже несколько раз спрашивала о тебе.
Агнес. Я сейчас пойду к ней.
Кондитер. Хорошо. Пойди вниз и помоги ей растопить маленькую печь.
Агнес. А что, она очень сердилась на меня?
Кондитер. Ты же знаешь, что она не может на тебя сердиться.
Агнес. Нет, она сердится, только не говорит об этом.
Кондитер. Ты, дитя мое, должна радоваться, что тебя не бранят…
Агнес уходит вниз.
Г-н X. (Луизе). Как ты думаешь, он знает или не знает?
Луиза. Как было бы хорошо, если бы он ничего не знал!..
Г-н X. Я не могу понять, что там могло произойти. Почему их побег не состоялся? (Кондитеру.) Послушайте! Господин Старк!
Кондитер. Что такое?
Г-н X. Мне казалось… Вы не видали, никто не выходил из нашего дома, пока вы тут сидели?
Кондитер. Нет. Привозили лед, потом приходил почтальон… Кажется, больше никого не было…
Г-н X. (Луизе). Может быть, тут была какая-нибудь ошибка… Возможно, что перепутали что-нибудь… Я ничего не понимаю… Может быть, она обманула! Что тебе сказала фру Герда по телефону?
Луиза. Она хотела поговорить с вами.
Г-н X. Какой у нее был голос? Она была очень расстроена?
Луиза. Да!
Г-н X. По-моему, с ее стороны по меньшей мере бесстыдно обращаться ко мне в подобном случае…
Луиза. А ребенок!
Г-н X. Я встретил свою дочь на лестнице! Я ее спросил, узнает ли она меня. А она назвала меня дядей и сообщила мне, что ее папа наверху у себя… Он ее вотчим, но у него все права на нее… Меня они вычеркнули из своей жизни… они очернили меня…
Луиза. Слышите? Подъехал извозчик!
Кондитер уходит к себе.
Г-н X. Лишь бы она только не возвращалась сюда! С меня довольно ее присутствия! Я больше не могу слышать, как моя дочь будет хвалить этого чужого человека… А потом… эти бесконечные вопросы: «Зачем ты тогда женился на мне?» – «Ты это знаешь. А зачем ты увлекала меня?» – «Ты это знаешь». И так все одно и то же, до бесконечности!
Луиза. Это консул! Он сюда идет.
Г-н X. Какой у него вид?
Луиза. Он не торопится сюда прийти…
Г-н X. Это он обдумывает, что сказать мне… Какое у него выражение лица? Довольное?
Луиза. Нет, по-моему, скорее задумчивое…
Г-н X. Вот, вот… Так было всегда… Стоило ему побыть с этой женщиной, и он становился неискренним со мной… Она умела очаровать всех… кроме меня! Со мной она была резкой, грубой, неряшливой, глупой… для других она была милой, чуткой, красивой, образованной! Она собирала всю ту ненависть, которую возбуждала в окружающих моя самостоятельность, и превращала ее в сочувствие к себе, и этим всеобщим сочувствием она пользовалась как оружием против меня… Все они старались через нее овладеть мной, подчинить меня, унизить и, когда это им не удавалось, уничтожить меня!
Луиза. Теперь я пойду в комнаты и послушаю телефон. Я уверена, что все теперь кончится благополучно…
Г-н X. Люди не выносят ничьей самостоятельности!.. Они непременно хотят, чтобы им повиновались. Все мои подчиненные, до курьера включительно, во что бы то ни стало хотели, чтобы я повиновался им. А когда они увидели, что я этого не желаю, они назвали меня деспотом! Прислуга в доме желала, чтобы я ей подчинился и хотела меня заставить есть разогретый обед! Когда я не захотел этого терпеть, они пожаловались на меня барыне. А жена, та даже хотела, чтобы я повиновался своему собственному ребенку! Но так как я не желал им всем подчиняться, то они стали проклинать меня, говоря, что я тиран – только потому, что я шел в жизни собственной дорогой. Иди скорее в дом, Луиза! Мы тогда без тебя сможем тут разрядить мину…
Брат входит с левой стороны.
Г-н X. Какой результат? Подробностей мне не надо!
Брат. Позволь мне сначала сесть. Я немного устал…
Г-н X. Скамейка вся мокрая от дождя…
Брат. Раз ты на ней сидишь, можно, вероятно, сесть и мне. Это не так уж опасно…
Г-н X. Как знаешь! Где мой ребенок?
Брат. Позволь мне все рассказать тебе по порядку?
Г-н X. Рассказывай!
Брат (не спеша). Итак, мы с Гердой приехали на вокзал и застали его с Агнес у билетной кассы…
Г-н X. Так, значит, Агнес действительно была с ним?
Брат. Да. И твой ребенок был тоже с ними. Герда осталась на перроне, а я подошел к ним ближе. В эту минуту он передавал Агнес билеты. Когда она увидала, что он купил билеты третьего класса, то швырнула их ему в лицо, выбежала на улицу, села на извозчика и уехала!
Г-н X. Фу!..
Брат. После этого я подошел к нему и попросил у него объяснения, а Герда в это время схватила ребенка и исчезла с ним в толпе…
Г-н X. Что же он тебе сказал?
Брат. Видишь ли, если послушать другую сторону, то, пожалуй…
Г-н X. Постой! Я хочу знать правду! Он оказался совсем не таким плохим, как мы его считали? Оказалось, что и у него были свои основания…
Брат. Вот именно!
Г-н X. Я так и знал! Но ты, конечно, не подумаешь заставить меня выслушивать хвалебные речи по адресу моего врага…
Брат. Не хвалебные речи, а только смягчающие вину обстоятельства…
Г-н X. Разве ты выслушал меня тогда хоть один раз, хотя я и умолял тебя дать мне объяснить тебе, как обстояли дела… Ты только молчал в ответ или выслушивал меня с таким выражением лица, будто бы знал заранее, что все, что бы я ни сказал тебе, будет ложью. Ты тогда все время был на стороне лжи, и ты верил только лжи, потому что ты сам был влюблен в Герду. Впрочем, у тебя была еще и другая причина…
Брат. Довольно, не говори больше ничего! Ты на все это смотришь только с своей точки зрения!
Г-н X. Не могу же я смотреть на свое собственное дело с точки зрения моего врага. Понятно, я не могу поднять на себя руку!
Брат. Я тебе не враг.
Г-н X. Тем не менее ты был с теми, которые причинили мне зло. Где мой ребенок?
Брат. Этого я не знаю.
Г-н X. Чем же все это кончилось?
Брат. Фишер уехал один на юг.
Г-н X. А те две?
Брат. Они исчезли.
Г-н X. В таком случае они, пожалуй, опять сюда вернутся! (Пауза.) Ты наверно знаешь, что они не уехали с ним?
Брат. Я видел, что он уехал один.
Г-н X. Ну слава богу мы хоть от этого господина отделались. Теперь – второй вопрос: как быть с матерью и ребенком?
Брат. Почему свет в верхней квартире?
Г-н X. Они просто забыли потушить лампы.
Брат. Надо пойти и потушить.
Г-н X. Нет, не ходи туда! Я желаю только одного – чтобы они больше не возвращались сюда! Это было бы ужасно, пришлось бы опять все начинать сначала, как школьнику…
Брат. Ничего. Половина беды уже улажена…
Г-н X. Но самое скверное еще впереди! Как ты думаешь, могут они вернуться?
Брат. Во всяком случае, я не думаю, чтобы она вернулась сюда, после того как ей пришлось извиняться перед тобой в присутствии Луизы.
Г-н X. Да, я совсем забыл об этом. Она даже оказала мне честь своею ревностью. После этого и я начинаю верить, что на этом свете есть еще справедливость.
Брат. Ей было очень тяжело узнать, что Агнес моложе ее.
Г-н X. Бедная Герда! Но в таких случаях жизни нельзя говорить людям о том, что существует на свете справедливость, карающая справедливость… потому что люди не любят справедливости, это чистейшая ложь, будто они ее любят. И их собственную грязь нельзя называть ее настоящим именем! Немезида – она для других. (Пауза). Слышишь, звонит телефон! Этот звон напоминает мне гремучую змею.
Видно, как в зале Луиза подходит к телефону.
Пауза.
Г-н X. Ну что? Змея ужалила?
Луиза (у окна). Можно вам сказать два слова?
Г-н X. (идет к окну). Хорошо.
Луиза. Фру Герда с ребенком уехала в имение к своей матери в горы и хочет там поселиться.
Г-н X. (брату). И мать, и ребенок в деревне, в хорошем, тихом доме! Ну, теперь все устроилось!
Луиза. Фру Герда просила меня пойти в верхнюю квартиру и потушить лампы.
Г-н X. Да, да! Сделай это поскорее, Луиза, и опусти там все шторы, чтобы мы больше ничего не видели.
Луиза отходит от окна.
Кондитер (стоит на пороге своей двери и смотрит наверх). Кажется, что гроза миновала.
Г-н X. Да, в самом деле, будто бы прояснилось. Сейчас должна взойти луна.
Брат. А славный был дождик!
Кондитер. Великолепный дождик!
Г-н X. Вот наконец и фонарщик! (Фонарщик зажигает фонарь.) Первый фонарь! Осень настала! Ну, старики, это наше стариковское время года! Начинаются сумерки, но приходит рассудок и освещает дорогу, чтобы мы не сбились с пути.
Луиза проходит через верхнюю квартиру и тушит огонь.
Г-н X. Закрой окно и спусти шторы, тогда только смогут успокоиться воспоминания… Покой старости!.. А осенью я перееду из этого тихого дома!
ЗАНАВЕС
Кредиторы
Трагикомедия
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Текла.
Адольф, ее муж, художник.
Густав, ее разведенный муж. Путешествует инкогнито.
Зал в морском курорте. Дверь на террасу в задней стене с видом на окрестности. Направо – стол с газетами; налево от стола кресло, направо – качалка. С правой же стороны дверь в соседнюю комнату. Адольф и Густав у стола, направо.
Адольф (лепит на небольшой скульптурной скамеечке фигуру из воска; возле него стоят два его костыля). И всем этим я обязан тебе!
Густав (курит сигару). Ах, полно!
Адольф. Безусловно! Первые дни после отъезда жены, совершенно разбитый, я лежал на диване и только тосковал! Точно она захватила с собой мои костыли, и я не мог сдвинуться с места. Потом я проспал несколько дней, ожил и начал приходить в себя; моя голова, работавшая в лихорадке, стала успокаиваться, вернулись мои старые мысли, мною снова овладели желание работать и творческий порыв, появились прежняя острота и меткость взгляда – а там явился ты!
Густав. Правда, когда я увидал тебя, ты был жалок, ходил на костылях, но это еще не значит, что причиной твоего выздоровления было мое присутствие. Тебе просто нужен был отдых и мужское общество.
Адольф. Совершенно верно, как и все, что ты говоришь; раньше я дружил с мужчинами, но после женитьбы я считал их лишними и чувствовал себя вполне удовлетворенным около единственной подруги, которую сам выбрал. Потом я вошел в новые круги, завел много знакомых, но моя жена начала ревновать меня к ним – она хотела, чтобы я принадлежал ей одной и, что хуже, чтобы и мои друзья принадлежали ей одной – и вот я остался один со своей ревностью.
Густав. Значит, ты предрасположен к этой болезни!
Адольф. Я боялся потерять ее – и старался предупредить это. Чему же тут удивляться? Но я никогда не боялся, что она мне изменит.
Густав. Нет, настоящий мужчина никогда не боится этого!
Адольф. Ну разве это не удивительно? Я боялся только одного: чтобы мои друзья не приобрели влияния на нее и косвенным образом и на меня – а этого я не мог бы вынести.
Густав. Значит у вас были разные взгляды – у тебя и твоей жены!
Адольф. Раз ты уже столько знаешь, то я тебе скажу все. У моей жены оригинальный характер. Чему ты смеешься?
Густав. Продолжай! У твоей жены был оригинальный характер.
Адольф. Она ничего не хотела заимствовать у меня…
Густав. Но… заимствовала направо и налево.
Адольф (после минутного размышления). Да! И я чувствовал, что она особенно ненавидела мои взгляды не потому, чтобы они казались ей неверными, а только потому, что они были мои, так как довольно часто случалось, что она сама высказывала мои прежние мнения и защищала их, как свои; да, могло случиться, что один из моих друзей внушил ей мои взгляды, заимствованные у меня же, и тогда они нравились ей. Ей нравилось все, лишь бы это исходило не от меня.
Густав. Другими словами, ты не вполне счастлив?
Адольф. Нет… я счастлив! У меня жена, о какой я мечтал, и другой я никогда и не хотел…
Густав. И ты никогда не хотел быть свободным?
Адольф. Нет, этого нельзя сказать. Конечно, иногда я думал о том, как бы спокойно мне жилось, если бы я был свободен – но стоило ей только оставить меня, и я тосковал по ней – тосковал по ней, как по своему телу и душе! Это странно, но по временам мне кажется, что она не отдельная личность, а часть меня самого; внутренний орган, который захватил мою волю и мою способность наслаждаться жизнью; что я перенес в нее тот самый жизненный узел, о котором говорит анатомия!
Густав. Возможно, что и так, раз все пошло кругом!
Адольф. Что же это? Такая независимая натура, как ее, с таким изобилием собственных идей; а когда я встретил ее, я был ничто, юнец – художник, которого она воспитала!
Густав. Но ведь потом ты развивал ее мысли и воспитывал ее… Не так ли?
Адольф. Нет! Она остановилась в своем росте, а я быстро продолжал расти!
Густав. Да, довольно характерно, что ее талант пошел на убыль с напечатанием ее первой книги, или по крайней мере дальше не развивался!.. Но на этот раз у нее была благодарная тема – ведь она, поди, писала с первого мужа – ты не знавал его? Он, должно быть, был редкий идиот!
Адольф. Я никогда его не видал! Он уехал через шесть месяцев; но, судя по его портрету, это был премированный идиот. (Молчание.) А уж в сходстве портрета можешь быть уверен!
Густав. О, вполне уверен! Но зачем ей было выходить за него?
Адольф. Она же его не знала; узнают друг друга только со временем.
Густав. Тогда не следовало выходить замуж раньше времени! И наверно, он был деспот!
Адольф. Наверно?
Густав. Все мужья – деспоты. С намерением. И ты не меньше других!
Адольф. Я? Я предоставил жене уходить и выходить, когда ей угодно…
Густав. Какая заслуга!.. Не держать же ее тебе взаперти! И тебе приятно, что она ночует не дома?
Адольф. Разумеется, неприятно!
Густав. Вот видишь! (Задирающим тоном.) По правде сказать, ты просто смешон в этом!
Адольф. Смешон? Неужели смешно верить своей жене?
Густав. Разумеется. И ты уже смешон! Положительно!
Адольф (судорожно). Я!.. Это уже последнее дело! С этой ролью я бы никогда не примирился!
Густав. Не горячись! А то опять припадок будет!
Адольф. Но почему же тогда она не смешна, если я не ночую дома?
Густав. Почему? К тебе это не относится, но это так, и пока ты тут рассуждаешь, почему, несчастье уже совершилось.
Адольф. Какое несчастье?
Густав. На самом-то деле… Муж ее был деспот, а она выходила за него, чтобы стать свободной; ведь девушка у нас получает свободу, только раздобыв себе ширму, так называемого мужа.
Адольф. Ну конечно!
Густав. И ты – такая ширма.
Адольф. Я?
Густав. Раз ты – ее муж!
Адольф задумывается.
Густав. Разве я не прав?
Адольф (беспокойно). Не знаю! В продолжение целого ряда лет живешь с женщиной и ни разу не задумываешься о ней, об ее отношениях, потом вдруг… начинаешь думать – и тогда – пошло!.. Густав, ты мой друг! Ты – мой единственный друг! В эти восемь дней ты вернул мне мужество жить; точно ты передал мне твою энергию; ты был моим часовщиком, который вставил механизм в мою голову и завел пружину. Разве ты не замечаешь, что я яснее думаю, связнее выражаюсь, и во всяком случае мне даже кажется, что мой голос снова стал звучное!
Густав. Да, и мне кажется. Как это случилось?
Адольф. Не знаю. Может быть, с женщинами привыкаешь говорить тише, по крайней мере Текла всегда бранила меня, будто я кричал!
Густав. Так что ты понизил тон и полез под башмак!
Адольф. Не говори так. (Подумав.) Хуже! Не будем теперь говорить об этом… На чем я остановился? Ах, да, ты приехал сюда и открыл мне глаза на тайны моего искусства. Я сам уже давно чувствовал, как уменьшается моя любовь к живописи, потому что она не давала мне достаточного материала для выражения того, что я хотел; но когда ты открыл мне причины этого явления и объяснил, почему живопись не может служить современной формой для художественного порыва, то мне стало ясно, и я понял, что впредь мне немыслимо творить при помощи красок.
Густав. Твердо ли ты уверен, что ты не можешь больше писать и уж никогда не возьмешься за кисть?
Адольф. Вполне! Я пытался уже! Когда вечером, после нашего разговора я улегся в постель, то подробно, слово за словом припомнил твои рассуждения и убедился в их справедливости. Когда же я проснулся, проспав всю ночь, с ясной головой меня, как молния, поразила мысль, что ты мог ошибиться; и я вскочил с постели, взял палитру и кисть и принялся писать. Но все было кончено! Я больше не обманывался на этот счет; получалась одна мазня. Я пришел в ужас от мысли, что я мог когда-то верить и заставлял других верить, будто кусок выкрашенного полотна был не только куском выкрашенного полотна. Пелена спала с моих глаз, и мне было так же невозможно снова писать, как снова стать ребенком!
Густав. И ты убедился в том, что осязательное стремление нашего времени, его взгляды на действительность и очевидность, могут найти свою форму только в скульптуре, образующей тело – протяжение в трех измерениях…
Адольф (соображая). В трех измерениях… Да, одним словом, тело!
Густав. И вот ты стал скульптором; вернее, ты был им, но ты шел ложным путем и нужен был только указатель, чтобы поставить тебя на правильный путь… Скажи мне, ты ощущаешь теперь великую радость, когда работаешь?
Адольф. Теперь я живу!
Густав. Можно взглянуть на твою работу?
Адольф. Фигура женщины.
Густав. Без модели?.. И такая живая!
Адольф (мрачным голосом). Да, но она похожа на одну женщину! Поразительно, что она живет во мне, как и я в ней.
Густав. Последнее не удивительно – ты знаешь, что такое трансфузия?
Адольф. Трансфузия крови? Да.
Густав. И ты находишь, что потерял слишком много крови; но, смотря на эту фигуру, я понимаю и то и другое, о чем я раньше только догадывался. Ты безумно любил ее?..
Адольф. Да, так любил, что я не мог бы сказать, она ли – я, или же я – она. Когда она улыбается, улыбаюсь и я, она плачет – и я плачу. И когда она – можешь ли ты поверить – рожала нашего ребенка, я ощущал те же боли, что и она!
Густав. Знаешь, дорогой мой! Мне тяжело говорить тебе это, но у тебя уже первые признаки эпилепсии!
Адольф (взволнованно). У меня? Почему ты думаешь?
Густав. Потому что я имел случай наблюдать болезнь у одного из моих младших братьев, который злоупотреблял женщинами…
Адольф. Но в чем же, в чем же это выражалось?..
Густав рассказывает ему что-то на ухо с очень ясными, живописными и объясняющими жестами. Адольф слушает его очень внимательно и невольно повторяет все жесты.
Густав (громко). Это было ужасно… И если ты знаешь свою слабость, то я не стану терзать тебя описанием.
Адольф (в страхе). Продолжай, продолжай!
Густав. Изволь! Юноше привелось жениться на молоденькой, совершенно невинной кудрявой девушке со взглядом голубки, с детским лицом и чистой ангельской душой. Но тем не менее ей удалось присвоить прерогативы мужчины.
Адольф. Какие?
Густав. Инициативу, конечно… И с таким успехом, что ангел чуть было не вознес его на небо. Но раньше ему пришлось испытать крестную муку и горесть терний. Это было ужасно.
Адольф (задыхаясь). Как же это произошло?
Густав (медленно). Мы спокойно сидели с ним и болтали. И только что я начал говорить, как его лицо стало бледнее полотна. Руки и ноги вытянулись, большие пальцы искривились и прижались к ладоням… Вот так! Адольф воспроизводит жест. Глаза его налились кровью, и он прикусил язык… Вот так… та же игра Адольфа, слюна хрипела у него в горле, грудная клетка вздрагивала и перекручивалась, как будто ее вертели на токарном станке; зрачки вспыхнули, как газовое пламя, пена стекала с языка, и он скользил – медленно – вниз – назад – в кресло, точно утопал! Потом…
Адольф (тяжело дыша). Довольно!
Густав. Потом… Тебе дурно?
Адольф. Да!
Густав (поднимается за стаканом воды). Выпей, и поговорим о чем-нибудь другом.
Адольф (беспомощно). Благодарю!.. Нет, продолжай!
Густав. Да. Проснувшись, он ничего не помнил; он просто-напросто был без сознания! С тобой это бывало?
Адольф. У меня бывают иногда головокружения, но доктор говорит, что это от малокровия.
Густав. Да, видишь ли, так-то всегда и начинается! Но уверяю, это кончится падучей, если ты не будешь остерегаться!
Адольф. Что же мне делать?
Густав. Прежде всего соблюдать полное воздержание!
Адольф. И долго?
Густав. По меньшей мере, полгода.
Адольф. Немыслимо! Это совершенно нарушит нашу совместную жизнь!
Густав. Тогда – поминай как звали!
Адольф (закрывая тряпкой восковую фигуру). Не могу!
Густав. Не можешь спасти свою жизнь? Но раз ты был так откровенен со мной, то скажи, нет ли у тебя еще какой-нибудь раны, тайны, которая вечно гложет тебя, потому что странно находить только один повод к раздору, когда жизнь так сложна и так богата возможностями недоразумения. Нет ли у тебя трупа в том грузе, который ты скрываешь от самого себя! Например, ты как-то говорил, что у вас был ребенок, которого вы отдали на сторону. Отчего вы не держите его дома?
Адольф. Моя жена хотела этого!
Густав. Почему же? Скажи!
Адольф. Потому что к трем годам ребенок стал поразительно походить на него, на первого мужа!
Густав. Ну! А ты видел первого мужа?
Адольф. Нет, никогда! Раз только мельком я взглянул на скверный портрет и не нашел никакого сходства.
Густав. Ну портреты всегда непохожи. Да и кроме того с течением времени его наружность могла измениться! И у тебя не возникло никаких подозрений?
Адольф. Ровно никаких! Ребенок родился спустя год после нашей свадьбы, а муж путешествовал, когда я познакомился с Теклой – в этом самом курорте, и даже в этой гостинице. Поэтому-то мы и бываем здесь каждое лето.
Густав. Значит, у тебя нет никаких подозрений. Да они и неуместны, потому что дети вторично вышедшей замуж вдовы часто бывают похожи на покойного мужа! Конечно, это более чем неприятно, и во избежание этого индусы сжигают вдов, как тебе известно! Ну скажи! Ты никогда не ревновал твою жену к первому мужу, к его памяти? Разве не ужасно было бы встретиться с ним – на улице что ли, поймать его взгляд, брошенный на Теклу, и ясно прочитать в нем: Мы вместо я? – Мы?
Адольф. Сознаюсь, эта мысль часто преследовала меня!
Густав. Ну, вот видишь! И от этого тебе никогда не освободиться! Бывают узлы в жизни, которых никогда не развяжешь! Поэтому тебе не останется ничего, как наглухо заткнуть себе уши и работать! Работать, стареть и накоплять побольше новых впечатлений на палубе, а труп не шевельнется.
Адольф. Прости, что я тебя перебью! То странно, что минутами ты своей манерой говорить напоминаешь мне Теклу! У тебя привычка щурить правый глаз, точно ты стреляешь, и твои взгляды порою имеют надо мной такую же силу, как и ее.
Густав. Да ну?!
Адольф. Да вот сейчас ты сказал: «Да ну?» точно таким же равнодушным тоном, как и она. У нее та же привычка очень часто говорить: «Да ну?»
Густав. Может быть, мы дальние родственники, раз все люди состоят в родстве! Во всяком случае это любопытно, и мне будет очень интересно познакомиться с твоей супругой и самому убедиться в этом!
Адольф. Но представь себе, что она никогда не употребляет ни одного моего выражения, она скорее избегает моего словаря, и я никогда не замечал, чтобы она подражала моим жестам. Обыкновенно же супруги похожи друг на друга как две капли воды.
Густав. Да! Знаешь что? Эта женщина никогда не любила тебя!
Адольф. Что ты говорить?
Густав. Прости меня, но женская любовь состоит в том, чтобы брать, получать, и если она ничего не берет, то и не любит! Она никогда не любила тебя!
Адольф. Другими словами, ты думаешь, что можно любить только раз?
Густав. Нет! Но одурачить себя человек позволяет только один раз; потом же у него открываются глаза! Ты еще не был одурачен? И должен остерегаться людей, которые уже испытали это! Они народ опасный!
Адольф. Твои слова врезаются ножом, и я чувствую, как во мне что-то разрывается на части, но я не могу этому помешать; и все-таки мне становится легче, потому что здесь вскрываются нарывы, которые никогда не назрели бы сами! Она никогда меня не любила! Зачем же тогда она выбрала меня?
Густав. Скажи мне сначала, как она решилась выбрать тебя, и ты ли выбирал ее или она тебя?
Адольф. А господь его знает! Как это вышло? Конечно, не в один день!
Густав. Хочешь, я попробую разгадать, как это случилось?
Адольф. Напрасный труд!
Густав. Нет, по тем сведениям, которые ты дал мне о себе и о своей жене, я могу восстановить весь ход события. Вот слушай. (Бесстрастно, почти шутя.) Муж был в отъезде. Она же осталась одна. Сначала ей было приятно чувствовать себя свободной; потом наступила пустота, так как я предполагаю, что, прожив одна четырнадцать дней, она тяготилась одиночеством. Но вот появляется «другой», и пустое пространство мало-помалу заполняется. Благодаря сравнению отсутствующий начинает блекнуть, по той простой причине, что он – далеко. Ты же знаешь, обратно пропорционально квадрату расстояния. Потом они чувствуют пробуждение страсти, они начинают бояться за самих себя, за свою совесть и за «него»… Они ищут защиты и прячутся за фиговым листом, играют в «братца и сестрицу». И чем чувственнее становится их любовь, тем больше они одухотворяют ее.
Адольф. «Игра в братца и сестрицу»! Откуда ты это знаешь?
Густав. Догадывался! Детьми мы играем в папашу и мамашу, а когда вырастаем – в братьев и сестер, чтобы скрыть то, что следует скрывать! Затем наши влюбленные дают обет целомудрия. Идет бесконечная игра в прятки, пока, наконец, они не сталкиваются в каком-нибудь достаточно темном углу, убежденные, что там их никто не увидит. С притворной суровостью. Но они чувствуют, что кто-то и в этой темноте следит за ними, страх их охватывает, и в страхе возникает призрак отсутствующего – становится действительностью, меняется и переходит в кошмар, нарушающий их сон, превращается в кредитора, стучащего в двери, и они видят его черную руку между своими за обедом, и слышат его жуткий голос в ночной тишине, которая должна нарушаться одним лишь бурным пульсом. Он не может запретить им принадлежать друг другу, но он смущает их счастье. Открыв эту силу, омрачающую их счастье, они бегут наконец, но напрасно, бегут от воспоминаний, которые преследуют их, от долга, уплаты которого требует кредитор, и от людского суда, который их страшит. И не в силах взять на себя вину, они во что бы то ни стало ищут козла отпущения и убивают его. Они считали себя умами, свободными от предрассудков, а вместе с тем у них не хватало духу сказать мужу прямо в лицо: «Мы любим друг друга!» В них было слишком много трусости, и им пришлось убить своего тирана. Не так ли?
Адольф. Да, но ты забываешь, что она воспитала меня, дала мне новые мысли.
Густав. Нет, я этого не забываю. Но объясни тогда, почему же она не сумела воспитать того… другого и создать из него свободный ум?
Адольф. Он же был совершенный идиот!
Густав. Да, да… правда, он был идиот! Но «идиот» понятие неопределенное. И судя по характеристике, которую дает ему его жена в своем романе, его идиотизм исчерпывается исключительно его неспособностью понять свою жену. Прости… Но… действительно ли у твоей жены такой уж глубокий ум? В ее произведениях я не нашел никакой глубины!
Адольф. Да, и я тоже! Хотя должен сознаться, что и я с трудом понимаю ее. Точно механизмы наших мозгов не могут войти в соприкосновение и точно в голове у меня что-то испортилось, когда я стараюсь понять ее!
Густав. Может быть, и ты тоже… идиот?!
Адольф. Смею думать, что нет! И мне почти всегда кажется, что она не права. Не угодно ли, например, прочесть вот это письмо, которое я получил сегодня. (Вынимает из бумажника письмо.)
Густав (пробегая письмо). Гм!.. Узнаю этот стиль!
Адольф. Почти мужской! Не правда ли?
Густав. Да. Я видал человека с таким же стилем! Она величает тебя братом! Вы продолжаете эту комедию даже друг перед другом? Фиговый лист все еще существует, хотя и увядший! И ты с ней не на «ты»?
Адольф. Нет. Ради большего уважения.
Густав. Ага! И сестрой она себя зовет тоже, конечно, чтобы внушить тебе больше уважения к себе!
Адольф. Я сам хочу ставить ее выше себя, хочу, чтобы она была как бы моим лучшим я!
Густав. Ах! Будь лучше сам своим лучшим «Я». Может быть, это менее удобно, чем предоставлять это другому! Неужели ты хочешь быть ниже твоей жены?
Адольф. Да, хочу! Мне приятно чувствовать, что она всегда несколько выше меня. Ну вот тебе пример: я выучил ее плавать. И мне теперь забавно, что она хвастает, будто она плавает лучше и смелей меня. Вначале я притворялся неловким и трусливым, чтобы ободрить ее; но настал наконец день, когда я заметил, что я менее способен и храбр, чем она. Мне представилось, что она не шутя отняла у меня всю мою силу!
Густав. Ты научил ее еще чему-нибудь?
Адольф. Да… но это между нами. Я обучил ее грамоте, о которой она понятия не имела. Когда же она начала вести всю домашнюю корреспонденцию, то я перестал писать. И ты просто не поверишь – в какой-нибудь год от недостатка практики я совершенно забыл грамматику. А ты думаешь, она помнит, что постигла эту науку благодаря мне? Нет, разумеется, я теперь – идиот!
Густав. Да! Ты уже – идиот.
Адольф. Если говорить в шутку, разумеется!
Густав. Разумеется!.. Но ведь это какой-то каннибализм. А ты знаешь, что это значит? А вот что: дикари едят своих врагов, чтобы взять таким образом все их высшие качества! Эта женщина съела твою душу, мужество, твое знание…
Адольф. И мою веру! И мысль написать ее первую вещь подал ей я…
Густав (удивленно). Вот как?
Адольф. Я ободрял ее похвалой даже когда мне самому ее работа не нравилась. Я ввел ее в литературные круги, где ей легко было собирать мед с пышных цветов. И опять-таки я, благодаря моим связям, сдерживал критиков. Я раздувал ее веру, раздувал до тех пор, пока сам не начал задыхаться. Я давал, давал и давал, пока у меня у самого ничего не осталось! И знаешь – я хочу сказать тебе все… теперь более, чем когда-либо, «Душа» для меня представляется чем-то загадочным… Когда мои артистические успехи начали совершенно затмевать ее славу, ее имя – я ободрял ее, умаляя себя в ее глазах, унижая свое искусство. Я старался доказать ей ничтожную роль всех художников вообще, я приводил такие веские доводы в защиту моего положения, что в конце концов сам поверил себе, и в одно прекрасное утро решил, что живопись – искусство бесполезное. Так что тебе пришлось иметь дело просто с карточным домиком.









































