Читать книгу "Фрекен Жюли"
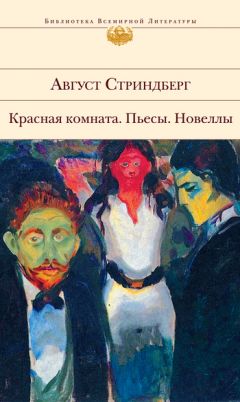
Автор книги: Август Стриндберг
Жанр: Зарубежная драматургия, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Предисловие к «Фрекен Жюли»
Довольно долгое время я пребывал в заблуждении – я сравнивал театр, как и искусство вообще, с Biblia pauperum[3]3
Древнейший образец Biblia pauperum (Библия бедняков) датируется первой половиной ХIII века. Biblia pauperum значительно уступала в объеме основной Библии и, как правило, представляла собой серию рисунков, снабженных подписями. Эти издания были дешевле и доступнее для широкой публики.
[Закрыть], иллюстрированной Библией для тех, кто не в состоянии прочитать то, что написано или напечатано. А драматург, в свою очередь, представлялся мне светским проповедником, который облекает современные идеи в доступную форму, причем настолько доступную, чтобы средний класс, который в основном и посещает театр, мог, не особо перенапрягаясь, понять, о чем собственно речь.
Именно поэтому театр всегда считался народной школой для молодежи, для полуобразованной публики и для женщин, у которых еще сохранилась примитивная способность обманываться или позволять себя обманывать, иными словами питать иллюзии и находиться под гипнозом внушения писателя.
Потому в наше время, когда рудиментарное недоразвитое мышление, разбуженное фантазией, тяготеет к рефлексии, к пробам, к экспериментам, театр, как и религия, на мой взгляд, находится на пути к краху, в терминальной стадии. Чтобы вернуть театр к жизни и снова полюбить его, нам понадобится создать определенные условия. В пользу моей версии свидетельствует широкомасштабный кризис театра, который сейчас охватил всю Европу, и в не меньшей степени то обстоятельство, что в просвещенных странах, в которых вспыхнул гений самых великих мыслителей, а именно в Англии и в Германии, драматургия сейчас мертва, так же, как, впрочем, и большинство других изящных искусств.
В других странах все еще теплилась иллюзия – можно создать новую драму, обращаясь к новому содержанию, при этом сохраняя старую форму. Хотя новые идеи еще не успели обрести такую популярность, чтобы стать доступными для широкой публики. Политические конфликты так накалили чувства, что о чистом бескорыстном наслаждении искусством театра не может быть и речи, ведь публика окончательно запуталась в своих внутренних противоречиях, а восторженно аплодирующее или освистывающее большинство настолько откровенно навязывает свое впечатление, насколько это вообще возможно в зрительном зале. С другой стороны, еще не возникли новые формы для нового содержания, и поэтому позволю себе сравнение: молодое вино взорвало ветхие меха [4]4
Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Евангелие от Матфея, 9:17.
[Закрыть].
В драме, предложенной на суд публики, я не стремился создать что-то новое, ибо это невозможно. Но я попытался модернизировать форму в соответствии с теми требованиями, которые, как мне кажется, современники должны предъявлять к театру. И ради этой цели я выбрал, или позволил себе выбрать тему, которая находится за пределами сегодняшних политических склок, ведь тема социального восхождения или падения, высокого и низкого, лучшего и худшего, мужчин и женщин, всегда вызывала, вызывает и будет вызывать непреходящий интерес.
В настоящей драме я не пытался создать нечто новое – такую задачу я перед собой не ставил, а лишь хотел осовременить форму в соответствии с теми требованиями, которые, по моему мнению, люди новой эпохи должны бы предъявлять к этому виду искусства. И с этой целью я выбрал или позволил себе выбрать тему, находящуюся за пределами актуальных политических споров, поскольку проблемы социального возвышения или падения, высокого и низкого, хорошего и плохого, отношений мужчины и женщины всегда вызывали, вызывают и будут вызывать неизменный интерес.
Этот сюжет я позаимствовал из жизни, в том виде, в каком мне его пересказали несколько лет тому назад. Тогда эти события произвели на меня неизгладимое впечатление. И я счел, что они годятся для трагедии – ведь гибель того, кому могла бы выпасть счастливая судьба, а тем более целого рода, пока еще воспринимается как трагедия.
Хотя вполне возможно, наступит время, когда мы станем столь развитыми, столь просвещенными, что будем равнодушно наблюдать за грубой циничной бессердечной драмой, которую разыгрывает сама жизнь, когда мы сумеем избавиться от примитивных ненадежных аппаратов, именуемых чувствами – они станут лишними и вредными, поскольку мы начнем пользоваться рассудком.
То, что героиня вызывает сочувствие, продиктовано лишь нашей слабостью – мы не можем преодолеть чувство страха, ведь та же участь может постичь и нас. Слишком эмоциональному зрителю, возможно, не достаточно сострадания, но люди будущего, наделенные верой, потребуют каких-либо позитивных рецептов устранения зла, иными словами, своего рода программы.
Но, во-первых, абсолютного зла не существует, ибо гибель одного рода – счастье для другого, который получает шанс выплыть на поверхность. И, кстати, смена восхождений и падений – одна из самых притягательных черт жизни, ведь счастье познается только в сравнениях.
А тем, кто намерен преодолеть такие досадные обстоятельства, как, например – хищная птица поедает голубя, а вошь поедает хищную птицу, я бы задал вопрос: ради чего? Жизнь не настолько математически рациональна и примитивна, что только большие пожирают малых. Ведь очень часто случается, что пчела умертвляет льва или, по меньшей мере, доводит его до бешенства.
В том, что моя трагедия на многих производит тягостное впечатление, виноваты как раз эти самые многие. Когда мы станем стойкими и несокрушимыми, как первые французские революционеры, то сможем испытать безграничную радость, наблюдая, как вырубают дряхлые безжизненные деревья в городских парках – ведь они слишком долго преграждали дорогу юным и сильным, цепляясь за свое прозябание. Ведь неисцелимые больные умирают – и нам следует с этим смириться и даже радоваться…
Мою драму «Отец» недавно раскритиковали – ее упрекали в том, что она слишком трагична. Но разве не парадоксально, что зритель требует веселых трагедий? Публике необходим оптимизм, и директора театров заказывают примитивные фарсы, словно издевки и насмешки над теми, кто страдает пляской святого Витта или идиотизмом, могут кого-то развеселить. Лично я считаю, что радость жизни заключена как раз в непримиримых и жестоких жизненных конфликтах, и я счастлив, когда я что-либо постигаю и чему-то учусь.
И поэтому я выбрал нетипичный, но поучительный, словом, исключительный случай, который подтверждает правила, случай, который оскорбляет тех, кто тяготеет к банальностям.
Примитивное мышление задето тем, что я неоднозначно мотивирую события, а также тем, что точек зрения на эти события может быть множество. Каждое событие в жизни – и это почти открытие! – обычно обусловлено целым рядом более или менее скрытых мотивов, но зритель выбирает, как правило, в большинстве случаев самые примитивные и соответствующие его убеждениям. В драме совершается самоубийство. «Банкротство», – решит буржуа. «Безответная любовь», – скажут женщины. «Телесный недуг», – подумает пациент. «Разбитые надежды», – так объяснят событие те, кто уже потерпели кораблекрушение. Вполне возможен каждый из этих мотивов, а возможно, ни один из них ни при чем, и самоубийца скрыл истинный мотив своего поступка. Светлая ему память!
На мой взгляд, трагическая судьба фрекен Жюли объясняется множеством обстоятельств: наследие по материнской линии, педагогические просчеты отца, пробудившаяся природа и влияние жениха на хрупкий вырождающийся мозг. И уже точнее – праздничное настроение в канун Иванова дня; отсутствие отца; ее месячные, занятия с животными, будоражащее воздействие танцев, ночные сумерки, пьянящий афродизиак, разбуженный ароматом цветов, и наконец, случайность, столкнувшая героев в ограниченном пространстве, и плюс ко всему накаленная отвага соблазнителя.
Я пытался избежать однобокости и примитивизма – не возводить в культ ни психологические, ни физиологические причины, не винить во всем наследственность со стороны матери, или месячные, или безнравственность, не поучать, не морализировать! Я решил – в связи с отсутствием пастора – отказаться от права осуждать или диктовать, что нравственно, а что нет, уступая эту роль кухарке.
Такое многообразие мотивов – не воздержусь от самовосхваления – очень соответствует духу времени! Я не первый, до меня то же самое делали и другие, так что хвалю себя и за то, что я не одинок в своих парадоксальных выводах – ведь именно так называют все открытия.
Что же касается характеров, то я сделал своих персонажей весьма бесхарактерными по следующим соображениям. С годами слово «характер» приобрело множество значений. Вероятно, изначально имелось в виду, что характер – это доминирующая часть души, и его путали с темпераментом. Позднее средний класс под словом «характер» подразумевал свойства индивида, который раз и навсегда сохранил свои природные качества или приспособился к определенной роли в жизни. Иными словами, личность, остановившуюся в своем развитии и застывшую на этой стадии. Умелого навигатора, ориентирующегося в океане жизни, плавающего без снастей, подвластного ветрам, называли бесхарактерным. Причем как правило этому определению придается уничижительный оттенок, ведь бесхарактерное зыбко и неуправляемо, его невозможно заарканить и проконтролировать.
Это буржуазное представление о неподвижности души переносится на сцену, а уж на сцене всегда доминирует буржуазный уклад. Характер здесь главенствует, он завершен и зафиксирован, и герой неизменно выступает либо пьяным, либо шутом, либо мизантропом. Для того, чтобы охарактеризовать героя, нужны какие-либо телесные изъяны – косолапость, хромота или красный нос. Или персонаж должен повторять определенные клише типа: «какая прелесть», «Баркис не прочь!» [5]5
Цитата из романа Чарльза Диккенса «Давид Копперфилд». Возчик Баркис неоднократно начинал этими словами свое предложение руки и сердца служанке Пеготти.
[Закрыть] и все такое.
Эта однолинейность типична для сцены – еще со времен великого Мольера. Гарпагон просто скуп, хотя он может быть и скупым, и выдающимся финансистом, и прекрасным отцом, и образцовым гражданином, и что самое парадоксальное, его порок крайне выгоден именно для его зятя и дочери, которые унаследуют его состояние. И потому они не должны порицать его, даже если им придется немного подождать, прежде чем соединиться в постели.
Так что я не верю в примитивные театральные характеры. И категоричные суждения автора о людях – этот глуп, этот жесток, этот ревнив, этот скуп и т. д. – следует пропустить сквозь призму натуралистов, которые знают, насколько сложен и богат весь диапазон души. Они также знают, что порок имеет и оборотную сторону, которая очень напоминает добродетель.
Мои герои современны, они очутились на рубеже, отмеченном эклектизмом и истеричностью, по сравнению с предыдущей эпохой, поэтому я изображаю их расколотыми, колеблющимися, в них есть черты и старого, и нового. И мне не кажется неправдоподобным, что современные идеи через газеты и беседы проникают в самые социальные низы.
Мои души (персонажи) представляют собой конгломераты прошлых уровней культуры и одновременно подвержены влиянию современной, в них отрывки из книг и газет, черты разных людей, обрывки праздничных нарядов, превратившихся в жалкое тряпье, совершенно как залатанная душа. К тому же, я пытаюсь проследить эволюцию героев, когда позволяю герою слабому заимствовать у сильного и репетировать его выражения, заимствовать у него идеи, подвергаться внушению, как это сейчас принято называть.
Фрекен Жюли – персонаж современный, не только потому, что она полуженщина, мужененавистница, такие типажи существовали во все времена, но и потому, что она обнаружила себя, заявила о себе и привлекла к себе всеобщее внимание. Полуженщина – тип личности, возникший в наше время, который теперь продается за власть, ордена, знаки отличия, дипломы, так же, как раньше за деньги. И таким образом, мы наблюдаем процесс вырождения женщины. Этот тип женщины порочен и недолговечен, но, к сожалению, будет еще какое-то время приносить плоды, мультиплицируя заключенное в нем зло. И благодаря дегенеративным мужчинам, которые, скорее всего, выбирают их бессознательно, они размножаются, производя на свет существ неопределенного пола; они всю жизнь мучаются, но, к счастью, погибают – или не находя гармонии с действительностью, или от взрыва подавленных инстинктов. Или не могут смириться с разбитыми надеждами потому, что нет возможности достичь уровня мужчины.
Полуженщина – тип трагический, разыгрывающий спектакль отчаянной борьбы с природой. Как трагическое наследие романтизма, которое натурализм сейчас растрачивает в погоне за счастьем, за счастьем, которого заслуживают лишь сильные и полноценные виды.
Но фрекен Жюли – еще и уцелевший осколок старой военной аристократии, которая не выдержала натиска новой эмоционально и интеллектуально развитой элиты, жертва дисгармонии, наследственности по материнской линии, семейного разлада, заблуждений, обстоятельств, своих собственных телесных дефектов. И все это в сумме равносильно древнему року или вселенскому закону.
Натуралист вычеркнул вину вместе с Богом, но последствия поступка – наказание, тюрьму или страх перед ними – он не может вычеркнуть по той простой причине, что они никуда не деваются, вне зависимости от его воли, ведь оскорбленные не обладают таким безграничным смирением, какое за приличную награду проявляют неоскорбленные.
Даже если отец по веским причинам был вынужден отказаться от реванша, то дочь должна отомстить за себя, как она делает это в пьесе, из врожденного или благоприобретенного чувства достоинства, которое унаследовано аристократами. Но откуда, от кого, от чего они получили это наследство? От варварства, от арийской первобытности, от средневекового рыцарства. И все это выглядело очень эффектно, но сейчас неуместно для сохранения вида. Это харакири аристократа, закон совести японца, который обязывает его вспороть себе живот, когда кто-то оскорбляет его. Этот закон существует и в более современной форме – дуэли, привилегии аристократии. Поэтому лакей Жан остается жить, а фрекен Жюли не может жить, после того как ее обесчестили.
Преимущество лакея перед ярлом [6]6
Ярл – высший титул в иерархии в средневековой Скандинавии. Ярлы представляли собой наиболее состоятельную и влиятельную часть скандинавского общества.
[Закрыть] в том-то и заключается, что у него отсутствует этот опасный для жизни предрассудок – понятие чести, но оно есть во всех нас, арийцах, дворянах или Дон Кихотах, оно заставляет нас сочувствовать самоубийцам, совершившим недостойный поступок, и тем самым потерявшим честь; мы достаточно аристократичны, чтобы страдать, созерцая зрелище былого величия, когда павший распластался как труп, и даже после того, как он возродится и, совершив достойные поступки, восстановит свою честь.
Лакей Жан создаст новый вид, в котором будут явственны социальные контрасты. Он – сын статара [7]7
Статары – представители сельского пролетариата.
[Закрыть], и он уже подготовил себя к роли будущего господина. Он восприимчив, развит и тонок, у него все на месте – обоняние, вкус, внешность, он чуток к красоте.
Он уже пробрался наверх и достаточно осмелел для того, чтобы без смущения пользоваться услугами других.
Он уже чужак для своей среды, которую презирает как пройденный для себя этап. Он боится и избегает ее, ведь она знает его тайны, разгадывает его замыслы, с завистью и ревностью следит за его восхождением и с радостью предвкушает миг его паденья. Этим объясняется двойственность и нерешительность его характера, он одновременно испытывает и симпатию, и ненависть к тем, кто оказался наверху. Он, по его собственным словам, аристократ, который приобщился к тайнам избранных, он приобрел внешний лоск, но внутри так и остался неотесанным. Он уже научился носить сюртук, но при этом нет никакой уверенности в том, что он соблюдает телесную гигиену.
Он уважает фрекен, но боится Кристины, ведь та посвящена в его опасные тайны. Он довольно бессердечен и не позволит, чтобы ночные события помешали сбыться его планам. С жестокостью раба и без всякой тени сентиментальности, отличающей господина, он может созерцать кровь, не падая в обморок, он хватает неудачу за рога и побеждает ее. Он выходит из борьбы целым и невредимым и в конце концов станет хозяином отеля. И даже если сам он не станет румынским графом, но сын его наверняка станет студентом и возможно фогтом [8]8
Светское должностное лицо, наделенное судебными, управленческими и фискальными полномочиями.
[Закрыть].
Кстати, он очень точно подмечает важные особенности жизненной философии низов (ведь он постиг ее изнутри), когда он откровенен, а это с ним редко случается. Чаще он говорит то, что ему выгодно, а не то, что он действительно думает. Когда фрекен Жюли высказывает предположение, что низшие классы страдают от гнета высших, то Жан, конечно, с ней соглашается, тем самым добиваясь ее симпатии, но затем отказывается от своих слов, решив, что ему лучше не высовываться из толпы.
Итак, Жан карабкается вверх, но этого мало, он, оказывается, выше фрекен Жюли – ведь он мужчина. Он принадлежит к мужскому племени, и потому аристократ, он наделен мужской силой, чувственно развит, инициативен. Его комплекс неполноценности связан с тем, что он чувствует себя временным обитателем в своей социальной среде, из которой он может вырваться, сняв с себя ливрею.
Он становится лакеем, а точнее, проявляет лакейство, когда служит графу (чистит его сапоги); он слишком набожен, но, служа графу, он прежде всего служит его титулу, о котором мечтает и сам. Эта мечта не оставляет его и после того, как он овладевает дочерью графа и обнаруживает, насколько обманчива может быть красивая оболочка.
Впрочем, подлинная любовь – в высоком смысле слова – не может возникнуть между двумя персонажами со столь разными душевными свойствами, и поэтому, как мне кажется, любовь фрекен Жюли несколько покровительственная или как бы оправдательная. А Жан считает, что мог бы полюбить по-настоящему, если бы находился в иных социальных обстоятельствах. Я сравнил бы любовь с гиацинтом, который должен пустить корни в темноте, чтобы распустился полноценный цветок. А здесь он раскрывается и расцветает мгновенно – и поэтому столь стремительно гибнет.
Кристина – рабыня, она несамостоятельна, безынициативна, ее наняли лишь для того, чтобы стоять у плиты и топить камин, в ней есть животно-инстинктивное лицемерие, ее мораль и вера полны ханжества, ей нужны козлы отпущения – а ведь сильной личности они ни к чему, она сама может нести свой грех или замолить его! Она ходит в церковь, чтобы легко и безболезненно получить от Иисуса отпущение своих домашних грешков, в основном, мелких краж и снова зарядиться ощущением собственной невинности.
А вообще, она – персонаж второстепенный, я ее обозначил в пьесе схематично, так же, как в «Отце» обозначил Пастора и Врача, типичных провинциальных пастора и врача. Мои второстепенные персонажи могут кому-то показаться несколько абстрактными. Это обусловлено тем, что люди в повседневной жизни, исполняющие свои служебные функции, вообще несколько абстрактны, несамостоятельны, они как бы раскрываются с одной стороны, и до тех пор, пока зрителю неинтересно разглядеть их с разных сторон, я очерчиваю их приблизительно, пунктирно, и мой пунктир точен лишь относительно.
Наконец, относительно диалога – тут я отступил от традиций. Я попытался избавить своих персонажей от роли учителей катехизиса, которые специально задают дурацкие вопросы, чтобы в ответ последовала остроумная реплика. Я избегал всяческой симметрии, математичности, свойственной диалогу, сконструированному на французский манер, и позволил своим персонажам высказываться и поступать спонтанно, так, как они делают в действительности, ведь в жизни ни один диалог не может исчерпать ни одной темы, а все люди взаимосвязаны и взаимовтянуты друг в друга, как в лентопротяжном механизме. И поэтому диалог в пьесе блуждает, мечется – в первых сценах намечено то, что потом получает развитие, репетируется, перекликается, повторяется, как тема музыкальной композиции.
Действие довольно сконцентрировано, оно сосредоточено на взаимоотношениях только двух героев, единственный второстепенный персонаж – кухарка, хотя нет, еще и отец, чья несчастная тень витает рядом и над всем происходящим. Мне хотелось выхватить именно самое примечательное в психическом облике людей новейшего времени, ведь наши любопытные души не довольствуются тем, что наблюдают что-то происходящее, но и хотят постичь, как это происходит. Нам интересны именно нити, механизм, нам хочется обследовать шкатулку с двойным дном, при помощи волшебного кольца найти швы, заглянуть в карты и разглядеть, из каких мастей составлена колода.
Образцом для меня служили монографические романы братьев Гонкур, которые я считаю самым значительным явлением современной литературы.
Что касается техники композиции, то я попытался устранить разделение на акты. Нашу оскудевающую фантазию травмируют антракты между актами и сценами, во время которых зритель получает передышку – возможность поразмышлять – и тем самым ускользает от магнетического воздействия писателя.
Моя пьеса длится полтора часа, и уж если можно слушать лекцию, проповедь или доклад на конгрессе столь же долго или дольше, то я уверен в том, что полуторачасовая пьеса не должна утомить. Еще в 1872 году, в одном из моих первых драматических опусов, в пьесе «Изгой» я апробировал эту концентрированную форму, но моя попытка не имела успеха. Пьеса в пяти актах была уже завершена, но потом я счел ее слишком фрагментарной, и к тому же, отметил, что она производит гнетущее впечатление. Я ее сжег, но из ее пепла возникла единая цельная одноактная пьеса объемом в пятьдесят печатных страниц, рассчитанная на час игрового времени. Эта форма была вовсе не нова, и все-таки мне она показалась открытием и соответствовала изменившимся вкусам современного зрителя. Отныне мне нужна была публика, подготовленная к тому, чтобы весь вечер смотреть непрерывный одноактный спектакль. Но, разумеется, при этом требуется создать определенные условия. Зрителю нужны паузы для отдыха, и актерам, кстати, тоже, и, чтобы соблюсти эти условия, не выпуская при этом зрителя из магнетического поля, я использую три формы драматического искусства – монолог, пантомиму и балет, первоначально типичные для античной трагедии. Ведь со временем монодия преобразилась в монолог, а хор – в балет.
Монолог сейчас отвергается нашими реалистами, они проклинают его за неправдоподобие, но если я мотивирую его, то он станет правдоподобным и, таким образом, его можно использовать с выигрышем для пьесы. Разве не правдоподобно, если один из героев в одиночестве ходит по комнате и громко что-то произносит? Разве не правдоподобно, когда актер вслух репетирует свою роль? Или когда служанка разговаривает со своей кошкой, мать лепечет со своим малышом, старая дева болтает со своим попугаем, а спящий бормочет во сне?
И чтобы хоть раз предоставить актеру свободу самостоятельного творчества, чтобы он высвободился от диктата и указующего перста писателя, я не расписывал монологи, а только наметил их пунктиром. В общем-то, не так важно, что говорится во сне или что адресовано кошке или попугаю, это никоим образом не влияет на действие, но одаренный актер, внедряясь в определенную ситуацию и проникаясь определенным настроением, наверняка сымпровизирует лучше писателя, которому трудно предугадать и просчитать, сколько именно времени потребуется для той или иной сцены, чтобы не дать публике вырваться из плена иллюзий.
Как известно, итальянский театр в определенных сценах реанимирует практику импровизации и тем самым предоставляет творческую свободу актеру, который тоже сочиняет на ходу и дышит в унисон с драматургом. Актер-творец может иметь успех, открывать новые горизонты, совершать открытия. Это можно считать шагом вперед или новым типом искусства, искусством, открывающим новые горизонты.
Там, где монолог может показаться неправдоподобным, я призываю на помощь пантомиму, предоставляя актеру еще большую свободу сочинять и творить. При этом, чтобы не испытывать терпение публики дольше, чем она способна выдержать, я подключаю музыку, естественно соответствующую происходящему на сцене, танцу в Иванову ночь, и музыка усиливает атмосферу и дополняет немую сцену. Я прошу дирижера оркестра самому выбрать необходимый музыкальный фон, чтобы он не вторгся чужеродным мотивом в спектакль, не навязывал ненужных ассоциаций, чтобы не было попурри из современных оперетт или танцев, или из каких-то этнографических народных мелодий.
Балетные сцены, которые я предусмотрел в спектакле, невозможно заменить так называемыми массовыми сценами, ведь массовые сцены исполняются, как правило, весьма посредственно, и при этом многие исполнители переигрывают, нарушая равновесие спектакля. Они не только не импровизируют, но и используют уже готовые штампы, которые могут быть неоднозначно истолкованы.
Я не сочинял шуточных куплетов, я использовал малоизвестные куплеты из шуточного танца, который сам наблюдал и зафиксировал в окрестностях Стокгольма. Они звучат порой пунктирно, не попадая в цель, но это сделано намеренно, ибо коварство (слабость) рабской психологии исключает прямоту высказываний. Поэтому никаких остроумничающих клоунов, никаких грубых ухмылок, когда действие завершается гибелью целого рода, когда захлопывается крышка гроба.
Относительно декораций – я использовал приемы импрессионистской живописи, асимметрии, диспропорции, и мне это показалось вполне оправданным, для того, чтобы активировать зрительскую фантазию. Зритель не может увидеть все пространство и всю обстановку, но его фантазия приводится в движение и домысливает недостающее.
Я одержал еще одну победу – избавился от утомительных выходов актеров через двери, ведь двери на сцене сработаны в основном из холста и вибрируют от малейшего движения. Так что они не могут продемонстрировать, например, гнев разъяренного отца семейства, который вызван неудачным обедом, когда он выходит и хлопает дверьми, которые и в самом деле трясутся так, что «весь дом дрожит». (А в театре он и в самом деле дрожит). Таким образом, я решил оставить одну-единственную декорацию, которая помогает персонажам слиться со средой на сцене. Я вообще рискнул отказаться от декоративных излишеств. И уж если оставить на сцене всего одну декорацию, то пусть она будет правдоподобной и соответствует всему происходящему. А ведь сымитировать комнату, приблизительно похожую на комнату, гораздо сложнее, чем живописцу изобразить вулкан и водопад. Пусть стены будут из холста, но изображать полки и предметы кухонной утвари – нет уж, увольте. С этим пора покончить. У нас на сцене и так много всяких других условностей, в которые мы обязаны поверить, но верить в намалеванные кастрюли – это уже чересчур.
Я решил разместить задник и стол чуть наискосок, под углом, чтобы актеры, сидя за столом друг напротив друга, играли лицом к публике или вполоборота. Я видел смещенный задник в опере «Аида» – он расширяет сценическую перспективу, в отличие от утомительной прямой линии.
Следующим – и не менее важным – новшеством был бы демонтаж рампы. Эта традиционная подсветка снизу имеет целью укрупнить лица актеров – но, осмелюсь спросить, ради чего? Из-за этой нижней подсветки не видны утонченные черты лица, особенно подбородок, искажается профиль, затеняются глаза. В любом случае, зрение актеров страдает от этого яркого нижнего света, и те сцены, которые построены на мимике, теряются. Свет рампы попадает на ту часть сетчатки, которая должна быть защищена от света (хотя моряки вынуждены смотреть на солнце, отраженное в воде). И поэтому нам, зрителям, почти недоступны выражение глаз и мимика. Только когда актер смотрит в сторону или в зал, мы видим его расширенные белки, ловим его усталый рассеянный взгляд. Обычно актер смотрит на зрителя, если хочет сообщить ему что-либо о себе. Молча, в неестественной позе актеры – он или она – стоят на сцене перед зрителем, хлопая глазами, и эта дурацкая манера почему-то называется «приветствовать знакомых»!
Разве недостаточно яркого бокового света (прожектора с отражателем и прочее), который предоставит актеру новые возможности – обнажит до предела его мимику, лицо, взгляд?
Чтобы актер играл перед публикой, а не для нее, – конечно, подобных иллюзий я не питаю, об этом я мог бы только мечтать, но к этому надо стремиться. Хотя созерцать актера только со спины, например, на протяжении какого-то решающего эпизода, тоже утомительно, и все-таки я хотел бы, чтобы ключевые моменты спектакля были сыграны изнутри, а не напоказ, не у будки суфлера, как дуэты, рассчитанные на аплодисменты. Мне хотелось бы, чтобы каждая сцена занимала свое место и точно соответствовала ситуации.
Итак, я не провел никаких революционных реформ, а просто позволил себе небольшие модификации, ведь сцена – это пространство, где отсутствует четвертая стена, а часть меблировки развернута от зала, что мешает восприятию.
Что касается грима, то я хотел бы, чтобы меня услышали актрисы, которым хочется продемонстрировать прежде всего свою красоту, а уж потом естественность и правдоподобие. Актер не может не знать, что грим часто обезличивает его, лишает характера, превращая лицо в маску. Представим себе актера, который должен сыграть жестокого героя и соответствующим гримом проводит резкую холерическую складку между глазами… Но в одной из реплик ему предстоит улыбнуться. Наверняка у него получится гримаса, от которой зритель просто содрогнется. И разве способен актер с бледным лбом, напоминающим бильярдный шар, сыграть, скажем, гнев старика?
Для современной психологической драмы, где самые искренние движения души должны передаваться прежде всего мимикой, а не жестами или голосом, может быть, стоило бы рискнуть выбрать малую сцену, при этом направить на нее яркий боковой свет… А актерам было бы уместнее играть без грима или хотя бы с минимальным гримом.
И куда-то бы нам упрятать видимый из зала оркестр, обращенный лицом к публике и ослепляющий светом! Если бы мы могли приподнять партер настолько, чтобы взгляд зрителя оказался выше коленей актеров… Если бы избавиться от аванлож [9]9
Места в зрительном зале, расположенные перед входом в ложу.
[Закрыть], с ухмыляющимися обедающими или ужинающими зрителями, и тем самым полностью затемнить зал на время всего спектакля, от первой и до последней сцены…
Когда мы останемся наедине со зрителем, на малой сцене и в малом зале, тогда, возможно, и возникнет новая драматургия, и театр станет зрелищем и развлечением для просвещенной образованной публики. И в ожидании рождения такого театра мы будем писать пьесы и готовить будущий репертуар.
Представляю на суд публике свой эксперимент! Если опыт окажется неудачным, то надеюсь, мне еще отпущено время, чтобы повторить его!









































