Читать книгу "Фрекен Жюли"
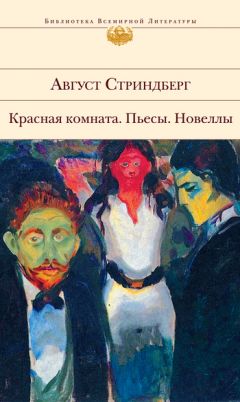
Автор книги: Август Стриндберг
Жанр: Зарубежная драматургия, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ротмистр. Ну а если?..
Берта. Тогда просто я не знаю. Да захочет она, захочет!
Ротмистр. Ты ее уговоришь?
Берта. Ты сам ее уговори. Что ей мои уговоры?
Ротмистр. Мм… Ну, а если я буду хотеть, и ты будешь хотеть, а она все-таки не захочет – как же тогда нам быть?
Берта. Ах, всегда у вас все так сложно. И почему вы с мамой не можете…
Сцена девятая
Те же и Лаура.
Лаура. Ах, Берта тут! Тогда, может быть, стоит выслушать ее собственное мнение, ведь решается ее судьба.
Ротмистр. Едва ли ребенку под силу определить, как должна складываться жизнь девушки, мы же, напротив, можем это себе представить, ибо перед нашими глазами прошла не одна девичья судьба.
Лаура. Но раз уж мы не можем прийти к соглашению, пусть лучше Берта решит сама.
Ротмистр. Нет, я никому не отдам своих прав – ни женщине, ни ребенку. Оставь нас, Берта.
Берта уходит.
Лаура. Ты боялся ее решения, боялся, что выйдет по-моему.
Ротмистр. Я знаю, что ей хочется уехать отсюда, но я знаю и то, что ты вертишь ею как вздумаешь.
Лаура. Ах, скажите, какая у меня сила!
Ротмистр. Да, в тебе прямо сатанинская сила, как, впрочем, в каждом, кто не стесняется в средствах для достижения собственных целей. Каким образом, например, удалось тебе выжить доктора Нурлинга и водворить здесь нового врача?
Лаура. Да, любопытно, каким же образом?
Ротмистр. Ты травила прежнего, пока он не ушел, и предоставила брату нахваливать этого нового.
Лаура. Ну да, нехитро и вполне логично. Значит, Берта едет?
Ротмистр. Да, едет, через две недели.
Лаура. Это твое последнее слово?
Ротмистр. Да!
Лаура. С Бертой самой ты переговорил?
Ротмистр. Да!
Лаура. Ах, тогда мы еще посмотрим!
Ротмистр. Не станешь же ты чинить препятствия?
Лаура. Почему? По-твоему, мать согласится отпустить свою дочь к гадким людям, которые ей будут внушать, будто мать учила ее одним только глупостям? И навек потерять уважение дочери?
Ротмистр. А отец, по-твоему, должен молча смотреть, как самовлюбленные, несведущие бабы выставляют его перед дочерью шарлатаном?
Лаура. Отцу это не так важно.
Ротмистр. Почему же?
Лаура. А потому что мать ребенку ближе, раз считается, что вообще никогда нельзя точно знать, кто отец ребенка.
Ротмистр. Здесь-то это при чем?
Лаура. И ты тоже не знаешь, отец ли ты Берте!
Ротмистр. Я – не знаю?
Лаура. Раз никто не знает, стало быть, и ты!
Ротмистр. Ты шутишь?
Лаура. Ничуть. Твою же теорию развиваю. Ну как ты можешь быть уверен, что я не изменяла тебе?
Ротмистр. Многое я могу допустить, но только не это; да и не стала б ты мне такое выкладывать, будь это правдой.
Лаура. Ну, а если я иду на все – на позор, на лишенья, лишь бы сохранить ребенка и свою над ним власть, а если, а вдруг – я сейчас объявлю тебе правду: Берта моя дочь, но не твоя! Предположим…
Ротмистр. Молчи!
Лаура. Предположим, что это так, – и тогда конец твоей власти!
Ротмистр. Докажи сначала, что я ей не отец!
Лаура. Это доказать нетрудно! Хочешь?
Ротмистр. Молчи!
Лаура. Придется, конечно, выдать имя подлинного отца, место, время… Кстати, когда родилась Берта? На третий год после свадьбы…
Ротмистр. Молчи! Или я…
Лаура. Ну что – или ты? Пожалуйста, я замолчу. Но немного подумай о том, что ты затеял! И постарайся не быть смешным!
Ротмистр. Мне вовсе не до смеха!
Лаура. Тем смешнее ты выглядишь!
Ротмистр. Ты зато не выглядишь смешно!
Лаура. Так уж умно мы устроены!
Ротмистр. Потому вас и не одолеть!
Лаура. Ну, и зачем же вступать в борьбу с превосходящими силами противника?
Ротмистр. Превосходящими?
Лаура. Да! Странно, но, глядя на любого мужчину, я всегда сознаю свое превосходство.
Ротмистр. Ничего, еще узнаешь превосходство мужчины, поплачешь.
Лаура. Что ж, очень любопытно.
Кормилица (входит). Кушать подано. Не угодно ли закусить?
Лаура. Спасибо.
Ротмистр медлит, садится в кресло у чайного столика.
Ты идешь ужинать?
Ротмистр. Нет, спасибо, не хочется.
Лаура. Что такое? Ты огорчен?
Ротмистр. Нет, просто не голоден.
Лаура. Лучше пойдем, не то пойдут расспросы… совершенно лишние. Ну прошу тебя! Нет? Не хочешь? Ну, так и сиди! (Уходит.)
Кормилица. Адольф! Что такое случилось?
Ротмистр. Сам не пойму. Объясни ты мне, можно ли обращаться с пожилым человеком как с малым ребенком?
Кормилица. Ну это я тоже не понимаю, но небось для нашей сестры все вы, мужчины, дети – что старый, что малый…
Ротмистр. И ни одна женщина не рождена от мужа. Но я же отец Берты. Скажи мне, Маргрет, ты в это веришь ли? Ты веришь?
Кормилица. Ох, господи. Ну как же не ребенок! Надо же такое спрашивать. Лучше пойди-ка отужинай, чем тут сидеть да горевать! Ну, иди-иди!
Ротмистр (встает). Оставь меня, женщина! К черту вас всех, ведьмы! (У выходной двери.) Сверд! Сверд!
Денщик (в дверях.) Да, господин ротмистр?
Ротмистр. Сани заложить! Немедля!
Кормилица. Господин ротмистр! Послушайте-ка…
Ротмистр. Вон отсюда, женщина! Немедля!
Кормилица. Господи помилуй! Что же это с нами будет?
Ротмистр (надевает фуражку и направляется к двери). И домой меня не ждать! До глубокой ночи!
Кормилица. Господи Иисусе! Что же это будет?
Действие второе
Декорации те же. На столе горит лампа. Ночь.
Сцена первая
Доктор. Лаура.
Доктор. После моей беседы с ротмистром случай вовсе не кажется мне таким уж бесспорным. Во-первых, вы ошиблись, утверждая, что к своим поразительным выводам относительно других небесных тел он пришел с помощью микроскопа. Но если речь шла о спектроскопе, значит, не только нельзя говорить о расстройстве ума, но, напротив, мы имеем дело с высокой ученостью.
Лаура. Да ничего я такого не говорила!
Доктор. Сударыня, я взял наш разговор на заметку, и, помнится, я даже ведь вас переспрашивал относительно этого существенного пункта, решив было, что ослышался. Нужно с большой осторожностью подходить к таким обвинениям, которые ведут к опеке.
Лаура. К опеке?
Доктор. Да, вы, разумеется, знаете, что душевнобольные лишаются гражданских и семейственных прав.
Лаура. Ничего я такого не знала.
Доктор. Далее, еще один пункт показался мне подозрительным. Господин ротмистр жаловался, что просьбы его книготорговцам остаются без отклика. Позвольте спросить, не ваша ли ложно понятая заботливость тому причиной?
Лаура. Да, вы угадали. Но мой долг – защищать интересы семьи, и я не могу позволить, чтоб он всех нас пустил по миру.
Доктор. Простите, но, мне кажется, вы не рассчитали последствий своего шага. Если вдруг ему откроется, что вы вмешиваетесь в его дела, подозрительность его получит обоснование и разрастется лавиной. Вдобавок вставляя ему палки в колеса вы доводите его до умоисступления. Вы и по себе, вероятно, знаете, каково это, когда мешают твоим сокровенным желаниям.
Лаура. Мне ли не знать?
Доктор. Вот и судите сами, каково ему.
Лаура (встает). Уже двенадцать, а его нет. Теперь все что угодно может случиться.
Доктор. Скажите, сударыня, а что, собственно, было сегодня, после того как я ушел? Это существенно.
Лаура. Он пустился в дикие фантазии. Представьте, вообразил, будто он не отец собственной дочери!
Доктор. Удивительно. Но откуда такая мысль?
Лаура. Не знаю. Сегодня, правда, он говорил с одним парнем по поводу ребенка, парень открещивался от ответственности, а когда я, потом уже, встала на защиту девушки, он вспылил и объявил, что никто никогда не может определить, кто отец ребенка. Бог свидетель, я все делала, чтоб его успокоить, но теперь уж беде ничем не поможешь… (Плачет.)
Доктор. Но этак не может продолжаться! Надо предпринять что-то, не возбуждая, разумеется, его подозрений. Скажите, а прежде у ротмистра бывали такие странные идеи?
Лаура. Шесть лет назад было то же, и тогда он сам, да, в письме, и даже к врачу, признавался, что боится за свой рассудок…
Доктор. Да-да-да, у этой истории, верно, глубокие корни… семейная тайна и всякое такое… я не смею допытываться и должен придерживаться очевидности, что было, то было, и упущенного, увы, не воротишь, но для полного излечения следовало бы установить и искоренить первоначальную причину расстройства. Как вы полагаете, где он теперь?
Лаура. Ни малейшего понятия не имею. На него теперь порой находит что-то ужасное.
Доктор. Хотите, я его дождусь? Чтоб усыпить подозрения, я мог бы сказать, что навещал вашу матушку, что она нездорова.
Лаура. Да, прекрасно! Вы уж не бросайте нас, господин доктор. Если б вы только знали, как я исстрадалась! Но не разумней ли прямо сказать ему, что вы думаете о его положении?
Доктор. Душевнобольным никогда этого не объявляют, разве что сами они заведут такой разговор, да и то не всегда. Лучше подождем, посмотрим, какой оборот примет дело. Только не надо нам здесь сидеть. Пойду-ка я лучше в соседнюю комнату, чтоб все выглядело натуральней.
Лаура. Да, пожалуй, а здесь оставим Маргрет. Она всегда не спит, его дожидаясь, и она одна умеет справиться с ним. (Идет к двери налево. ) Маргрет! Маргрет!
Кормилица. Что угодно госпоже? Хозяин вернулся?
Лаура. Нет. Ты посиди тут, дождись его. А когда он придет, скажи, что матушка заболела и у нее доктор.
Кормилица. Ладно, ладно. Посижу, покуда все не обойдется.
Лаура (открывает дверь в глубине сцены). Пожалуйте сюда, господин доктор!
Доктор. К вашим услугам, сударыня.
Сцена вторая
Кормилица и Берта.
Кормилица (сидя за столом, берет в руки псалтырь, надевает очки).
Да! да! да! (Читает вполголоса.)
Труден, тяжек путь земной,
К скорой смерти тяготеет,
Ангел смерти вечно реет
Над моею головой
И кричит: «Тщета! Тщета!»
Да! да! да!
Все погибнет, все умрет,
От меча его падет,
И не станет жизни милой.
Только горе над могилой
Прокричит еще: «Тщета!»
Да! да!
Берта (входит с подносом, на котором стоит кофейник, и с вышиваньем; почти шепчет). Маргрет, можно, я с тобой посижу? Там так страшно!
Кормилица. Господи! Ты еще не спишь?
Берта. Я папе подарок к Рождеству вышиваю. А это я тебе вкусненького принесла.
Кормилица. Миленькая ты моя, разве так можно?.. Тебе же вставать рано. А время-то уже первый час ночи.
Берта. Ну и что же. Не могу я там одна. Мне разное чудится.
Кормилица. Надо же. А я что говорила? Помяни мое слово – дурной это дом. И что же чудилось тебе?
Берта. Будто на чердаке поет кто-то.
Кормилица. На чердаке? В эдакую пору?
Берта. Песня грустная-грустная, я такой и не слышала никогда. И неслась как будто из закоулка на чердаке, слева, знаешь, где колыбелька стоит?
Кормилица. Ой-ой-ой! И погодка-то нынче! Ей-богу, трубы того гляди лопнут. «Что нам жизнь – одна печаль, расставаться с нею жаль, жаль покинуть белый свет, хотя здесь веселья нет». Да, дочка, вот уж послал Господь праздничек.
Берта. Маргрет, неужели папа вправду болен?
Маргарет. Болен, конечно.
Берта. Значит, мы Рождество не будем праздновать. Но отчего же он в постели не лежит, если болен?
Кормилица. Да, дочка, такая уж болезнь у него. Ш-ш! Кто-то пришел. Иди-ка к себе, да кофейник не забудь, не то отец рассердится.
Берта (уходит и уносит поднос). Покойной ночи, Маргрет!
Кормилица. Покойной ночи, детка. Господь с тобой!
Сцена третья
Кормилица. Ротмистр.
Ротмистр (снимает пальто). Ты не спишь? Иди скорее, ляг спать!
Кормилица. Да я только дождаться хотела…
Ротмистр зажигает свечу, открывает бюро, садится к нему, вынимает из кармана письма и газеты.
Адольф!
Ротмистр. Ну, что ты?
Кормилица. Старая госпожа заболела. К ней доктор пришел!
Ротмистр. Это опасно?
Кормилица. Нет, авось обойдется. Простыла она.
Ротмистр (встает). Кто был отец твоего ребенка, Маргрет?
Кормилица. Да я тебе сто раз говорила – Юхансон, подлец.
Ротмистр. Ты уверена, что это он?
Кормилица. Ты словно дитя малое. Ясно, я уверена, больше у меня и не было никого.
Ротмистр. А он-то был уверен, что больше никого не было? Он не мог быть уверен, а ты могла. В том-то вся и разница.
Кормилица. Никакой не вижу разницы.
Ротмистр. Ты не видишь, а разница все-таки есть! (Листает альбом с фотографиями.) Как по-твоему, похожа на меня Берта? (Разглядывает какую-то фотографию.)
Кормилица. Вся в тебя, как вылитая!
Ротмистр. А твой Юхансон признавал себя отцом?
Кормилица. Заставили, так и признал.
Ротмистр. Это чудовищно! Но вот и доктор!
Сцена четвертая
Ротмистр, кормилица, доктор.
Ротмистр. Добрый вечер, доктор. Что с тещей?
Доктор. О, ничего страшного. Слегка левую ногу подвернула.
Ротмистр. А Маргрет, кажется, сказала – простуда. Некоторые разногласия. Иди, Маргрет, ложись!
Кормилица уходит. Пауза.
Ротмистр. Сядьте, доктор, будьте добры.
Доктор (садится). Благодарствую.
Ротмистр. Верно ли, что от скрещения кобылы и зебры родятся полосатые жеребята?
Доктор (ошеломленно). Совершенно верно!
Ротмистр. А верно ли, что если продолжать породу уже с помощью жеребца, потомство будет все равно полосатое?
Доктор. Да, и это верно.
Ротмистр. Стало быть, при известных обстоятельствах обычный конь может стать отцом полосатого, и наоборот?
Доктор. Да. По-видимому.
Ротмистр. Иными словами, сходство потомства с отцом ничего не доказывает…
Доктор. Э-э…
Ротмистр. То есть факт отцовства недоказуем.
Доктор. Э-э… мм…
Ротмистр. Вы ведь вдовец и детей имеете?
Доктор. Да-а.
Ротмистр. И вы никогда не чувствовали себя смешным? Ничего нет, на мой взгляд, смехотворней отца, разгуливающего со своим ребенком по улице или рассуждающего о своих детях. Говорил бы уж: «Ребенок моей жены». Вы никогда не ощущали двусмысленности своего положения, доктор, никогда не посещали вас сомнения? «Подозренья» – этого я не скажу, ибо, как джентльмен, предполагаю, что жена ваша была вне подозрения…
Доктор. Нет, ничего подобного я не испытывал, и знаете ли, господин ротмистр, детей следует принимать на веру, как говаривал, кажется, Гете.
Ротмистр. На веру, когда в деле замешана женщина? Это рискованно.
Доктор. Ну, женщины разные бывают.
Ротмистр. По новейшим данным науки, все они на один покрой! В юности я был могуч и – уж похвастаюсь! – хорош собою. Вспоминаю два мимолетных впечатления, которые задним числом очень мучили меня. Как-то ехал я на пароходе и сидел с приятелем в салоне. В салон вошла молоденькая буфетчица, заплаканная, села против меня и стала рассказывать, что у нее жених утонул. Все жалели ее, а я спросил шампанского. После второго бокала я коснулся ногой ее туфельки, после четвертого прижал ей колено, и еще не рассвело – успел полностью утешить ее.
Доктор. Ну, это случай исключительный.
Ротмистр. Погодите, сейчас будет и типический. Я жил тогда на курорте. Там же была одна юная дама с детьми, муж оставался в городе. Дама была верующая, самых строгих правил и проповедовала высокую нравственность, полагаю, совершенно искренне. Я дай ей почитать книжку, потом другую. Уезжая, книги она мне даже вернула, удивив меня честностью. Три месяца спустя между страниц в одной из этих книжек я наткнулся на ее визитную карточку с откровеннейшим объяснением в любви. Объяснение, впрочем, было невинное, если только может быть невинным объяснение замужней дамы малознакомому господину, который никоим образом не обнадеживал ее. Отсюда мораль: не слишком-то ты им доверяйся!
Доктор. Но нельзя уж и слишком не доверяться!
Ротмистр. Хорошо, доверяйся, да только в меру. И знаете, доктор, дама, сама того не сознавая, действовала столь низко, что объявила мужу о своей влюбленности. Тем-то они и страшны – они сами своей низости не осознают. Смягчающее вину обстоятельство, но оно может лишь смягчить, а не отменить приговор.
Доктор. Господин ротмистр, ваши мысли принимают болезненное направление. Остерегитесь.
Ротмистр. Зачем это слово – «болезненное»? Видите ли, любой котел взорвется, когда манометр покажет сто, но показания манометра зависят и от устройства котла. Понимаете? Кстати, вы ведь здесь, чтоб за мною следить. Не будь я мужчиной, я мог бы обжаловать или – хитрое словцо – жаловаться (на что вы жалуетесь?), подсунул бы вам целый диагноз, и даже больше – историю болезни, но я, к сожалению, мужчина, и мне остается, как римлянину, сложить руки на груди, вдохнуть и не выдыхать, пока не умру. Покойной ночи!
Доктор. Господин ротмистр! Если вы больны, вы можете мне все рассказать, ничуть не унизив своего мужского достоинства… Но я должен выслушать и другую сторону.
Ротмистр. Вы, полагаю, довольствовались тем, что уже выслушали ее.
Доктор. Нет, господин ротмистр. А знаете, когда я слушаю, как фру Альвинг оплакивает покойного мужа, я думаю – вот жаль, что покойничек не слышит ее!
Ротмистр. Думаете, будь он жив, ему дали бы слово сказать? И думаете, если б кто из умерших мужей воскрес, ему бы вдруг стали верить? Доброй ночи, доктор. Видите – я совершенно спокоен. Идите-ка мирно спать.
Доктор. Доброй ночи, господин ротмистр. И кажется, мое ремесло здесь бессильно.
Ротмистр. Мы что же с вами – враги?
Доктор. Отнюдь. Жаль только, что и друзьями быть не можем. Доброй ночи. (Уходит.)
Ротмистр (провожает доктора до двери в глубине, потом идет к левой двери, приотворяет ее). Войди! Поговорим! Я же знаю, ты там стоишь и подслушиваешь!
Сцена пятая
Лаура входит, она смущена. Ротмистр садится за бюро.
Ротмистр. Очень поздно. Но надо же нам договориться. Сядь.
Пауза.
Я сегодня был на почте и получил вот эти письма. Из них следует, что ты перехватывала все, что я посылал, и все, что посылали мне. И в результате чуть не загубила все мои труды.
Лаура. Я хотела тебе добра, потому что из-за этих твоих трудов ты пренебрегал службой.
Ротмистр. Не хотела ты мне добра, ибо знала, что эти мои труды в один прекрасный день принесут мне больше чести, чем моя служба, но именно чести-то для меня ты и не хочешь, потому что тогда еще ясней обнаружилось бы твое ничтожество. Далее – я вскрыл письма, адресованные тебе.
Лаура. Благородный поступок.
Ротмистр. Да, ты, оказывается, высокого обо мне мнения. Из этих писем явствует, что ты давно уже начала натравливать на меня друзей, распуская слух о моем умопомешательстве. Старания твои увенчались успехом, и теперь уже все до единого (от начальника моего до кухарки) считают меня помешанным. С болезнью же моей дело обстоит так: разум мой в совершенном порядке, и ты это знаешь, я справляюсь и с обязанностями по службе, и с обязанностями отца; с чувствами своими я тоже могу совладать, покуда не погублена моя воля; но ты так старательно и неотступно ее губишь, что того гляди откажут сцепленья, и взлетит на воздух весь механизм. Не стану взывать к твоим чувствам, чувств у тебя нет никаких, но подумай о твоих же интересах.
Лаура. Позволь узнать, в чем они состоят?
Ротмистр. Своими происками тебе удалось возбудить во мне подозрительность до того, что у меня мутится сознание и помрачаются мысли. Это признаки надвигающегося безумия, которого ты так ждала и которое вот-вот обрушится на меня. Но тут встает вопрос: что тебе выгодней – чтобы я заболел или нет? Подумай! Если я сойду с ума, я лишусь места, и вы останетесь на мели. Если умру – вы получите мою страховую премию. Но если я покончу с собой – вам не достанется ничего. Так что в твоих же интересах, чтобы я умер своей смертью.
Лаура. Это что – западня?
Ротмистр. Разумеется! Сама выбирай – сунуться в нее или обойти!
Лаура. С собой покончишь, говоришь? Никогда ты с собой не покончишь!
Ротмистр. Ты в этом убеждена? Думаешь, можно жить дальше, когда не для кого и не для чего?
Лаура. Капитулируешь?
Ротмистр. Нет, предлагаю мир.
Лаура. На каких условиях?
Ротмистр. Не своди меня с ума! Избавь от подозрений, и я складываю оружие.
Лаура. От каких подозрений?
Ротмистр. Насчет рождения Берты.
Лаура. Разве есть у тебя подозрения?
Ротмистр. Да, есть, и ты сама посеяла их.
Лаура. Я?
Ротмистр. Да, ты легонько влила их в меня, как капают капли белены в ухо, обстоятельства же способствовали тому, что они разрослись. Избавь меня от неизвестности, скажи прямо и честно, да, так, мол, и так, и я заранее тебя прощаю!
Лаура. Не могу я брать на себя несуществующую вину.
Ротмистр. Что тебе стоит, ведь ты же знаешь, я никому тебя не выдам. Не станет же человек сам трубить о своем позоре.
Лаура. Скажи я – нет, это неправда, – и ты ведь не уймешься. Ты избавишься от подозрений только тогда, когда я скажу, что это правда. Значит, ты сам хочешь, чтоб это была правда?
Ротмистр. Странно, но все, вероятно, оттого, что первого не докажешь и можно доказать лишь второе.
Лаура. Есть у тебя повод для подозрений?
Ротмистр. И да и нет.
Лаура. Кажется, ты хочешь изобличить меня, чтоб от меня отделаться и получить нераздельную власть над ребенком. Нет, в эту ловушку тебе меня не заманить.
Ротмистр. Неужели ты думаешь, что, убедившись в твоем грехе, я оставил бы себе чужого ребенка?
Лаура. Да, я в этом уверена. И ты лгал мне, будто заранее меня прощаешь.
Ротмистр. Лаура, спаси меня, пожалей, избавь от безумия. Ты не понимаешь, что я тебе толкую. Если ребенок не мой, я не имею на него никаких прав и не желаю иметь – а ведь тебе того и надо. Верно? Но, быть может, ты хочешь еще чего-то? Хочешь иметь власть над ребенком, но чтобы я его по-прежнему обеспечивал?
Лаура. О – власть! Из-за чего же и бьемся мы не на жизнь, а на смерть, как не из-за власти?
Ротмистр. Для меня, не верующего в вечную жизнь, дочь была будущей жизнью. В ней – вся моя вечность, весь смысл сущего. Отними ее у меня – и жизнь моя кончена.
Лаура. Отчего мы вовремя не расстались?
Ротмистр. Оттого, что нас связывала дочь; но узы стали цепью. Как? Когда? Я прежде об этом не задумывался, но вот встает одно воспоминание – и в нем обвинение, может быть, приговор. Мы были женаты уже два года, но оставались бездетны, и тебе, как никому, знать – отчего. Но вот я заболел и лежал при смерти. Как-то сквозь забытье услышал я голоса рядом, в гостиной. Ты говорила с адвокатом, речь шла о моем имуществе – оно у меня еще было тогда. Он объяснил, что ты ничего не получишь в наследство, раз у нас нет детей, и справился, не беременна ли ты. Ответа твоего я не расслышал. Потом я выздоровел, и родился ребенок. Кто его отец?
Лаура. Ты!
Ротмистр. Нет, не я! Здесь-то и зарыт грех, и уже начинает смердеть. Грех омерзительный! Черных рабов у вас хватило гуманности освободить, а белых вы держите! Я, как раб, трудился на тебя, на твоего ребенка, твою мать, твоих слуг, пожертвовал призванием, поприщем, сносил бичевания, пытки, не спал ночей, дрожа за ваше благополучие, у меня поседели волосы; и все – чтобы ты могла жить без забот и под старость насладиться новой жизнью в своем ребенке. И я не жаловался. Ведь себя я считал этому ребенку отцом. Вульгарнейшее воровство, грубейшее злоупотребление рабовладельца! Семнадцать лет каторги без всякой вины – чем ты искупишь их?
Лаура. Нет, ты совершенный безумец!
Ротмистр (садится). На это ты и делаешь ставку. Я-то видел, как ты старалась скрыть свое преступленье. Я жалел тебя, не понимая твоей печали; я успокаивал твою совесть, а сам думал, будто разгоняю химеры; сам того не желая, я слышал, как ты кричала во сне. Помню, совсем недавно, перед самым днем рождения Берты; был третий час ночи, я сидел и читал. Ты закричала так, будто тебя душат: «Не подходи! Не подходи!» Я постучал в стену, я не хотел больше слушать. Подозрения у меня были давно, я боялся, что они подтвердятся. Вот что я из-за тебя выстрадал. А что ты сделаешь ради меня?
Лаура. Но что же я могу? Клянусь богом и всем святым – ты отец Берты.
Ротмистр. Что пользы в клятвах, ведь сама ты уверяла, что мать ради своего дитяти может и должна пойти на любое преступление. Заклинаю тебя памятью прошедшего, прошу, как просит раненый о смертельной пуле, – открой мне все. Неужто не видишь ты, что я беспомощен, как ребенок, неужто не слышишь, что я, как матери, жалуюсь тебе, я, мужчина и солдат, одним своим словом укрощавший людей и тварей? Я только жалости прошу, как больной, я слагаю все знаки власти и молю даровать мне жизнь!
Лаура (подходит и прикладывает ладонь к его лбу). Как! Ты – мужчина – плачешь?
Ротмистр. Да, я плачу, я, мужчина. Разве нет у мужчин глаз? Разве нет у него рук, ног, склонностей, чувств, страстей? Разве не той же он кормится пищей, не тем же бывает оружием ранен, не так же точно ощущает жар летних дней и холод зимних, как женщина? Если вы режете нас, разве не истекаем мы кровью? И когда щекочете, разве мы не хохочем? И когда отравляете – не умираем? Почему мужчине не сетовать? Почему не плакать солдату? Это не по-мужски! Господи, да почему же?
Лаура. Плачь, деточка, плачь, мама твоя опять с тобой. Помнишь – я ведь сначала вошла в твою жизнь как вторая мать. В твоем мощном теле жил хилый дух, ты был исполинское дитя, слишком рано родившееся на свет или нежеланное.
Ротмистр. Да, да, так и было; отец с матерью не хотели меня, вот я и родился без воли. И мне казалось, что я окончательно состоялся только когда наши жизни соединились в одну. Ты была главной. Я, командир в казарме, над солдатами, подле тебя превращался в послушного нижнего чина, на тебя смотрел снизу вверх, как на высшее существо, и слушался тебя, как малый ребенок.
Лаура. Да, так и было тогда. Оттого-то я и любила тебя, как родное дитя. Но, знаешь ли, ты ведь и сам замечал, всякий раз, когда чувства твои менялись и ты представал предо мною любовником, я мучилась стыдом, и за радостью объятий всегда следовали угрызения совести, будто после кровосмешения. Мать в роли любовницы. Ух!
Ротмистр. Да, я замечал, но я не понимал тебя. Мне казалось, что ты презираешь меня за отсутствие мужественности, и я стремился завоевать твою женственность мужской силой.
Лаура. В том-то и была твоя ошибка. Мать была тебе другом, женщина – врагом; страсть – всегда поединок; не думай, будто я тебе отдавалась; я брала. Но на твоей стороне был перевес, я его чувствовала и хотела, чтобы почувствовал и ты.
Ротмистр. Перевес всегда был на твоей стороне; ты завораживала меня, усыпляла, я ничего не видел, не слышал, я только подчинялся; ты совала мне сырую картофелину и умела убедить, что это персик; свои глупые прихоти ты преподносила мне как гениальные идеи, и я верил; в твоей власти было толкнуть меня на низость, на преступление. С ограниченным твоим умишком ты не слушала моих советов и вечно поступала по-своему. А когда я наконец прозрел и почувствовал себя оскорбленным, я хотел восстановить поруганную честь великим делом, подвигом, открытием или хоть благородным самоубийством. Хотел пойти на войну – не вышло. Тогда-то я и окунулся в науку. И вот, когда мне осталось только протянуть руку к плоду, ты ее обрубаешь. Я обесчещен, я не могу больше жить, мужчина не может жить без чести.
Лаура. А женщина – может?
Ротмистр. Да, оттого что у нее есть дети, у него же их нет. Мы с тобой, как и другие, жили несмышленышами, тешась глупыми фантазиями и выдумками. И вот очнулись; оно бы и хорошо; но, очнувшись, мы оказались вверх ногами, и разбудил нас сумасшедший лунатик. Когда женщина старится, перестает быть женщиной, у нее на подбородке прорастают волоски. Интересно, а что у нашего брата прорастает, когда он перестает быть мужчиной? Прежний петел, глядишь, заделался каплуном, на его приветствие заре отзываются пулярки, и когда пора бы уж взойти солнцу, мы мирно сидим под лунным светом средь развалин как ни в чем не бывало. И никакого нет пробуждения – один предутренний кошмар.
Лаура. Тебе бы сочинителем быть!
Ротмистр. Кто знает?
Лаура. Ну а теперь мне спать хочется. Так что прочие свои фантазии оставь до утра.
Ротмистр. Подожди – еще одно слово – из области реального. Ты меня ненавидишь?
Лаура. Иногда. Когда ты – мужчина.
Ротмистр. Расовая ненависть. Если и впрямь мы произошли от обезьян, то, вероятно, от двух разных видов, до того мы непохожи, не так ли?
Лаура. Что ты хочешь этим сказать?
Ротмистр. Я знаю, в этой борьбе один из нас погибнет.
Лаура. И кто же?
Ротмистр. Разумеется, слабейший.
Лаура. И прав сильнейший?
Ротмистр. Прав всегда тот, в чьих руках власть.
Лаура. Значит, права я.
Ротмистр. Разве власть уже в твоих руках?
Лаура. Да, и власть законная, потому что завтра над тобой учредят опеку.
Ротмистр. Опеку?
Лаура. Да! И я смогу воспитывать свою дочь сама, не прислушиваясь к твоему бреду.
Ротмистр. И кто же обеспечит воспитание, если меня не будет?
Лаура. А пенсия твоя на что?
Ротмистр (грозно надвигается на нее). И каким же образом ты меня отдашь под опеку?
Лаура. (вынимает письмо). На основании этого вот письма. Заверенная копия уже подшита к делу.
Ротмистр. Какое еще письмо?
Лаура (пятится к двери налево). Твое! Твое собственное признание врачу, что ты безумен!
Ротмистр оцепенело смотрит на нее.
Вот ты и выполнил свое необходимое – увы! – предназначение отца и кормильца. Больше ты нам не нужен и должен уйти. Должен уйти, раз ты убедился, что умишко мой ничуть не слабее моей воли, раз не захотел признать это и остаться!
Ротмистр идет к столу, хватает горящую лампу и швыряет в Лауру;
та, все так же пятясь, исчезает за левой дверью.









































