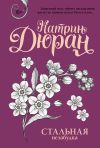Текст книги "Голодная дорога"
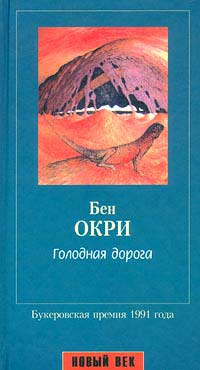
Автор книги: Бен Окри
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Вернувшись домой, я сел у двери и не стал играть с другими детьми. Я чувствовал себя совсем разбитым и не заметил, как день стал вечером. Появились москиты и светлячки. В комнатах зажглись лампы. Мужчины говорили о политике, о Партии Бедных. Они тоже недавно заявились к нам со своими рупорами и листовками, обещали много хорошего и получили внушительную поддержку, потому что сказали, что никогда не отравят людей.
Когда вернулась Мама, было уже темно. Она выглядела осунувшейся и потемневшей от солнца. Она прошла в комнату, бросила поднос с товарами, легла на кровать и, пролежав какое-то время совершенно не двигаясь, уснула. Я подогрел еду и подмел пол. Проснувшись, она выглядела лучше. Она села за стол и поела. После еды она снова легла в кровать, а я сел на папин стул и стал смотреть на дверь. Мама молчала. Я сказал ей, что видел Папу; она стала ругать меня за мои прогулки, но долго ругать не смогла из-за усталости. Лежа на кровати, она монотонным голосом говорила о том, какая тяжелая штука жизнь, и я внимательно ее слушал, только сейчас начиная понимать, что она имеет в виду. Так мы лежали в полной тишине, поджидая, когда вернется Папа.
– Что сказал отец, когда он тебя увидел? – спросила она наконец.
– Ничего.
– Как он мог ничего не сказать?
– Он ничего не сказал.
– Ты не видел его.
– Я видел.
– Где?
– В гараже.
Мы продолжали ждать и не спали, клюя носом до самой утренней зорьки, когда небо стало освещаться. Мама стала волноваться.
– Что же такое с ним случилось? – спросила она.
– Я не знаю, – ответил я.
Она стала плакать.
– Ты уверен, что ты видел его?
– Да.
– Все ли с ним хорошо? Он говорил с тобой? Что он сказал? Я молюсь, чтобы с ним ничего не случилось. Что я буду делать, если с ним произойдет что-то плохое? Как я буду жить дальше? Кто будет заботиться о тебе?
Она продолжала все в таком же духе, говоря, задавая вопросы, бормоча что-то, переходя на всхлипывания, и я вдруг заснул. Когда петушки своими криками раскокали красноватое яичко зари, Мама встала с кровати, умыла лицо и стала готовиться искать Папу по полицейским участкам и госпиталям всего мира. Она только-только поставила мне еду, когда в дверях появился Папа. Он выглядел ужасно. Он был похож на изможденный призрак, дух несчастья. Глаза красные, лицо белое и искаженное, борода всклокоченная, на бровях следы засохшего цемента и ямса. Он все это время не мылся, и я вдруг понял, что всю ночь он слонялся по улицам. Папа отвел от меня глаза, и Мама ринулась к нему на шею, обхватывая ее руками. Он уклонился, и Мама сказала:
– Где ты был, мой муж? Мы так беспокоились…
– Не задавай мне вопросов, – рявкнул Папа, отталкивая от себя Маму.
Он пошел и сел на кровать, испачкав ее присохшей грязью. Он быстро моргал. Мама засуетилась возле него, пытаясь понять, что ему нужно, и быстро приготовила ему еды. Папа к ней не притронулся. Она вскипятила ему воду для умывания. Он не шелохнулся. Она нежно дотронулась до него, и Папа взорвался:
– Не беспокой меня, женщина! Не надоедай мне!
– Я не хотела…
– Оставь меня одного! Может ли мужчина делать, что он хочет, чтобы женщина его не трогала? У меня есть право делать то, что я хочу! Ну и что с того, что меня не было всю ночь? Ты думаешь, я ничего не делал? Я размышлял, ты поняла, размышлял! Поэтому не приставай ко мне, как будто я был с другой женщиной…
– Я не сказала, что ты был с…
В этот момент с Папой случился прилив ярости, и он смахнул тарелки с едой, перевернул общий стол, сорвал с кровати покрывала и расшвырял их по комнате. Они полетели на меня, закрыв мне лицо. Я так и стоял, с покрывалом на лице, пока Папа изливал свой гнев. Мама закричала и затем проглотила крик. Я услышал, что Папа бьет ее. Я увидел, что Папа схватил ее за голову, пнул ногой стол, затряс Маму, толкнул ее, затем потащил, и ее руки опустились, она поддалась его силе, и когда я вскочил и напал на него, он отбросил меня так, что я упал на его ботинки и ушиб себе заднее место. Я затих. И затем внезапно Папа прекратил бить ее. Он остановил руку на полпути и затем попытался обнять Маму. Он крепко прижал ее к себе, пока она всхлипывала, трясясь всем телом. Папа тоже трясся, и он отвел ее к кровати, уложил и обнял, и долго они оставались в таком положении, не двигаясь, неуклюже обнявшись. Я слышал, как снаружи кукарекал петух. Соседи собирались на работу. Плакали дети. Женщина-пророк из новой церкви призывала всех покаяться. Муэдзин пронзал рассвет горячим призывом к молитве. Папа шептал:
– Прости меня, жена моя, прости меня.
И Мама, всхлипывая, трясясь, тоже шептала одно и то же, словно читая литанию:
– Муж мой, я же только беспокоилась, прости меня…
Я встал, вышел из комнаты и отправился к дороге. Я уснул на цементной платформе и спал, пока Мама не разбудила меня. Когда я вернулся в комнату, Папа уже спал на кровати с открытым ртом, и его нос то становился острым и костенел, то снова обмякал.
Я лежал на своем мате и в этот день не пошел в школу. Мама лежала с Папой до полудня и только потом пошла на рынок. Когда я проснулся, Папа все еще был в кровати. Он спал со страдальческим лицом.
* * *
Тем вечером к нам снова приехал фургон злодеев-политиков. Женщины, дети и безработные мужчины нашего района ходили взад и вперед по поселку, как будто должно было произойти что-то ужасное. Весь народ высыпал на улицу. Я пошел через дорогу к студии фотографа и смотрел на фургон злодеев, которые нас отравили. Они рокотали через громкоговоритель страстными речами. Мы слушали в тишине политиков гнилого молока. Мы слушали, как они сваливали на другую партию всю вину за плохое молоко. Мы слушали, как они утверждали с неподдельной свирепостью, что это все подстроили их соперники, Партия Бедных.
– ОНИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА МОЛОКО, НЕ МЫ. ОНИ ХОТЯТ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ НАС, – кричал громкоговоритель.
Мы нашли это заявление очень странным, потому что с фургона на нас смотрели те же лица, которые приезжали и в первый раз. Мы узнали их всех. Сейчас они приехали с мешками гарри, но громил стало вдвое больше. Они стояли с мешками гарри, с кнутами и дубинками, готовясь к благотворительности и войне одновременно.
– МЫ ВАШИ ДРУЗЬЯ. МЫ ПРОВЕДЕМ ВАМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ПЛОХИЕ ДОРОГИ, НЕ ХОРОШЕЕ МОЛОКО, Я ИМЕЮ В ВИДУ ХОРОШИЕ ДОРОГИ, А НЕ ПЛОХОЕ МОЛОКО, – заявляли политики с большим апломбом.
Люди толпились вокруг фургона. Фотограф бегал со своей камерой. Он пока не делал снимков, но казалось, что он полностью избавился от голода и лихорадки. Громилы протягивали мешки с гарри, но никто уже не спешил их принимать. Люди молча скапливались вокруг фургона. Казалось, что какое-то послание передается из уст в уста. В этой тишине нарастало что-то зловещее.
– ВЕРЬТЕ НАМ! ВЕРЬТЕ НАШЕМУ ЛИДЕРУ! ВЕРЬТЕ НАШЕМУ ГАРРИ! НАША ПАРТИЯ ВЕРИТ В ТО, ЧТО ГАРРИ – ЭТО ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ И…
– ЛОЖЬ! – крикнул кто-то из толпы.
– ВОРЫ! – сказал другой.
– ОТРАВИТЕЛИ!
– УБИЙЦЫ!
Четыре голоса пошатнули безраздельную власть громкоговорителя. Политик, едва начав свой поток обещаний, сбился. Громкоговоритель издал высокий пищащий звук. Людей вокруг фургона становилось все больше и больше. Они молча шли за фургоном, пока тот двигался, женщины с презрительными голодными лицами, мужчины со сдвинутыми бровями. Громилы попрыгали из фургона и один из них сказал:
– КТО ЭТО НАЗВАЛ НАС ВОРАМИ?
Никто не ответил. Глаза громил уставились на фотографа. Его камера была подозрительной. Один из громил двинулся к фотографу, и в это время политик прокричал через рупор:
– МЫ ВАШИ ДРУЗЬЯ!
Затем он повторил эти слова с другими интонациями, обращаясь к сентиментальным чувствам. В тот же самый момент громила ударил фотографа так, что из носа у него потекла кровь. Никто не шевельнулся. Громила снова замахнулся, но фотограф с криком отбежал в толпу, затем мужчины стали предлагать всем лотки с гарри, политик продолжил свои заявления, когда внезапно камень разбил одно из окон фургона и ярость рассерженных людей перелилась через край. Несколько рук метнулись к фургону и кто-то ударил политика по голове. Его крик, усиленный, прошел через громкоговоритель. Водитель завел мотор, рванул вперед и сбил женщину. Фотограф снял этот момент. Женщина завыла, и мужчины принялись кидать камни, разбив оба окна и ветровое стекло. Толпа устремилась к бамперу машины, не пуская ее вперед. Охрана попрыгала из фургона и стала избивать людей дубинками, фотограф лихорадочно делал снимки, а люди продолжали кидать камни в окна, пока все их не перебили, а затем набросились на мужчин, державших в руках гарри. Мужчины начали кричать, на их лицах появилась кровь; политик призвал к спокойствию, но кто-то из толпы крикнул:
– Кидай в них камни!
– ПОДЖИГАЙ ФУРГОН! – крикнул другой.
Громилы продолжали махать дубинками, пока на них не ринулась толпа. Женщины с особой мстительностью разбивали об их головы деревянные палки и дубины. И одна маленькая женщина, трое детей которой особенно пострадали от отравления, бежала через улицу с криком:
– РАССТУПИСЬ! РАССТУПИСЬ! Я их сейчас оболью кипятком.
Толпа освободила ей путь, и она с размаху выплеснула ведро кипятка на громил, прятавшихся за фургоном; те заорали и побежали врассыпную, спотыкаясь о мешки с гарри, и когда громилы падали, толпа била их дубинками и кнутами, а когда бежали, их преследовали и бросали в них камни. Громилы мчались с криками о пощаде, но никто их не слушал, и в них летели камни. Громилы были все в крови. Особые отряды преследовали их, и громилы убегали в болота и топи, по пояс увязая в грязи и мерзкой водице, или исчезали в диком лесу; отряды возвращались назад с утоленной яростью.
В фургоне остался один водитель. Месть так разожгла людей, что мы решили наказать и машину, громя ее, колошматя, отрывая оловянные и алюминиевые части железками и дубинками. Машина не издала ни стона. Распевая чанты и скандируя проклятья, мы собрались вместе, слили воедино нашу энергию, подняли машину и перевернули ее набок; с проворством подопытного таракана водитель выбрался из кабины и стал единственным, кто избежал избиения, сразу же побежав по улице к бару Мадам Кото, где ему было предоставлено неприступное убежище.
Фургон так и остался перевернутым. Ночью люди то и дело подходили к нему, срывая на нем бессильную злобу. Они не успокоились даже, когда в поселок въезжал грузовик с полицейскими, вооруженными пистолетами и дубинками. Кто-то просунул в бензобак дымящуюся головню, и ночь осветилась желтой иллюминацией как раз в тот момент, когда полицейские, отдавая команды и свистя в свистки, попрыгали с грузовиков. Они стояли вокруг и беспомощно смотрели, как взорвался и начал гореть фургон. Они опросили нескольких человек, но те сами только что пришли, проснувшись из-за взрыва, никто ничего не видел и не слышал, но полиция все же арестовала пять человек подозреваемых. Горящий фургон корчился на земле в последних конвульсиях. Всю ночь он дымился, но пожарная команда так и не приехала потушить пламя. Когда полиция стала уводить людей для допроса, мы увидели, что среди них находится наш фотограф. Ему удалось избавиться от главного свидетеля – своей камеры. Он выглядел браво и без страха в глазах. Он помахал нам, когда его вели в грузовик.
* * *
Сожженный фургон долго оставался на улице. Ночью пришли тени и растворили машину, Однажды утром мы обнаружили, что он поставлен на колеса, как будто ночь попыталась его отогнать. Дети нашли себе новую игрушку. Мы учились водить машину, неистово крутя руль, совершая долгие путешествия в бесплодную страну фантазий.
Дождь барабанил по крыше фургона, яркая краска поблекла от солнца и пыли, и через какое-то время большие буквы эмблемы партии окончательно стерлись, и ничто уже не могло спасти машину от забвения. Это было незадолго до того, как она совсем исчезла с улицы, но исчезла не потому, что ее больше не стало или солнце растворило ее, а просто потому, что мы совсем перестали ее замечать.
Фотографа выпустили через три дня после ареста. Он рассказал, что в тюрьме его пытали. Он стал говорить еще громче и казался еще более бесстрашным. Тюрьма изменила его, и вокруг него появилась аура нового мифа, как будто за то короткое время, пока его не было, он открыл для себя новую героическую роль. Когда он вернулся, вся улица собралась у его дверей приветствовать его как героя. Он рассказывал истории о том, как он сидел, как пережил зверские пытки, которые применялись к нему, чтобы он выдал сообщников, главных бунтовщиков, всех, мешающих стабильности Правительства Империи, и врагов партии. От его историй у нас кружились головы. Люди несли ему пальмовое вино, огогоро, орехи кола, каолин, и он смог бы выбрать себе несколько жен из слушавших его с восхищенными лицами женщин, если бы уже не создал о себе миф, который отрицал такие опрометчивые поступки. Я побродил вокруг студии, прислушиваясь к взрослым, говорившим в торжественных тонах и всю ночь пропьянствовавшим, празднуя триумфальное возвращение фотографа. Даже Папа зашел к нему засвидетельствовать свое почтение.
* * *
Утро принесло нам много радости. Все были в воодушевлении. Все мы, привыкшие получать свежие новости о стране только в форме слухов, сейчас буквально вцепились в свежий номер газеты, как будто за ночь газетная бумага приобрела небывалую ценность. Только придя из школы, я понял причину всего этого возбуждения. Дело было в том, что впервые в жизни мы появились в газете. Мы стали героями нашей собственной драмы, героями своего протеста. Везде были снимки мужчин, женщин и детей, беспомощно стоящих вокруг куч с сухим молоком. Также были фотографии нашего гнева, как мы атакуем фургон, поднимаем настоящий бунт против дешевых методов политиков, унижаем их громил, сжигаем их ложь. Снимки фотографа заняли в газете основное место, и даже кое-где, несмотря на плохое качество печати, можно было различить те или иные лица. В передовице рассказывалась история о плохом молоке и нашем бунте. Мы пребывали в изумлении от того, что наш стихийный протест, совершенно неспланированный – то, что произошло в нашем маленьком уголке великого глобуса, нашло такой большой отклик. Многие из нас провели вечер, пытаясь узнать себя среди этих яростных лиц.
Мама была хорошо узнаваема. Десять миллионов людей видели ее лицо, хотя никогда не встречали ее в своей жизни. На голове она несла ведро с гнилым молоком; плохая печать исказила ее красоту, превратив в какого-то монстра, но когда она вечером вернулась с рынка, люди собрались в нашей комнате и стали говорить о ее славе, как она должна ею воспользоваться, чтобы лучше продавать свой товар. Они говорили о громилах, которые угрожали всем ужасными репрессиями, и о лендлорде, который был возмущен тем, что его жильцы приняли участие в нападении на активистов его любимой партии.
Большинство из нас были польщены тем, что увидели себя на передовых полосах национальной газеты, но ничто нас так не сразило, как снимок самого фотографа с напечатанным его именем. Мы снова и скова указывали на его имя и все ходили поздравлять его. В тот вечер он находился в очень приподнятом настроении, расхаживал от места к месту в сопровождении волнующейся толпы простых смертных и говорил о национальных событиях как о чем-то обыденном. Он зашел в наш барак и везде его приветствовали, а сам он громко смеялся и весело пил. Но ни его слава, ни выпитый алкоголь не отшибли ему память, и он напоминал нам, что все мы должны ему деньги за фотографии.
* * *
Когда Папа возвратился с работы и узнал про мамину фотографию в газете, он был рад за нее, но им овладела ревность. Он сказал, что она выглядит как истощенная ведьма. Но тем не менее он вырезал страницу из газеты и повесил ее на стену. И теперь, закуривая сигарету, он смотрел на снимок и говорил:
– Твоя мать стала знаменитой.
Фотограф в конце концов дошел и до нашей комнаты, и Папа послал меня купить выпивку. Когда я вернулся, фотограф бродил по комнате уже навеселе, залезал под стул, щелкал воображаемой камерой, разыгрывал в ролях политиков и громил, так что Папа и Мама чуть не падали со смеху. Он очень сильно напился и, раскачиваясь на нашем стуле, приговаривал:
– Я теперь Международный Фотограф.
Он рассказал нам, как много он стал получать заказов с тех пор, как стал знаменитым; люди, которые приветствовали его, теперь хотят, чтобы он сфотографировал их, их хижины и бараки, грязные задворки, заставленные комнаты, их детей и жен, в надежде, что он когда-нибудь опубликует снимки в газете. Фотограф окончательно напился и свалился с папиного стула. Мы снова усадили его. Он что-то говорил и вдруг начинал дремать с открытым ртом. Потом резко просыпался и, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ с того места, где он заснул.
Он сидел у нас, прислонившись к стене, под самым окном. Его худое лицо, возбужденные глаза, костистый лоб, остро выдающиеся челюсти вместе с его энергичными жестами создавали впечатление, что он тоже принадлежит нашей комнате, что он такой же член нашей голодной и непокорной семьи.
Он говорил, вдруг его становилось не слышно. Его рот двигался, но слова звучали очень тихо. На столе мерцала свеча. Я был смущен этим явлением.
– Согрейте еду для Международного Фотографа, – сказал Папа с большой теплотой.
Я пошел с Мамой на двор. На всех мы приготовили эба и горшок с мясом. Когда мы пришли в комнату, фотограф спал на полу. Мы разбудили его, и он продолжил разговор, начало которого было нам неизвестно. Он поел с нами, отказался от выпивки, поблагодарил, помолился за нас и, качаясь в дверях, сделал заявление, которое сильно тронуло нас.
– Вы – моя самая любимая семья в поселке, – сказал он.
И затем вышел в ночь. Мы с Папой проводили его до студии. Они с Папой обменялись рукопожатиями, и мы пошли обратно. Папа молчал, но выглядел гордым, высоким и несгибающимся под тяжким грузом воспоминаний. Когда мы проходили мимо сгоревшего фургона, Папа остановился и стал изучать его остов в темноте. Потом он тронул мою голову, вливая в меня новые силы, и сказал:
– За праздником всегда идут беды. Беда движется на наш поселок.
Глава 10На следующий день я пришел домой после школы и нашел рядом с фургоном странных людей. Среди них был наш лендлорд. Он бешено жестикулировал, показывая на все дома по нашей улице. Другие мужчины в темных очках выглядели очень подозрительно. Какое-то время мы за ними наблюдали. Они ходили вокруг фургона, возбужденно что-то обсуждая; они потрогали фургон, пнули его, оглядели улицу и затем, покачав головами, пошли в сторону бара Мадам Кото, то и дело оглядываясь назад. После того как они ушли, к фургону подошли несколько людей с нашей улицы и тоже стали его изучать и пинать, как будто, делая это, они надеялись понять, что нужно было этим мужчинам.
В тот же день трое мужчин во французских костюмах появились у дома фотографа. Его там не было, и они постояли у стеклянного шкафа, уставившись на новые снимки, которые он выставил. Они проявили к ним большой интерес и тем самым возбудили и наше любопытство, и мы не могли дождаться, когда же они уйдут. Но они не уходили.
Они были одинаково одеты, на них были темные очки от солнца, и они нервно поглядывали на окружающие дома. Они ждали фотографа долго и очень терпеливо. Они стояли перед его шкафом, не двигаясь, лишь солнце перемещало их тени. Соседи фотографа стали интересоваться этими тремя людьми и послали детей спросить их, не купят ли они у них какую-нибудь еду или легкие напитки. Они ничего не стали покупать; поэтому две женщины с детьми за плечами подошли к ним и стали задавать вопросы и своими жестами привлекли много людей, которые стали собираться вокруг мужчин, так что те смутились и пошли в сторону бара Мадам Кото. Они шли по улице, а я следовал за ними. Оки вошли в бар и каждый заказал себе со стакану пальмового вина.
Я пошел к бараку фотографа и сел рядом со стеклянным шкафом. Через какое-то время я увидел, как фотограф идет к себе, сгибаясь под тяжестью нового мифа, камеры и треножника. Я побежал навстречу, чтобы сказать ему, что его ждали трое мужчин.
– Меня? Зачем это? – спросил он, поворачивая назад.
– Я не знаю, но люди из вашего барака доставили им неприятности.
– Как они выглядели? Может быть, это полицейские?
– Я не знаю. Но они были высокие и в очках.
– Темных очках?
– Очень темных. Их глаз было не видно.
Он заторопился по направлению к главной дороге. Я попытался пойти с ним и взял его за руку.
– Оставь меня.
– Куда вы собираетесь идти? – спросил я.
– Бежать.
– Куда?
– Отсюда.
– А что с мужчинами?
– Какими?
– В темных очках.
– Пусть они ждут меня. Когда они уйдут, тогда я приду.
И затем он пустился бежать, украдкой озираясь во всех направлениях, словно вдруг осознал, что окружен видимыми и невидимыми врагами. Он бежал по улицам зигзагами, ныряя под крыши. Он пробивал себе путь из квартала в квартал, крадучись, со своим треножником, неуклюже качавшимся впереди него, пока не исчез совсем.
Я пошел обратно в поселение, сел и стал наблюдать за домом фотографа. Трое мужчин так и не появились. Через некоторое время я пошел посмотреть на новые снимки в шкафу. На одних фото громилы избивали женщин на рынке, на других был изображен лидер Партии Гнилого Молока с разных ракурсов: его лицо выглядело опухшим, глаза навыкате, рот жадный.
Были выставлены также фотографии политиков, спасавшихся от града камней; фотографу удалось схватить момент их паники, трусости и унижения. Также там были фотографии прекрасных девушек, хора мальчиков и деревенского доктора, стоящего перед своим покосившимся святилищем.
Я долго смотрел на фотографии и очень устал; солнце было безжалостно к моим мозгам, прожигая мне голову через волосы и кожу черепа и превращая мои мысли в теплое желтоватое пятно. Я пошел и сел рядом с нашей дверью, не зная, что делать дальше, потом я решил сходить на рынок поискать Маму.
Пока я шел по улице под неусыпным оком безжалостного солнца, я видел голых детей, изможденных стариков с венами, набухшими на лбу, и мне стало страшно от чувства, что нет на земле места, где можно укрыться от тяжести этого мира. Всему были нанесены жестокие раны. Везде были эти безнадежные хижины, лачуги, покрытые ржавым цинком, мусор на улицах, дети в лохмотьях, голые маленькие девочки, играющие в песке со смятыми консервными банками, необрезанные мальчики, прыгающие вокруг, издавая звуки автоматной очереди, воздух, вибрирующий от ядовитого жара и испарений воды из гниющих канав. Солнце обнажило реальность нашей жизни, и все выглядело таким горьким, что чудом казалось то, что люди могут еще понимать и заботиться друг о друге.
Я прошел мимо дома, где кричала женщина. Вокруг ее комнаты собрались люди. Я подумал, что ее избили громилы, но узнал, что она уже три дня и три ночи как не может родить. Я задавал слишком много вопросов, и взрослые, увидев, что я еще совсем мальчик, прогнали меня. Я пошел дальше в своих скитаниях, не зная ничего, кроме того, что я хочу увидеть Маму. Каждая торговка, попадавшаяся мне, казалась мне Мамой. По пути было так много торговок и все они продавали одни и те же вещи, что я не мог понять, как Мама может что-то продать в этой пыли под этим солнцем.
Я шел уже долго, дорога жгла мне ступни, в горле у меня пересохло, и голова раскалилась, когда я дошел до рынка. Везде стояли столики с товарами. Воздух наполняли запахи и ароматы рынка, пахли подгнившие овощи, свежие фрукты, сырое мясо, жареное мясо, пахучая рыба, перья диких птиц и чучела попугаев, плавали запахи жареной кукурузы и свежеокрашенных одежд, коровьего навоза и арабской парфюмерии, ростки перца обжигали глаза и щекотали ноздри. И сколько было здесь запахов, столько же было голосов, громких и сталкивающихся в воздухе. Женщины с подносами больших сочных помидоров, ведер с гарри или с кукурузой, или с семенами дыни, продававшие разные безделушки, пластиковые ведра и крашеные одежды, мужчины, продававшие коралловые украшения, деревянные расчески и панцири черепах, веревочные жилеты, штаны из хлопка и тапочки, женщины с москитными угольками, магическими зеркальцами любви, лампами-молниями, листьями табака, с образцами одежд на столиках, поставленных рядом с торговцами свежей рыбой, и все теснилось друг к другу, заполняя любое свободное место, громоздясь в фантастическом беспорядке. Отовсюду звучала брань, сборщики ренты ругались с женщинами, возчики тележек кричали людям, чтобы те убирались с дороги, а маламы* с козлами на привязи молились на белых матах, склоняясь под солнцем, перебирая свои четки. Земля промокла от грязи и раздавленной еды, вокруг бегали почти голые дети. Женщины были одеты в выцветшие юбки и грязные блузки; страдальческие лица торговок были похожи на мамино, и их голоса были сладкие и грубые одновременно: сладкие, когда надо было привлечь покупателей, грубые, когда ругались. Я шел по рынку, сбитый с толку этим многоголосьем, ведь каждый из голосов мог быть голосом Мамы, а каждое из лиц могло быть ее лицом, и я видел, что мамины усталость и жертвенность были не только ее, но и всех женщин на этом рынке.
* Малам – грамотный, образованный человек; учитель.
На перекрестке путей разыгралась драка. Мужчины кричали, столики были перевернуты, лаяли собаки, палки свистели в воздухе, воняло рыбой и летали скопища мух. Столько мух я нигде еще не видел, и было странно, что я их не вдыхаю. Я шел от столика к столику, и моя голова едва доставала до разложенных товаров, иногда я утыкался глазами в мертвые глаза рыбины, в ведра, где большие крабы и гигантские омары запутались в неразберихе клешней, в корзины, где меч-рыбы и угри били хвостами по алюминию. Я везде искал Маму, пока мои глаза не стали болеть от разнообразия предметов, и голова не начала кружиться от напряжения. И затем, когда солнце стало клониться к вечеру, мной овладела странная паника. В хаосе мироздания я не мог увидеть ни одного знакомого лица. Но внезапно, в чередовании света и темноты, я везде стал видеть Маму. Я видел, как она корчится на подносе с угрями. Я видел ее среди черепах в пластиковых ведрах, на амулетах у продавщиц магических товаров. Я видел ее на всем рынке, под странными навесами, в ветре, который нес с собой древесный дым и запахи рисовой сечки; я чувствовал ее везде, не в силах разгадать загадку лабиринтов этого рынка, где одна дорога ведет к тысячам новых лиц, каждое из которых выражает голод так, как свойственно только ему.
Я видел женщин, которые считали деньги и прятали их в набедренные повязки. Детей, на время брошенных без присмотра, кричавших на полу и под столиками. Я брел кругами по пространствам рынка, не в силах выбраться отсюда, и неспособный продолжать движение, потому что у меня болели ступни, и не имея возможности даже остановиться из-за постоянного коловращения толпы – меня продвигали вперед или отбрасывали в сторону, на меня наступали, кричали, и в итоге я окончательно обессилел, сел под столик с улитками и стал беззвучно плакать.
Темнота медленно поглощала день, и я вылез из-под столика и стал пробиваться сквозь толпу, пока не подошел к прилавку, где старик продавал коренья и травы. Это был старик с молодыми глазами голубя и белыми волосами на голове, белыми усами и пепельной проседью в прямой бороде. Его столик был тишайшим местом на рынке. Он одиноко сидел на лавке. Он никого не звал покупать свой товар и никто к нему не подходил. Рядом с ним, разложенные на разноцветных веревках и нитях, лежали желтые и голубые корни, розовые клубни, череп обезьяны, перья попугая, высушенные головы стервятников и ибисов, когти льва, крылья орла и зеркало, которое меняло цвет в зависимости от падавшего на него света. Его столик был чистый; над его причудливыми товарами висел брезентовый тент, запачканный грязью. Если это и был травник, то, должно быть, очень особенный и ученый, потому что, идя к нему, я увидел, что человек в белом с иголочки костюме поклонился ему и вместе они зашли за тент. Там они оставались долгое время.
Я удивленно смотрел на его товары на столе: ржавые стволы камедного дерева, высушенные солнцем красные листья, которые пахли дальними путешествиями, вырезанные корни, грубо напоминавшие части тела, кости в странных сочленениях, семена редких лечебных растений цвета берилла, прозрачные раковины морских животных, высушенные ярко-красные лилии, ягоды, семена аниса и зеленые перышки павлина, ослепительные шарики, похожие на глаза кошки, не высыхающие на солнце, молотый сахарный тростник, сломанные кольца из самых глубин моря и тысяча других диковинок, разбросанных на грязной голубой ткани. Я сел на стул старика и стал ждать. И пока я ждал, услышал, что из-за тента доносятся звуки. Они были такие тонкие, что их могли издавать только духи. Затем звук стал напоминать шум трущихся толстых веревок, а после преобразился в шепот русалок, просеивающих на золотистых берегах рек белые ветра сквозь длинные волосы. Затем раздался крик, похожий на крик страха, переросший в смех. Мужчина в белом пиджаке вышел, весь вспотевший, с маленьким синим мешком за плечом. Старик тоже вышел, но без следов пота. Он поприветствовал меня.
– Я ищу свою мать, – сказал я.
– Кто твоя мать? – спросил он.
– Торговка на рынке.
– А я знаю ее?
– Я не знаю.
– Зачем ты ее ищешь?
– Потому что она моя мать.
Старик присел. Я остался стоять.
– Где ты потерял ее?
– Дома.
– Ты несешь послание?
– Я не знаю.
– Она послала тебя за чем-нибудь?
– Нет.
– Может быть, духи послали тебя ко мне?
– Не знаю.
– А она знает, где ты?
– Думаю, что нет.
Старик пристально посмотрел на меня своими странными глазами. Он взял корешок и повертел его в руках. Затем откусил от него немного и пожевал, раздумывая. Он предложил мне корень. Я взял его, но жевать не стал. Старик изучал меня.
– Знает ли кто-нибудь, что ты здесь?
– Нет.
Он улыбнулся, и на его молодые глаза набежало облако, их цвет изменился. На какое-то мгновение он напомнил мне птицу под колпаком.
– Так зачем все-таки ты ко мне пришел?
– Я не знаю.
Он взял еще один корень, похожий на ребенка с большой головой. Откусил голову ребенка, выплюнул ее, откусил руку и стал жевать.
– Как тебя зовут?
– Лазарус.
– Как-как?
– Азаро.
Он снова посмотрел на меня, словно я представлял из себя какой-то знак.
– Ты хорошо учишься в школе?
– Я ищу свою мать.
– А мать учила тебя чему-нибудь?
– Да.
– Чему же?
– Как полететь на луну на спине сверчка.
Выражение лица старика не изменилось.
– У тебя есть братья и сестры?
– Только на небе.
Он изучал меня, теребя бороду, поглядывая на неугомонный рынок. Потом встал, прошел под свой тент и вышел оттуда с надтреснутой эмалевой тарелкой ямса и бобов. Я был голоден. Несмотря на предостережения Мамы по поводу незнакомцев, я с наслаждением поел. Еда была вкусной. Старик с блеском в глазах наблюдал за мной. Он продолжал вполголоса бормотать заклинания. Я поблагодарил его за еду, и он спросил:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.