Текст книги "Лжедимитрий"
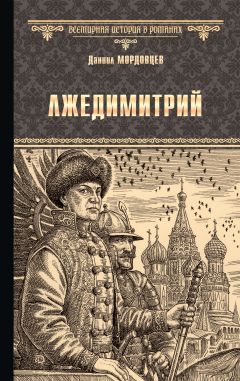
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Даниил Лукич Мордовцев
Лжедимитрий
Роман
Об авторе

Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаровым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).
В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х гг. Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.
С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедимитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.
Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.
А. Москвин
Избранная библиография Д. Л. Мордовцева
«Знамения времени» (1869)
«Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)
«Великий раскол» (1878)
«Наносная беда» (1879)
«Лжедимитрий» (1879)
«Двенадцатый год» (1880)
«Царь и гетман» (1880)
«Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)
«Господин Великий Новгород» (1882)
«Замурованная царица» (1884)
«Видение в Публичной библиотеке» (1884)
«Москва слезам не верит» (1885)
«За чьи грехи?» (1891)
«Державный плотник» (1895)
I. Гришка Отрепьев на Дону
Тихая, теплая весенняя ночь окутывает обрывистый берег Дона и далекое, ровное Задонье. Словно бессонные очи, смотрят с темного неба группы созвездий Кассиопея, Возница – с яркоглазою Капеллою, с трепетно блестящим Альдебараном и Плеядами, отражаясь в темном зеркале спящего, тихого Дона Ивановича. Спит и желто-песчаная отмель-коса, недавно вынырнувшая из-под вешнего разлива вод и просохшая под жаркими лучами неугомонного южного солнца.
Тихо, беззвучно кругом. Лишь иногда, как бы сквозь сон, жалобно пропищит береговой куличок, оберегая как зеницу ока свое песчаное гнездышко с пестрыми крохотными яичками – будущими детками своими, куличатками.
– Славен город Черкасской! Слушай! – раздается в сонной тиши.
– Славен Асавул-город! – отвечает возглас в стороне.
– Славен город Раздоры! – вторит третий.
– Славен Рай-Айдар-город! – этот уже еле доносится откуда-то издалека.
И снова тихо, сонно… Что это за голоса, в ночной тиши славящие Черкасск, Асавул-город, Раздоры, Рай-Айдар-город? И кто оспаривает славу этих городов?
Ночь не отвечает… А бессонные очи-звезды мерцают по-прежнему. По-прежнему куличок от времени до времени пропискивает спросонья свою маленькую жалобу – он и во сне, бедненький, видит своих ворогов лютых, ворон да коршунов, что ищут похитить и расклевать его сокровище, крохотные яичушки.
Медленно двигаются бессонные очи-звезды по темному небу. Медленно идет ночь задумчивая. Медленно катится тихий, сонный Дон Иванович…
– Ночь-то какая благодатная, Господи Боже! Очи твои всевидящи, сый Вседержителю, с умилением и любовию взирают на сие дело рук Твоих, Боже Всесильный… Да, давно я таких ночей не видывал, когда, внимая дыханию Бога в сем тихом плескании воды, в сем благом веянии духа Божия над землею, плакать хочется слезою молитвенною.
– Так-так, чоловиче Божий: се така ничь, що зараз дивчина чернобрива згадуеться, як ото вона выходить до тебе у вишневый садочек, ниженьки свои тоби у шапку ховае, а само, мале, до тебе, козака, тулиться пригортаеться, мов та хмелиночка до явора, так-так… А хиба у вас у Москви не таки ночи?
– Нет, не такие. Холодно там у нас, хмуро, забели ночные… Нерадостно.
– Так-так… У Москви и солнце холодне и небо понуре… А довго ж таки, чоловиче Божий, ты був у того патриархи, у Иона?
– Долго-таки. Возлюбил я книжное дело паче всего мира – прилепилось к нему сердце мое, аки к служению самому Господу. А меня за сие книгочие велие в чернокнижии оговорили.
– Ах вони гаспидови дити!
Темными пятнами вырисовываются в темени ночи две конные фигуры. Это они разговаривают. Слышится мерное туканье копыт о сухую землю.
– Ото дурный москаль! Сам бач соби царем татарина обрав… От дурный.
– А то дурно от дьявола – Божим попущением.
– Та воно не без того… Залив вам чертяка сала за шкуру.
– Бог милостив – разделаемся с Борисом… Лишь бы донские казаки нашу сторону взяли.
– Возьмут! Подончики возьмут. Вони хоч за черта так встануть… абы москалив пошарпати.
– Дай Бог.
В ночном воздухе опять пронесся окрик:
– Славен город Черкасской! Слушай!
– Славен город Асавул-город!
Всадники остановились, один из них сказал:
– Та се ж вони, подончики… тут у их, мабуть… становище.
– А почто они оклики делают?
– Та, мабуть, орды ждут.
– А как они по нас стрелять учнут?
– Ни, мы свиту дождемось, та тоди й у становище заявимось.
И они своротили коней в боярышник, колючие кусты которого местами устилали холмистое побережье Дона.
Немного погодя они вышли из кустов и, прикрываемые береговою кручею, стали прокрадываться к тому месту, откуда доносились оклики часовых.
Снова мертвая тишина. Слышен только шепот Дона – это вода задевает прибрежные камни и словно шепчется с ними. Шепот этот думы наводит и страх – это темная, немая вода говорит, это ее непонятный лепет. А темные тени путников все двигаются вдоль кручи.
«Ги-ги-ги-ги! Го-го-го-го!» – слышится чей-то крик из-за Дона, из лесу.
– Эч бисова сова гогоче!
В это мгновенье что-то зашуршало впереди, словно шаги чуялись. Путники припали к круче, ждут… Восточная окраина неба начинает светлеть.
Впереди, у берега, очерчивается фигура женщины, опирающейся на клюку. Она что-то шепчет. По всему очертанию фигуры видно, что это старуха. Она приближается к самой реке, зачерпывает в ладони воды, дует на нее крестообразно и выплескивает в Дон. Зачерпывает во второй раз и делает то же. В третий раз – опять то же.
– Ух-ух! Водяной дух-дух! Я те спеленала – крестом знаменала, – глухо шамкает старуха. Потом, обращаясь на все четыре стороны и как бы маня кого-то, она продолжает: – Бесы полуденны, бесы полуночны, бесы утрении, послушайте слова Божия!
Она снимает что-то с шеи и, нагнувшись к воде, водит по ней тем, что сняла с шеи… Путники невольно крестятся.
Наконец, старуха поднимается и, вытянув вперед руки, тихо, но внятно причитает:
– Дон ты батюшка! Тихий Дон Иванович! Что течешь ты с заката солнышка ко полудню, ко полуднему граду Ерусалиму, что бегут твои воды со гор горних, со холомов холмленых, со тех ли суходолиев, круты бережечки омываючи, древесные и травесные коренья ломаючи… Ух-ух, водяной дух-дух!.. Омой ты, батюшка, омой ты, Дон Иванович, Донское войско хороброе, оторви ты от рабов Божих, казачушек, ото всего войска хоробраго, оторви всяки болести-хворости от головушек буйных, от очушек ясных, от плечей могутныих, ото всей кровушки казацкие. Во тебя ли, Дон Иванович, я, раба Божия, святой крест макала, молитвы читала, бесов изгоняла… Чур-чур-чур, вы, бесы-дьяволы лукавые, земляные и водяные, ветровые и вихровые, подуманные и погаданные, посланные и наспанные, с водою выпитые, с едою съеденные! Идите вы, бесы, с тихово Дону, идите в поле неведомо, где птицы не поют и звери не воют, где кони не ржут – собаки не лают, где кошка не мяучит, петух не ноет и голосу человескаго слыхом не слыхано…
Восток все более и более брезжется… Предметы становятся явственнее. Предрассветный ветерок шевелит седыми космами волос, выбившимися из-под колпака старухи, который в виде чулка свесился на сторону.
Дитятко мое… сыночек мой рожёный… не нагляделися на тебя глазыньки мои старые, не насытилася тобою душа моя матерняя, дитятко мое, атаманушка… А давно ли, кажись, я тебя на рученьках носила, в зыбочке качала, песни казацкия над тобой певала? Опять уходишь ты от меня – ведешь свое войско хороброе… О-о-хо-хо! Горюшко мое горючее, житье мое плакучее…
– Се мати Заруцького, – шепчет один из путников.
– Так, надо полагать, сам Заруцкий в стане? – шепчет другой.
– Та вже, мабуть, сам.
Старуха скрывается за пригорком.
– От баба так баба! Усих чертив перелякала. У матушку й сынок вдався.
– А что – молодец?
– А то ж! Такий головосика, що чертови й хвист одруба. А из себе мов дивчина гарный.
– А Корела?
– Овва! Се таке маленьке, пыкате та кирпате, та усе подряпане й порубане, а як на коневи – то й чертови тертого хрину пиднесе.
– А нам не лучше ли до коней воротиться?
– Та й вернемось… не забаром и весь стан прокинеться.
И они тихо поползли к своим коням.
Утро наступало быстро. Стрижи уже вылетали из своих маленьких нор, чернеющих в круче, словно пули из дул, и с писком спешили на работу – ловить мух, мошек и всякую иную мелюзгу, для которой и крохотный стриж представляется страшным чудовищем. Вылетало и выползало на работу все живое – летучее, ползучее, красивое и некрасивое… Заговорили кусты, трава, небо, Дон…
Очерчивалась задонская даль – ровная, местами всхолмленная, окаймленная песчаными буграми. Темная поверхность Дона синела все больше и больше. Влево выдвигались меловые горы, вскрапленные темными пятнами, и вершины их уже золотились, словно маковки церквей. Не заставило себя ждать и чародей-солнышко: золотая кисть его скользила по вершинам гор, по верхушкам деревьев, по распущенным крыльям мартына белобрюхого, тоже вылетевшего на работу, – и все оживало и преобразовывалось под этой кистью великого художника. И откуда взялись эти краски, тени, красивые изломы линий, живописные очертания? Кто разом просыпал на землю, на леса, на воды эти миллионы звуков, эту нестройную, но глубоко чарующую разноголосицу жизни, счастья, страданий?
– Тю-тю, москалю! Ха-ха-ха!
– Ты что смеешься?
– Та як же ж не смияться? От москаль! Мов квочка на яйцях, так вин на консви сидит… – Тот всадник, что это говорил, красиво, молодцевато сидел на вороном коне, поглядывая через плечо на товарища. Высокая меховая шапка заломилась набок. Красная верхушка ее горела, точно мак. Из-под шапки, словно грива, свешивался черный чуб, перекинутый за ухо. Смоляные усы висели книзу. Из-за цветной, расшитой яркими шнурами накидки торчали громадные пистолеты, длинные ножи. Широкие плечи перекрещивались ремнями, на которых болтался целый арсенал всякого оружия. Длинное ратище у самого копья перевито красною лентою «из дивочои косы – на не забудь». Голубые, широкие китайчатые шаровары попачканы дегтем и прожжены порохом… А лицо доброе, открытое, с веселыми серыми глазами…
А товарищ его действительно не особенно ловок. Несмотря на богатое польское одеяние, он смотрит каким-то причетником на коне. Длинные руки и длинные ноги как-то не прилажены. Посадка неуклюжая – вся фигура будто сгорбленная. Но лицо умное, задумчивое, сосредоточенное. Черные глаза не скользят, не смеются, как глаза первого всадника, а смотрят глубоко…
– И царевич у вас такий же – не вмие издить верхи?
– Нет, царевич на коне, аки орел.
– Ну, який там орел…
Казацкий стан уже близко. Ржание лошадей невообразимое. Слышен брязг и лязг оружия, возгласы, перебранка, смех. Возы с поднятыми кверху оглоблями сбиты в кучу. Там и сям торчат казацкие пики, воткнутые в землю. У одних древки красные, у других синие. Одни лошади бегут к Дону, на водопой, другие скачут в гору. То там, то здесь взовьется в воздухе аркан. Захлестнутый арканом конь вскидывается на дыбы и снова падает. Крохотные казачата босиком, без шапок бешено кружатся на неоседланных конях. Иной мчится, стоя на спине лошади и дико гикая. Другой скачет лежа, головой к хвосту коня…
– Бисова дитвора – яка ж то прудка! – одобрительно восклицает запорожец, один из ночных путников.
– И не чертовы ж дити?
А там седой как лунь старик, на таком же сивом, как сам, коне, бешено мчится за черномазым крохотным казачонком, который, гикая и звонко смеясь, далеко обогнал старика. Запорожец даже об полы руками ударился:
– От чертине! Мабуть, вчора од материной цицьки видняли, а дида свого перегнало!..
Кое-где виднеются женщины с детьми на руках. Другие крошки цепляются за подолы матерей. Это казачки со своим приплодом – будущими головорезами – пришли проведать кто мужа, кто брата, кто батю, кто деда. А заодно и кашу им сварить: вьются дымки костров…
Чем ближе, тем гвалт неизобразимее. В самой гущине снующего и гудящего на все лады и на все голоса человеческие и нечеловеческие табора казацкого, на высоких древках, веют значки и знамена – то черный осьмиконечный крест на красном полотне с кистями, то белый крестище на черном поле, то конские хвосты, словно змеи, извиваются над всем этим и отдают чем-то диким, угрожающим…
Ночные путники замечены. В таборе как бы все притихает. На пике поднимается шапка и снова спускается. В свою очередь, один из ночных путников, одетый по-запорожски, выкидывает на конце своего длинного ратища белый пух ковыль-травы.
Из табора выскакивают два верховых казака и несутся к путникам. Один из них, старший, с поседелою бородою, осаживает коня на всем скаку, бросает в воздух яйцо и стреляет в него из пистолета. Яйцо разлетается вдребезги.
– Пугу! Пугу! – глухо стонет он филином.
– Казак с лугу! – громко отвечает запорожец.
– С чем?
– С листом от коша.
– Добре. Скатертью дорога к нашему кругу.
Путники и казаки сблизились. Младший, длинноусый казак с русою курчавою бородой и курчавою же головой, с удивлением смотрит на путника в польском одеянии. У того тоже на лице изумление и радость…
– Юша! Ты ли это?.. – говорит первый взволнованным голосом.
– Я, Треня.
– Какими путями к нам на Дон попал?
– Божьим изволением.
– А твоя ряса мнишеская?
– У Господа в закладе.
– Кто ж ты ныне – польский пан?
– Милостию Всемогущаго Бога посол государя царевича и великаго князя Димитрия Иоанновича всея Русии.
Треня даже на седле покачнулся.
– Так жив царевич?
– Жив и здравствует.
– Где же он?
– В благополучном месте.
– Господи! Слухом не слыхано, видом не видано… Как же тебя зовут ныне, по изочеству величают?
– Был я Юшка, Юрий, Богданов сын, Отрепьев, когда с тобой в бабки игрывал и четью-петью церковному учился. После стал черноризцем-мнихом, из Юшки-Георгия возродился во ангельский чин, в старца Григория, а ныне паки Юшкою стал, послом государя царевича к славному войску Донскому.
– Ах, Юша, Юша! А мне все думалось, что ты там в своем Чудове, в келейке своей, все сидишь над Мефодием Патарийским да над Даниилом Заточником – сидишь, аки пчела любодельна.
Голос его дрожал слезами. Задумчивые глаза Отрепьева тоже искрились влагою и теплотою.
Старые друзья обнялись.
– Вот други-приятели сыскались? – заметил старый казак.
– Гай-гай! Москали як раки в торби – зараз перешепчутся, – подмигнул запорожец.
– С Богом! На майдан, во казацкий круг, – громко сказал старший казак.
– Эч, цилуются мов дивчата – ото вже чудна московська впра…
Скоро все четверо скрылись в таборной толпе.
II. Явление Димитрия
Что за жизнь-раздольице на тихом Дону! Что за волюшка-свободушка в казацких юртах, на станичных лугах, на донецких степях! Разливался-расплескался Дон Иванович со полуночной страны к полуденной, заливал он, затоплял он, Дон Иванович, круты красны берега и зеленые луга, поразмыл он, поразметывал рудожелтые пески. День и ночь идет Дон Иванович – не умается, со станицами витается, со станицами прощается: что привет тебе, станица Казанская, что поклон тебе, станица Хоперская, от Хоперской поклон Усть-Медведицкой, от Медведицкой привет станице Качалинской, от Качалинской – Трех-Островинской, а от той идет др Распопинской, и поклон несет Нижнечировской с Курмояровской, с Пяти-Избинской, а земной поклон всего войска Донского славному городу Черкасскому!
Небедно живет тихий Дон Иванович. Вдоволь у него и лесу дремучего, и зверя прыскучего, и птицы летучей, и рыбы пловучей. Вдоволь у него и травушки-муравушки добрым коням на потравушку. Оттого и идут на Дон, как пчелы на цветущую липу, и холоп кабальный, и боярин опальный, купец проторговавшийся, и подьячий проворовавшийся, и конюх царский, и сын боярский – всех принимает тихий Дон Иванович, всех принимает, никого не обижает. Станицы растут, как цветы цветут, и тихий Дон все шумнее и шумнее становится. Расползается вольная земля все вширь и вдаль; повырастали казацкие курени по Хопру и по Медведице, по Базулуку, Иловле, по Донцу, по Чирам и по Айдар-реке. На Волгу перекинулась казацкая вольница, а оттуда и в Сибирь прошла – Сибирь взяла.
– Приобык и я, Юша, к вольной волюшке. Здесь не то что в каменной Москве – рогатины да заставины; здесь казацкая душа словно жемчуг бурмицкой по серебряному блюду перекатывается. А все сердечушко щемит по каменной Москве по родной стороне.
– Что ж, Треня, теперь мы и побывать можем в матушке-Москве.
– Нету, Юша, туда мне путь-дороженька заказана, что печатью мертвой припечатана.
– Почто? Коли царство российское добудем, так и все печати распечатаем.
Треня махнул рукой. Курчавая голова его повернулась к северу.
А из-за соседнего боярышника неслось разудалое пение:
Полюбил Дуню попович молодой,
Сулил Дунюшке червонец золотой:
Червончику Дуне хочется,
А любить кутьи не хочется.
Полюбил Дуню гостиный сын купец,
Посулил Дуне китаечки конец:
Китаечки Дуне хочется,
А любить купца не хочется.
Полюбил Дуню полончик молодой,
Посулил Дуне мякины яровой:
Мякинушки ей не хочется,
А любить донца ух хочется…
– Эх, Юша! Неладно Московское царство скроено, да крепко сшито; по живому разорвется, а не распорется: все порядки те же остаются. Эти порядки, словно рогатина, поперек мне в горле стали.
– Это, брат, ненадолго: рогатину эту вынут скоро.
– Кто это у щуки-то зубы вынет – смельчак такой?
– Да тот, что послал меня.
Треня покачал головой. Русые кудри так и заходили ходенем.
– Как бы во рту у щуки и рука его не осталась, Юша!
– Чья?
– Да того, что в Кракове появился.
– Нет, Треня, не таков он человек.
– Да ты сам-от раскусил его добре?
– Не такой он человек, чтоб его раскусывать; а вижу я, что сам-от он раскусит, аки гнилой орех, Московское царство. Попомни меня.
– Каким же побытом ты на след-то его попал?
– А вот каким… Когда ушел это я из Москвы и сошел в Киев, нашел я там немало московских людей: одни сбежали еще при Иване Васильевиче от грозной его опричнины, других выгнала из родной земли годуновщина. Толкался меж ними и неведомой инок молодой, именем Димитрий. У него на щеке бородавка, и оттого все так его и звали – «чернец Димитрий с бородавкой»… Держался он как-то ото всех поодаль: хорониться не хоронился, а все меж ними другими, словно какая пелена висела, и за пеленой той аки бы еще нечто неведомое таилося. И на лице его, и на очах его пелена сия виделась, словно бы в нем две души было и два человека в его теле обреталося: глянешь в очи ему – и видишь, что из оных, аки из кладезя глубокаго, другой человек смотрит, не тот, что с тобою разговаривает…
Отрепьев остановился и задумался. Курчавая голова Трени тоже раздумчиво оперлась на руку…
Меня матушка плясамши родила,
Меня кстили во царевом кабаке,
А купали во зеленыим вине.
Отец крестный – целовальник молодой,
А мать крестна – Винокурова жена.
А поп-батька – со гудочнаго двора…
Песня переходила в хор, но один женский голос покрывал все.
– Ай да Дуня! – доносилось восклицание.
– Ты смотрел когда-нибудь в открытые мертвые очи? – продолжал Отрепьев, как бы не слыша пения.
– Как? – спросил Треня, не поднимая с руки головы и во что-то вслушиваясь.
– Когда у мертвеца еще не закрыты очи и он смотрит ими, а заглянешь в них и видишь бездну какую-то, и что в этой бездне – не угадаешь, не прочтешь; а есть что-то… Видал?
– Видывал.
– Так и у него, у Димитрия, есть что-то там в глубине кладезя очей… И чудом неким прозрел я в кладезь тот, прозрел не оком, но слухом моим. Единожды молился я во святых пещерах киевских. Тихо было в пещерах и суморочно. Чудилось мне – дыхание некое ходит по аеру-воздуху, тихое веяние крил некиих надо мною, и волосы мои аки живы, встают у корней своих – и трепет нападе на мя. Тени ли то угодников Божиих посещают жилище свое земное, крилы ли ангелов невидимо сметают, аки сметие, прах столетий с нетленных мощей угодников тех – не ведаю; но ужас вечности объял мя, и я лежал, поверженный пред единою ракою священною. И слышу, аки в сонии, тонце глас от раки преподобнаго Феодосия:
«Боже всесильный! Молитвами святых угодников зде лежащих, молитвами великомученика Димитрия Солунскаго, молитвами ангел и архангел и всего невидимаго чина небеснаго, возврати мне, Боже, царство мое, царство отцов и дедов моих, великое царство Московское, Борисом у меня, аки татем нощным, похищенное. Возврати мне, Господи, скифетро мое и престол мой, и державу мою, и венец отцов моих, и прославлю имя Твое святое из конца в конец вселенныя, от истока вод до моря и от вершин гор высоких до пропастей земных, до последних морей и океанов великих. Господи! Клянусь Тебе клятвою великою: я поведу народ мой путем, Сыном Твоим указуемым; я отру слезы вдовицы; прикрою нагое тело нищих земли моея; от стола моего царскаго я напитаю их, алчных и неимущих; последний укрух хлеба я разделю с царством моим; я положу сердце мое в руце народа моего добраго; думу мою царскую я солью с думою народною; изгоню я гнев, и казнь, и кровь из царства моего; я просвещу народ мой светом истины. Всемогущий Боже! И се другая клятва моя великая перед тобою: уврачевав раны царства моего, я поведу его, всю страну мою, весь мой возлюбленный, стара и млада, богата и убога, князя и боярина до последняго смерда и рольника, поведу на врагов твоих, агарян неверных, и изгоню их из земли Твоей в землю агарянскую, изгоню их и из Царяграда и из святого Иерусалима. Я возвращу нетленный Гроб Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, возвращу Гроб сей, неоцененный ценою человеческою, – возвращу его церкви Твоей святой, православной греческой. Господи! Владыко! Преклони ухо Твое к молению моему, Боже, Боже!..»
А за боярышником тянется новая хоровая:
Не спасибо те, игумену тебе,
Не спасибо те, бессовестному,
Молодешеньку в монашенки постриг,
Зеленешеньку посхимиил меня…
– … Ужасом повеяло на меня от слов сих, – продолжал Отрепьев, как бы силясь отогнать от своего слуха назойливое пение хоровода. – А голос был знакомый!
– Чей же это голос был?
– Его, «инока Димитрия с бородавкой».
– Кто ж его голосом говорил-то в пещерах? Кто молился?
– Он же, «Димитрий с бородавкой»…
– И ты видел его там?
– Видел, после. И он потом заметил меня и зело смущен был. «Ты слышал молитву мою?» – говорит. «Слышал», – говорю. «Никому же, – говорит, – не повеждь тайну сию, дондеже Господь не восставит меня на царстве моем».
– Когда же он объявился царевичем?
– На третий год после сего.
– А кому объявился?
– Польскому князю Вишневецкому Адаму. И объявился случаем. В Киеве проживал он у князя Острожскаго, у воеводы, на княжом дворе, где московских людей, а наипаче иноков, принимали с охотою; но Острожскому он не объявился. Из Киева он перешел в Гощу, к панам Гойским, и тамо в учение вдал себя… и победи все княжные мудрости даже до риторики и философии.
– Да откуда ж он взялся, когда он был маленьким зарезан в Угличе?
– Зарезан не он был! Его подменили на погибель Годунова.
– Как же, Юша, так, коли Годунов тогда еще не царствовал?
– Не царствовал, а дорогу торил ко престолу…
– Да как же подменить-то человека, Юша? Это ведь не иголка. И игла игле рознь. А он был уже отроком.
– Подменила сама мать-царица да ближние… От того, когда якобы царевича зарезали, так царица-мать нет чтобы убиваться по младенцу, кинулась с поленом на мамку Василису Волохову, дабы убить ее. Мамка-то ближе всех видала настоящаго царевича и могла показать, что не его зарезали. И после, когда уже зарезанный отрок лежал в церкви и когда в церковь привели сына мамки, Осипа Волохова, царица закричала: «Вот убийца царевичев!» И его убили. Кто всех ближе знал царевича в лицо – тех всех побили, и некому уже было сказать, подлинной ли царевич лежит в церкви.
– Дивно, дивно дело сие… – заметил Треня. – Точно в сказке.
– Да сказка сия ужаса исполнена, – сказал Отрепьев.
– Ну, так как же объявился он Вишневецкому-то?
– Случаем, говорю. От панов Гойских перешел он в Брагин, на службу к князю Вишневецкому. А я его не покидал из виду: он в Гощу и я в Гощу; он в Брагин и я в Брагин… И приключися ему тамо болезнь тяжкая… И призвал он к себе отца духовнаго для напутствия в загробную жизнь. И по исповеди говорит оному священнику: «Аще Господь пошлет мне смерть ныне, завещаю тебе, отче, похоронить меня с честию, како детей царских погребают». И вопроси его иерей: «Что есть сие?» «Не открою ти тайны, – отвеща, – дондеже жив: тако Богу угодно. Егда же умру, возьми Писание под изголовьем у меня – и тогда познаешь, кто я». Ужасеся священник и поведа о том князю. Князь же взем Писание, прочитал в оном, что лежащий пред ним неведомый человек есть сын царя Московского, Ивана Васильевича, Димитрий…
– Те-те-те! Он де вони, бисови москали, шепчутся! – раздался вдруг голос запорожца.
Перед ними стоял знакомый уже нам казак, заломив шапку и фертом упершись в боки.
– Якого вы тут гаспида шушукаете?
– О царевиче Димитрии я ему повестую, – отвечал Отрепьев.
– Я так и знав. От народец! Що москали, що ляхи – одна пара чобит, да й те стоптанных. Як двое зийдутся докупы, так зараз про свое: один про свою вольность – як им вольна хлопа бити, а москали – зараз про царив: коли нема в их царя, то хоть выдумают себи або намалюют.
Треня засмеялся.
– Не смейся, Тренюшка, – серьезно сказал Отрепьев, – он только шутит. Малороссийские люди – все великие скомрахи.
– Хто мы, кажешь? – спросил запорожец.
– Скомрахи – веселый народ сиречь. А все Запорожское низовое войско уж обещало стать под стяг царевича Димитрия, и его вот прислало со мной к войску Донскому – просить и донцов стать заедино.
– Ще ж, и станемо! И нам и подончикам – все одно: кого ни бить, абы бить, та чужи капшуки трусить – хочь то московськи, хочь то турецьки, хочь то й лядьски…
А за боярышником кто-то притоптывал, выгаркивал, выговаривал:
На Иванушке чапан,
Черт мочалами тачал…
Вечерело. Летняя ночь начинала спускаться и над Доном, и над станицей, около которой казаки расположились табором в ожидании похода. Это была Усть-Медведицкая станица. Раскинувшись небольшими куренями по полугорью, она спускалась к песчаной отмели, на которой казачата каждый день устраивали ристалища, гоняя коней своих отцов и дедов на водопой. Левым крылом станица всходила на обрывистый, каменистый берег, такой высокий, что, когда казачата сталкивали с вершины его камень, то, скатываясь и колотясь о другие камни, он увлекал за собою массы плитняку, который с грохотом и прыгал в Дон, словно стадо диких коз. За Доном зеленелся лес. Вправо от станицы песчаная отмель суживалась в узкий рукав, называемый Каптюгом, по которому весною шумно бурлил Дон, образуя за Каптюгом особый живописный, покрытый серебристыми тополями остров.
Эх ты, остров зеленый, островок песчаный! Исходили, истоптали тебя казацкие ноженьки, поливали тебя, словно дождичком, девичие слезыньки. Оттого на тебе, островок песчаный, и травынька-муравынька не вырастывала, не всходила, что тебя, островок песчаный, горючьми слезами красны девицы кропили. На тебе, островок зеленый, красны девицы с казаками-соколами совыкались-целовались, на тебе ли, островок зеленый, и навеки с ними расставались!
На этом Каитюжном острове, под развесистым тополем, и сидел Треня с Отрепьевым, когда к ним подошел запорожец.
– Подождем, что скажет атаман Корела, – говорил Треня. – Он должен скоро быть со своим войском. А коли и он во едину думу с Заруцким станет, так тогда и на Москву пойдем… Только все что-то сердечушко веры не дает.
– Чему? – спросил Отрепьев.









































