Текст книги "Лжедимитрий"
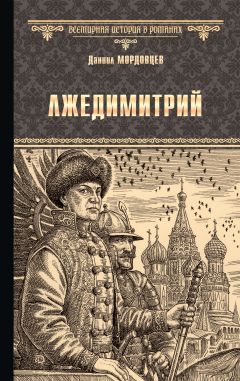
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Так прикажи, князь, мы из него самого биток сделаем, – лаконично заявляет Валуев с фонарем под глазом.
– И этот самый биток собакам кинем, – добавляет голова стрелецкий.
– Ну, московские православные собаки еретичьего-то мяса и есть не станут, – поясняет купчина.
– Нет, отцы и братия, это дело надо сделать, подумавши и Богу помолившись, – снова начинает Шуйский. – Мы маленько пообождем… Пускай колос созреет на нашей ниве, а мы тем временем серпы-то наточим да освятим их, тогда и жать пойдем… Вот пущай приедет его невеста-еретичка да со всем своим выхухолевым гнездом, с батюшкой да с матушкой, да со сродничками-то, пущай они привезут с собой все злато и серебро и узорочье всякое, что им наш-от венчанный бродяга надарил, пущай запой свадебный сделают, да звоны всякие по Москве распустят, да вонсы задерут кверху, – так тогда мы всю эту польскую выхухоль и накроем да и шкурку с нее сдерем…
– Ладно, обождем, – соглашается стрелецкий голова.
– Эх, жаль! Руки-то зело чешутся на этого польского свистуна, – протестует Валуев.
А «свистун», ничего не подозревая, в этот самый вечер о нем же хлопочет, о Шуйском… Узнав от него, что он потому не женился до пятидесяти четырех лет своей жизни, что девушка, которую он любил, вышла замуж за другого, за Бориса именно, а теперь-де за него, за старого, никто не пойдет, энтузиаст-свистун проведал, что у князя Буйносова-Ростовского есть хорошенькая дочка, приятельница Ксении, и тотчас же приступил к сватовству.
– Так пойдешь за него, княжна Марьюшка? – допытывает ее добродушный «царь-свистун». – Князь Василий Шуйский хороший человек. Пойдешь, черноглазая воструха?
– Пойду, государь, коли батюшка с матушкой благословят да ты укажешь, – отвечает та, краснея как мак.
– Я не указываю, а советую. Он хороший человек.
А этот «хороший человек» нож точит, да чтобы повострей был… Эх, горемычный царь-бродяга!
XXIII. Телега со стрелецким мясом
Над Москвою висит снежное, темное, метельное, ветрами позевывающее ночное небо. Снегом посыпает это хмурое небо и дома, и церкви, и площади, и улицы с переулочками. Спит Москва; только изредка, словно из боязни, потявкает где-нибудь добросовестный пес-часовой и снова замолчит. Скоро уснул и позевывающий ветер, которому, казалось, скучно было дуть на сонный город, и он сам прикорнул. Уснули и часовые, что оберегали дворец кремлевский и тоскливо посматривали на окна терема, в которых еще блестел огонек.
Это терем Ксении. Там не спят. Молоденькие, свеженькие личики девушек наклонены над ветхой харатьей-рукописью, пожелтевшей от времени, как желтеет лицо старости. Какой контраст смерти и жизни! – эта ветхая харатья, на которой полууставом начертаны бессмертные слова человека, давно умершего, и эти свежие, полные жизни личики, которые в мертвой харатье искали утешенья, ответа на их вопросы жизни и смерти…
– Как же, голубушка-царевна, ты сама прежде сего сказывала, что Даниил Заточник не похваляет монашеской жизни, а теперь что же? – слышится мелодичный голос княжны Буйносовой.
Ксения молча перелистывает рукопись – «Слово Даниила Заточника».
– Прочти то место, царевна, где он говорит о мертвеце на свинии, о бесе на бабе, – слышится другой голосок – Оринушки Телятевской.
– Вот то место, – отвечает Ксения, останавливаясь на одной странице. – «Или речеши, княже, пострижися в чернцы? Не видал есми мертвеца на свиниях ездячи, ни черта на бабе, ни едал есмь от ивия смоквы. Луче ми есть тако скончати живот свой, нежели, восприимши ангельский образ, Ногу солгати. Лжи бо, рече, мирови, а не Ногу: Ногу нельзя лгати, ни великим играти. Мнози бо, отшедше мира сего, паки возвращаются, аки пси на свои блевотины, на мирское гонение, на играние бесом, беси бо ими играют, яко обещенными птицами. Мнози бо обходят села и домы сильных мира сего, яко пси ласкосердии: иде же браци и пирове ту чернцы и чернцы»…
– Так как же, голубушка-царевна, ты пойдешь в монастырь? – настаивает княжна Буйносова.
– Да я и не буду такою черницею, чтобы мною бесы играли, яко обещенною птицею, – грустно отвечает Ксения. – Я не возвращусь в мир – не солгу Ногови.
– Как же ты сама-то певала, голубушка:
Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати.
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити…
Ксения молчит. Только листок «Слова» дрожит в ее руке. Буйносова не выдерживает и обнимает ее молча. Какое-то горе постигло эти молодые существа – вероятно, новое горе.
– И я за гобой постригусь, царевна. Чего мне ждать? – говорит княжна Телятевская в грустном раздумье.
Такой молодой, прекрасной – чего ждать? Да ведь и у нее есть прошлое с его могильным крестом. Федя-царевич… первый поцелуй над чертежом Российского государства.
– Так и я за тобой, – говорит и Наташа Катырева-Ростовская.
– И я, – шепчет и Марьюшка, княжна Буйносова-Ростовская.
– Тебе нельзя – ты помолвлена, – возражает Наташа.
Ксения их не слушает. Она прислушивается к чему-то другому, ей одной слышимому. С самых страстотерпцев Бориса и Глеба стали замечать, что с Ксенией что-то сделалось, с самого кануна этого дня. Когда ее теремные подружки Наташа, Оринушка и Марьюшка воротились от всенощной, они нашли ее какой-то задумчивою, какою-то необычайною. Она целовала всех как-то особенно горячо и стыдливо, а потом плакала, а потом опять обнимала и целовала… Все дни после этого она как-то расцвела вся – что-то новое прибавилось в ее красоте, в движениях и особенно в глазах: по временам подружки ее видели в этих глазах что-то новое, им незнакомое… Часто она молилась с какою-то страстностью, плакала… А с зимы, особенно с рождественских праздников, стала она что-то задумываться, спадать с лица… Подружки уже было думали, что она сглажена недобрым глазом, испорчена… А там стала она поговаривать о монастыре, о смерти… Во сне иногда она, слышали девушки, шептала, вся разметавшись: «Дядя… Митя… голубчик мой…» А иногда тоскливо повторяла: «Едет она, едет еретичка… приворожила Митю… съест она его…»
Слова эти так и остались тайною Ксении и «дяди Мити».
Спит Москва. Спят часовые. Не спят только девушки в тереме.
Но вот еще кто-то не спит. По заднему дворцовому двору, вдоль ограды, тихо пробираются две тени. Видно, что ночные посетители направляются к терему, руководимые мерцающим в окнах огоньком.
– Эх, не сплять ще дивчата, – шепчет высокая тень своему товарищу, низенькой тени.
– Да не спят же – так и дурка Онисья сказывала.
– А воно ж, Иродово племя старе, не зраде?
– Кто?
– Та дурка ж – не обмане?
– Нет – что ты! Не впервой.
– То-то. А ще Тренька казав, що не вкраду трубокосу Оксану.
– Почто не выкрасть? За деньги и у черта хвост украду.
– Та ты, бисив москаль, не кричи. Сторожа почуе.
– Не почуют – дурка их допьяна напоила.
– От Иродове племя! Яке разумне.
– Только одно опаско…
– Що опаско?
– Тютю, дурный! А я ж тоби нови чоботы дав. Хиба ты не бачив, що пидошвы их задом наперед пидбити: закаблуками, бач, идемо вперед, а носки назад.
Они приблизились к самому терему. Огибая угол терема, низенькая тень замяукала кошкой – и вдруг попятилась назад. Из-за угла выступило несколько фигур человеческих с завязанными лицами.
– Кто тут?
Нет ответа. Вновь пришедшие нападают на двух первых. Слышится звяканье оружия. Кто-то вскрикивает. В тереме движенье… огни… кто-то бежит по переходам.
Паф! паф! Раздаются выстрелы со стороны часовых. Поднимается шум, стук оружия – во дворце просыпаются.
Ночные тени и фигуры с завязанными лицами исчезают в разные места, как привидения. Слышен только говор дворцовой стражи, команда, крик, вопросы, ответы. Кого-то ищут, кого-то спрашивают, кого-то ловят.
– Пымали хоть одного?
– Нет, проклятые, ушли. Это были бесы, а не люди.
Когда при помощи фонарей рассмотрели следы на снегу, то, к удивлению, нашли, что два следа вели не то к терему, не то от терема, и что особенно дивно было, так это то, что следы эти были какие-то бесовские: видно, что след к терему вел, судя но положению ступней, а между тем где должны были быть каблуки сапог – там носки, а пятки впереди…
– Вестимо, бесы, – порешил один стрелец.
– Что ты! У них, у бесов-то, курины ноги и куриный след, – возражал другой.
– А ты видал нешто?
– Видал. Было дело…
– Ишь ты! И в церкви черти с копытцами писаны. У них, значит, всякие ноги бывают. Это и был бес.
– Да, може, бес Фармагей[39]39
…може, бес Фармагей. – Яркий пример вхождения в народное сознание образов русской литературы («Повесть о Новгородском белом клобуке», XV в.).
[Закрыть], – сказал Басманов, поглядывая на терем и что-то обдумывая.
Басманов, начавший розыск, сразу увидел, что тут затевалось что-то двойное: одно, менее серьезное, с участием беса Фармагея, охотника до девок и до женского естества, а другое – очень серьезное, метившее на государственный переворот.
Оказалось, что заговор был на жизнь царя! Был исполнителем замысла Шерефединов, мастер своего дела, тот самый, который с Молчановым и тремя стрельцами свел с трона в могилу молодого царя Годунова с матерью. Но тут дело не выгорело: заговорщики, пробравшись во дворец, столкнулись там с другими молодцами, которые охотились на менее крупного зверя – на девическую красоту. Запорожец Куцько еще на Дону забрал себе в упрямую хохлатую голову – «або не бути, або трубокосу Оксану-царевну добути». Это был своего рода Гамлет «Гамлет-Куцько», который задался своим «быть или не быть» – «або не бути, або дивчину добути». Сговорившись с одним московским пройдохой, с Ваською «Мышиным Царем», отчаянная башка которого способна была на все, Куцько задался безумным планом: украсть Ксению «або соби, або Треньци», которого он очень полюбил. Но и это дело не выгорело.
Шерефединова искали, но он словно в воду канул. Дурка Онисья даже уверяла княжен-боярышень, что его черти с квасом съели.
– Была я в ту пору, девыньки-княжонушки, на переходах, не спалось мне, старой крысе, – рассказывала она на другой день в тереме Ксении. – Вот и смотрю я на двор, смотрю и считаю я снежинки, что с Божьяго-то соболья рукава на землю сыплются. И насчитала я, девыньки-княжонушки, до тьмы-тем и до ворона я, дурка, насчитала. Коли и вижу идут два беса: головы рогаты, морды косматы, бороды козлины, буркалы совины, оба хвостаты, а руки когтяты. А ноги у них, девыньки-княжонушки, курины, да, только в сапогах, и ноги-то по-куриному пятками вперед, а коленками назад, и назад же сгибаются, аки у зайца. Я так и ахнула, старая дурка! Да коли гляжу – идут по двору, с другого конца, аки человецы, токмо лиц не видать… Идут к царской палате. А бесы-то как побегут за ними, да двух и схватили и унесли. Один-то и был, девушки-княжонушки, Ондрейо Шерефединов, новокщен из тотар. Его-то бесы с квасом и съели, пока петухи не запели.
По розыску Басманова открылось, что между стрельцами начался уже ропот, что были крикуны, которые называли царя расстригой. Семерых таких крикунов взяли за приставы – и они повинились.
Это было ударом для Димитрия: великое здание, которое он созидал, с самого основания начинала уже подтачивать червоточина. Вообще, ему становилось подчас невыносимо тяжело. Но он продолжал оставаться неизменным – он не ожесточался, а становился еще великодушнее, он думал победить неведение и просветить человеческую слепоту силою своего духа и тем светочем истинного счастья, которое он надеялся дать своему народу. Удивительный мечтатель! В то же время его сокрушала перемена в Ксении, ее тайная грусть, что-то тоскливое и тревожное в ее еще недавно светлых, детских глазах. А она ему стала дорога, еще дороже после рокового намека старого Мнишека, что девушка эта «слишком близка к нему».
– Что же, государь, укажешь чинить виновным какую казнь? спрашивал Басманов насчет семерых уличенных в измене стрельцов.
– Не знаю, Петр, – отвечал Димитрий грустно, глядя на обручальное кольцо Марины, которое Власьев недавно прислал к нему. – Хоть бы строку одну, хоть бы одно слово написала… гордая, проклятая полячка! – невольно сорвалось у него с языка.
Басманов не знал, что ему делать. Он видел, что царь грустит, а развлечь его не умел.
– Укажешь, государь, им головы отрубить или в срубе сжечь, или вырезать языки, колесовать и тела их на колеса положить? А может, повесить? Расстрелять? В землю зарыть живыми?.. – допытывался Басманов, желая развлечь молодого царя прелестями разных казней. – А може, собаками затравить, аки волков в овчарне?
– Не знаю, Петр…
– Что скажет о том твое государево сердце, царь, то и повели.
– Сердце… да, сердце… У царя не должно быть сердца! – как-то страстно сказал Димитрий.
– Истинно, государь. Писание глаголет: сердце царево в руце Божией, – извернулся Басманов.
– Нет, Петр. У меня бы не должно быть совсем сердца. Сердце мое – это великое зло для страны и народа моего. Доброе сердце будет миловать и награждать не по делам и не по заслугам. Злое сердце – карать и мучить народ без вины. Я жалею о родителе моем, блаженной памяти царе и великом князе Иване Васильевиче, всеа Русии… у коего было сердце… У меня вместо сердца должно бы быть всеведение: только тогда я был бы истинный царь. А всеведение – токмо у Бога.
Басманова поразили эти слова. Он не нашелся что отвечать: он видел что-то необычайное.
– Я не Бог. Я никогда не буду судить моих подданных: пусть они сами себя судят. Отдай виновных на суд их товарищей, созови стрельцов, и я к ним выйду, – сказал повелительно непостижимый юноша.
Басманов, низко поклонившись, вышел. «Непостижимый юноша» остался один в грустном раздумье.
Он сильно топнул ногой и встал. Взгляд его упал на терем Ксении. «Бедная, бедная… И ее велят мне удалить. Велят – мне!.. О, шляхтич, попрошайка! Продал дочь да еще и торгуется. Бедная Ксения… Она сама хочет в монастырь – она не та, что была, бедная! Она узнала об этой шляхтенке. Что ж мне делать? И ту, проклятую, я люблю – или ненавижу? Да, ненавижу, ненавижу! И для того хочу взглянуть в ее змеиные очи. Бедная Ксенюшка – она не такая, голубица кроткая, плачущая…»
Вошел Басманов. Димитрий молча взглянул на него.
– Стрельцы тебя ждут на дворе, государь, – сказал Басманов.
Димитрий вышел на крыльцо, где уже находились Нагие, Мстиславский, поляки и немцы-алебардщики. Стрельцы, без шапок и безоружные, наполняли весь двор.
Увидав царя, стрельцы повалились на землю головами: кто прямо в снег, кто на камень. Димитрий грустно посмотрел на эту новую мостовую из спин, голов, черных и рыжих, и седых, из затылков и сапог.
Мостовая усиленно дышала, боясь шевельнуться. Одного слова царя, этого рыженького паренька, достаточно было, чтобы вся эта живая мостовая превратилась в безобразные трупы, чтобы кровью и мозгом голов залит был весь двор с его снегом и камнями. Не шевелятся широкие спины стрелецкие, не ворохнутся головы, припавшие к земле, только дыхание их становится слышнее.
Но рыженький паренек не сказал этого страшного слова.
– Умны! – сказал он с улыбкой сожаления. – Встаньте!
Стрельцы встали, такие понурые, растрепанные, со свисшими на глаза волосами, не смея тряхнуть головами по русской привычке, чтобы эти всклокоченные волосы привести в порядок. Ух, крикнет рыженький паренек.
Но «рыженький паренек» не крикнул. Напротив, с грустью и дрожью в голосе он сказал:
– Мне жаль вас, стрельцы. Жаль мне, прискорбно, что грубы вы, аки невегласи, и нет в вас любви. Доколе вы будете заводить смуты, доколе не престанете делать лихо и беды земле своей? Она и без того лихолетствует. Что же! Хотите вы довести ее до конечнаго разодрания, аки ризу ветхую? Помяните изменников Годуновых – вспомните, как извели они измором опальным, ссылками и лютыми казнями знатные роды в земле нашей и неправедно, аки воры, похитили престол царский. Какую кару земля понесла! Мало она стонала! Не все слезы выплакала! Чтобы отереть слезы русского народа, меня сохранил Бог. Для вас же Он избавил меня от смертоносных казней, а вы же, несчастные, ищете погубить меня, спрашиваю я вас? Вы говорите: я не истинный Димитрий… Так обличите меня – и тогда вы вольны лишить меня жизни. Мать моя и эти бояре – свидетели, они знают, кто я.
Он указал на Нагих, на Мстиславского, на Шуйского: «Невинные» глаза последнего говорили: «Я чист, как младенец. Я сам похоронил в Угличе вместо тебя поповича».
Многие из стрельцов плакали. Эти грубые пальцы, словно обрубки, эти кулаки, словно гири, поднимались к глазам и утирали слезы, может быть, в первый раз в жизни. Ух, легче голову с плеч, чем плакать стрельцу!
А «рыженький паренек» продолжал:
– Ах, стрельцы, стрельцы! И как могло учиниться такое великое дело, чтобы кто ни на есть, не будучи истинным царем, обовладел таковым могущественным государством без воли народа? Сам Бог не допустил бы до этого. Я жизнь свою поставлял в опасность не для корысти ради, не ради высокости своей, а чтобы избавить народ мой любезный, упавший в нищету и неволю от руки изменников. Перст Божий призвал меня к сему великому деланию. Его всемогущая десница помогла мне овладеть тем, что мне принадлежит по праву моему, по роду отцов моих. Я вас спрашиваю: почто вы умышляете на меня? Говорите прямо! Говорите мне безо всякаго страху: за что вы меня не любите? Что я вам сделал?
Глубокая, горькая искренность звучала в голосе. Стрельцы рыдали, как дети: грубые, жесткие, бородатые, суровые, но горько плачущие лица… Одного Шуйского злоба заставила побелеть и позеленеть.
Плачущие бородачи снова повалились на землю.
– Царь-государь, смилуйся! – вопили они. – Мы ничего не ведаем. Покажи нам тех, что нас перед тобой оговаривают!
– Покажи им, – обратился он к Басманову.
По знаку Басманова алебардщики вывели семерых стрельцов, повинившихся в измене.
– Вот они – смотрите! – сказал Димитрий. – Они повинились и показывают, что все вы зло мыслите на вашего государя.
Сказав это, он быстро ушел во дворец, бормоча в волнении:
– Я не могу… у меня сердце есть… мне жаль их…
За минуту до того плакавшие стрельцы заревели, как звери, и кинулись на виновных, кто с криком, кто с воплем, кто с визгом каким-то собачьим:
– Га, идолы! Вы остужаете нас с царем-батюшкой!
– Крамольники проклятые! Нас топите!
Двор превратился в кучу тел, метавшихся и напиравших на одно место, взлезавших друг на друга. Виднелись только поднимаемые и опускаемые кулаки…
Через несколько минут из Кремля вывезли телегу. На площади телегу эту обступила толпа плачущих и рвущих на себе волосы стрельчих, стрелецких детей и родственников растерзанных. А стрелец, сидя на облучке телеги, покрикивает:
– Эй, тетки-молодки, белые лебедки! Идите своих муженьков ищите, своих судариков распознавайте, слезами поливайте! А не найдете – и так домой пойдете. Но-но-но! Пошевеливай…
XXIV. Тень Грозного над Москвой
Третьего мая 1606 года над Москвою на ясном голубом небе остановилось и тихо колебалось продолговатое белое облако; своими очертаниями походило оно на человеческую фигуру. Длинное, в виде монашеской рясы, одеяние на длинном тощем корпусе… Лицо у этой фигуры-облака напоминало лицо, слишком многим в Москве еще памятное, – сухощавое, с сухим орлиным носом в профиль, с небольшою, словно выщипанною, козлиною бородкою на остром, выдавшемся вперед подбородке. Глубокие впадины для глаз под нависшими, сдвинутыми бровями. На голове монашеская скуфейка, из-под которой выбиваются небольшие пряди жидких волос. В руке – длинный заостренный посох.
Шуйский, увидев это облако, остолбенел. Ему почудилось даже, что тень стучит но небу железным посохом и хрипит пропавшим от злобы голосом: «А! Васютка Шуенин! В синодик захотел!..»
Это была действительно тень Грозного. Вот уже двадцать третий год со дня смерти страшного царя тоскующая тень его не знает покоя. Тысячи, десятки тысяч замученных им, утопленных, удушенных, зарезанных, повешенных, сожженных в срубах, обезглавленных, затравленных собаками и медведями, уморенных голодом, замороженных, отравленных, напоенных до смерти растопленным оловом и иными бесчисленными муками изведенных, попавших и не попавших в его ужасный синодик, «их же число и имена един Ты, Господи, веси», как он сам же выразился в этом историческом синодике – все эти жертвы его страстей вот уже двадцать третий год не дают успокоения сухим костям умершего царя… И бродит его тень но свету – кается, молится, плачет, босыми ногами исходила эта тень царя, в образе нищего, весь шар земной, и в особенности терлись превратившиеся в камень крепости адамантовой[40]40
Адамантовый – алмазный, как символ твердости.
[Закрыть] подошвы Грозного о землю святого града Иерусалима и всей Сирии, Палестины и Иудеи; исходили эти «адамантовые подошвы» все те пути и стези, по которым ходили босые ноги Спасителя и Его учеников; исходили они и Аравию, взбирались на горы Хорив и Синай[41]41
…горы Хорив и Синай… – Об этих горах подчас говорят как об одной, так как сказано, что пророк Моисей на Синае увещевает иудеев следовать принятым им законам; сам же он называет Синай Хоривом, хотя это лишь отрог Синая, обильный источниками и травами
[Закрыть]; исходили и землю египетскую, Фиваиду[42]42
Фиваида – вероятно, область древнегреческого города Фивы, который на протяжении двух тысячелетий до нашей эры сохранял значение религиозного и культурного центра.
[Закрыть], Киликию[43]43
Киликия – известна как Киликийское государство армян в начале нашего (второго) тысячелетия.
[Закрыть] и Каппадокию[44]44
Каппадокия – область в Малой Азии; в древности была центром Хеттского государства.
[Закрыть], Мидию[45]45
Мидия – находится на Иранском нагорье, в древности наименование царства.
[Закрыть] и Пафлагонию[46]46
Пафлагония – историческая, известная с древности область на черноморском побережье современной Турции.
[Закрыть], и Месопотамию, и Грецию, и Македонию, и Италию – все места, грады и веси, по которым ходили ноги апостолов. Но в Москву до сих пор, со дня смерти, тень Грозного не решалась явиться, чувствуя на себе неизглаголанную тяжесть грехов и не смея взглянуть на родные, дорогие места, все избрызганные человеческою кровью.
Неодолимая сила привела теперь эту тень сюда, на Русскую землю, и поставила над Москвою.
И видится Грозному Москва в необычайном оживлении. Та же, да не та же она. Новые дворцы в Кремле – невиданные, а многих палат и следу не осталось. И лица многие незнакомые. Ох, лучше бы в могилу – да могила не принимает.
И видятся Грозному необычайные шатры, разбитые под Москвою, на широком лугу у Вяземы, невиданные шатры, целый Кремль из шатров, блистающих неизмечтанною красотою и пестротою. И высится над всеми шатрами один громадный и роскошный шатер, словно бы белый лебедь промеж сереньких утяток, и обхватывают его, словно красные девицы и добрые молодцы, играющие в «заплетися, плетень, заплетися», другие, меньшие, шатры с полотняною стеною и полотняными на ней башнями.
Что же это за шатры и для кого они? И что это за сотни и тысячи народу, конные и пешие, снующие у шатров? И все это не русские люди – в нерусском одеянии, с нерусскими обликами, – и речь слышится нерусская. А какой табор богатых повозок, кибиток и роскошных, разрисованных яркими красками и украшенных золотом и серебром колясок и карет и все невиданного, нерусского, заморского дела и заморского виду! И валит к тому необычному табору толпами из Москвы и окрестностей ее московский народ. И вокруг табора стоят тысячи конников в богатых кафтанах и с блестящим оружием. А музыка-то заливается…
Тысячи голодных волков, стаи собак и стада кошек не в состоянии были бы заглушить этого рева, лая, воя и мяуканья, издаваемого сурьмами, домрами, бубнами, барабанами, литаврами и накрами, им же несть числа.
И мятется тень Грозного в облаке, на синеве московского неба; трепещет облако, словно бы живое…
И хлынули из Москвы вереницы всадников – бояре и думные дворяне в золотном платье, обрызганном жемчугами и яхонтами, с дорогими перевязями, на дорогих конях в дорогой сбруе, а за ними – толпы холопов изнаряженных, изукрашенных. И едет еще невиданная на сем свете, уму непостижимая по великолепию царская каптана, запряженная десятью царскими аргамаками, – белые в яблоках, лучшие аргамаки, выхоленные на царских конюшнях. И за каптаною ведут коня невиданного – золото на чепраке, золото на узде, золото на нагруднике, золото на наколенках, золото – стремена.
«Куда везут мое добро? Кому ведут моих коней? Кому несут мое золото мои холопишки?» – мятется тень Грозного на синеве безоблачного неба московского.
«А!.. Федька Мстиславской! Федюшка-ротозей, холо-пишко! – узнает тень Грозного своего бывшего холопа Мстиславского. – Это ты, вор, тащишь мое добро?»
И облако трепещет – так бы, кажется, и распалось дождем на изменников.
Федька Мстиславской, сойдя с коня и отдав его под уздцы холопу, почтительно входит в самый большой шатер. За ним все бояре и думные дворяне. «Кто такой там в шатре? Не царь ли? О, вестимо, царь. Да кто теперь царь на Москве после меня, Божиею милостию государя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии от востока и запада, севера и юга? Кто ж другой – вестимо, Федька-убогий, сын мой. А може, Уарушка уж, Митя-маленькой? Какой махонькой он был, как я в Бозе почил… в Бозе… Ох, тяжко это почиванье в Бозе по грехом нашим…
Кто же это выходит из шатра? Жена лепообразна, вся в злате и каменьях блистающих… в белых ризах, аки одеяние ангела… черноволоса, черноглаза, белолица… Точно моя Василиса Мелентьева, что зарезал я… Ох, много я перерезал… Нет, это не Василисушка… Словно бы моя Марьюшка Темрюкова… А словно бы и моя Машка Долгорукая, что утоплена мною… Кто ж это такая, сия Леповида?..»
И выходят из шатра большого и из шатров малых другие жены, богато одетые, и мужие, златом и сребром окованные. О, как много народу, как много блеску! И Федька Мстиславской выходит без шапки, и бояре, и думные дворяне без шапок – все без шапок… «Словно бы это я сам, царь Иван Васильевич, выходил… Ишь ты, какая Леповида, как важно глядит и никому не кланяется…»
И выходит из шатра лях толстый, много ляхов выходит. «Зачем ляхи в моей земле? Вот я вас, проклятые! Андрюшку Курбскаго схоронили от меня… А вас всех клюкой железной, идолы!»
И тень Грозного мечется в облаке белом, дрожит, а на землю спуститься не может… Чтобы посохом всех, посохом!
К толстому ляху подводят богатырского коня в невиданной сбруе, и чепрак, и весь набор горят червонным золотом, каменьями и серебром под чернетью.
Федька Мстиславской сажает Леповиду и другую жену изукрашенну в золотую каптану, везомую десятью лошадьми – белые в яблоках. Что за кони! Что за каптана! А сколько сот других каптан и колясок!
Поезд двинулся к Земляному городу. По обеим сторонам пути стоят стрельцы пешие, дьяволы усатые и бородатые, в красных суконных кафтанах, словно в стихарях[47]47
…словно в стихарях. – Стихарь – церковное облачение, обычно белого цвета, но бывает и других цветов, в т. ч. красное, богато расшитое.
[Закрыть], с белыми перевязями на груди, и держат длинные ружья с красными ложами… Словно мак, краснеются кафтаны стрелецкие… Дальше стоят, как статуи на конях, конные стрельцы и дети боярские, по одну сторону с луками и стрелами, по другую с ружьями и все это горит красным цветом и блестит сталью граненою, – инда старым глазам Грозного больно. «Мои стрельцы – подлецы! Кому это служат они ноне? А дальше не мои уж – это польские гусары. У, проклятые полячишки! Схоронили моего изменника Андрюшку Курбского…» Гусары на конях с пиками в руках – древка пик красные, а около самых копейных лезвий белые перевязи ветерком колышутся. А музыка-то, музыка гремит и верещит! Трубят трубы на все голоса, бьют литавры, словно бы хотят разрушить стены Иерихона[48]48
…хотят разрушить стены Иерихона. – Здесь поэтическое сравнение Москвы с древнепалестинским городом Иерихоном, стены которого рухнули от звучания трубы легендарного, обладавшего удивительной силой военачальника Иисуса Навина.
[Закрыть]. Но это не Иерихон, а Москва белокаменная.
Невиданный поезд вступает в Земляной город, Никитскими воротами вступает в Белый, а там – в Китай-город и через Красную площадь – в Кремль.
Волшебный вид! Тень Грозного так и замерла в высоте, взирая на эту картину. Ему вспомнилось его собственное вшествие в Москву после взятия Казани. «О, Господи! Как это давно было, и как хорошо было тогда, Боже всесильный».
Вперед идут думные дворяне и дети боярские, и впереди всех Афанасий Власьев, великий дьяк, да князь Василий Рубец-Масальский да Михайло Нагой… Всех их узнал Грозный. «А! Офонько Власьев продувная выжига, что ради моей царской чести ногами по аеру дрыгал. И Васька Рубец тут, и Мишутка Нагой, сродничек моей пятой жены, Марьюшки Нагой. Ох, лепа она была – голенькая… Где-то она, Марьюшка, мотается теперь без меня?»
За детьми боярскими идут пешие польские гайдуки с ружьями за плечами и «шаблюками» при боке. Голубые жупаны на них, словно цвет цикория с васильками в поле, а серебряные нашивки и белые перья на шапках-магирках, словно свет с ковыль-травою по василькам перекатываются… Идут они, в барабаны бьют, на трубах выигрывают… Дальше едут польские гусары, по десяти в ряд, на статных венгерских конях. Что это за дьяволы крылатые? За спинами у гусар крылья развеваются, в руках у них золоченые щиты с драконами и поднятые вверх копья с белыми и красными значками, точно змеи, значки эти вьются в воздухе и пугают московских голубей и галок…
– Батюшки-светы! – взвизгивает баба в толпе зрителей. – Да это бесы!
– Что ты, окаянная, орешь! Али у тебя повылазили? – осаживает ее детина из Обжорного. – Эти – с усами.
– А крылья-то у них не видишь, пес?
А за этими «бесами с усами и крыльями» ведут под уздцы двенадцать породистых коней, да таких коней, что ногами разговоры говорят, гривы белые – что девичьи косы.
А за этими двенадцатью конями паны едут – князь Вишневецкий, пан Тарло, пан Стадницкий Марцин, пан Стадницкий Андреаш, пан Стадницкий Матиаш, пан Любомирский, пан Немоевский и другие. Уж и что это за паны вельможные! Уж и что у них за посадка молодецкая! Уж и что у них за «вонсы закренцовые»! Уж и что на них за кунтуши за диковинные, что за кони под ними дивные! А около каждого целое стадо панков, полупанков, шляхетской ассистенции, – да все как одето, изукрашено, как дорогим оружием изнавешано! Ах ты, Польша, Польша старая, вольная! Умела ты пожить, умела себя показать…
А за этими панами и полупанками едет самый толстый лях – пан Мнишек, один-одинешенек, словно вожак-лебедь впереди стада лебединого, позади стада сероутиного… Под паном Мнишеком конь, глядя на которого Грозный свою клюку железную грызет со злобы-зависти. На пане Мнишеке малиновый кунтуш, опушенный черным соболем, которому и цены нет, а на шапке перо птицы невиданной – птицы сирин, коей глас вельми силен, а хвост зело дивен. Шпоры и стремена у пана Мнишека золотые с бирюзою, хоть на шею царской дочери – так впору.
А за паном Мнишеком идет мурин – черный арапин в турецком одеянии.
– Батьюшки-светы! – снова взвизгивает баба. – Да это ж и есть тот эфиоплянин черный, что у Ипатушки-иконника на Страшном суде царицу Анафему, блудницу вавилонскую, за косы тащит!
– Нет… Там царицу Каиафу, Пилатову жену-самарянку… – осаживает на этот раз бабу кто-то более знающий, чем детина из Обжорного.
А уж за черным арапином едет в дивной каптане сама царевна Несмеяна, леповида черноглазая панна Марина… Сидит она на подушках, по краям крупным жемчугом унизанных, в белом атласном платье, вся залитая, точно слезами крупными, драгоценными каменьями и жемчугами. А против нее – Урсула.
– Ох, Марыню, голова кружится от всего, что я вижу, – тихо говорит Урсула. – Это какое-то сказочное, волшебное царство, а ты… его царица. У тебя, Масю, не кружится голова от всего этого?
– Нет, не кружится, – отвечает задумчиво Марина.
– О чем ты, Масю, думаешь? О женихе?
– Нет, о том гнезде горлинки, где…
Она не договорила. Она вздрогнула, и глаза ее как-то странно расширились она не сводила их с одного предмета… за окном каптаны…
У самой каптаны идут шесть хлопов в зеленых рубахах и штанах и в красных, внакидку, плащах, а за ними, но обеим же сторонам каптаны, – московские немцы-алебардщики и московские стрельцы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































