Текст книги "Лжедимитрий"
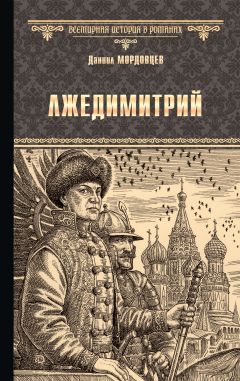
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Гордый король встает при этих словах. Эта девчонка, стоящая перед ним с смущенною потупленною головкой, в несколько минут выросла – доросла до царского величия.
Но девчонка все еще чувствует себя девчонкой и падает на колени, словно бы это была классная комната, а король – это пани Тарлова, ее бабушка и учительница… а девчонка не приготовила урока.
Король, наклонившись, поднял с полу девочку и, сняв перед ней шапку, чего не делал даже перед царским послом, сказал торжественно:
– Поздравляю тебя, Марина. То, чего ты удостоилась, дано тебе Богом для того, чтобы ты своего супруга, чудесно тебе от Бога дарованного, приводила к соседской любви и постоянной дружбе с нами для блага нашего королевства, ибо, если тамошние люди прежде сохраняли согласие и соседственное дружество с коронными землями, то тем более теперь должен укрепиться союз приязни и доброго соседства. Не забывай, что ты воспитана в королевстве Польском; здесь получила ты от Бога свое настоящее достоинство; здесь твои милые родители, твои кровные друзья; сохраняй же мир между обоими государствами и веди своего супруга к тому, чтоб он дружелюбием и взаимным доброжелательством вознаградил отечество твоего родителя за то расположение, какое испытал здесь. Слушайся приказаний и наставлений своих родителей, уважай их, помни о Боге, живи в страхе Божием, и будет Божие благословение над тобою и над твоим потомством, если Бог тебе дарует его, чего мы тебе желаем… Люби польские обычаи и старайся о сохранении дружелюбия и приязни с народом польским.
Король перекрестил трепещущую девочку, которая снова, точно ребенок, упала к ногам Сигизмунда. Она рыдала, захлебываясь слезами.
Даже суровый Власьев не выдержал – у него на глазах показались слезы.
– Ишь, бедного ребенка раскивилили… Статочное ли дело – говорить экому младенцу про великие государские дела… Еще занеможет бедное дите, а с меня взыщется, – бормотал он себе под нос.
XXI. Димитрий у Ксении и Ксения у Димитрия
Да, удивительная, непостижимая личность этот царь-бродяга, царь-проходимец, царь, «не помнящий родства»!.. При всей своей кипучей деятельности, которой хватило бы на десять человек, при всем разнообразии развлечений и удовольствий, на которые также хватало и сил и времени у этого изумительного человека, у этого «беса», каким он после показался москвичам – удовольствий, которым он, как и работам государственным, отдавался со всем пылом молодости и со всею страстностью своей огненной натуры, – при всем этом непостижимое существо, носившее имя Димитрия, сильно скучало по своей возлюбленной, по Маринушке Мнишковой. Это была первая любовь – первая любовь демона.
А между тем и после обручения Марина не ехала к своему коронованному жениху. Старый Мнишек отчасти потому медлил с приездом в Москву, что выжидал, насколько крепко усядется на троне удивительный женишок его красавицы Марыни, а отчасти для того, чтобы побольше выдоить у него денег. А он доил его бессовестно! Он обирал и Власьева, который сыпал батюшке своей будущей царицы золото просто лопатами, словно просо; он обирал московских купцов, заезжавших в Польшу, набирая у них всяких дорогих товаров на сотни тысяч, и в то же время жаловался будущему зятьку-царю, что он разорился на пиры для своей Марыни, для поддержания гонору тестя царя Московского.
С другой стороны, хитрый воевода, желая еще дольше подоить «московскую коровенку», послал Димитрию такую шпильку, которая попала в самое сердце тому, кому предназначалась. Мнишек сообщал Димитрию в одном письме, что до него дошли невероятные слухи о том, якобы дочь Бориса Годунова, красавица Ксения, «слишком близка к нему…». Старая лиса, специально поставлявшая своему королю любовниц вроде Барбары Гижанки, ходок насчет женского естества и профессор амурных дел, Мнишек хорошо знал с этой специальной стороны сердце человеческое, не зная его совершенно с другой, – и ударом по столу заставил ножницы отозваться…
Действительно, старый воевода был прав: между Димитрием и Ксениею, как в то время выражались русские люди, «доброе совершилось»… Как оно «совершилось» – сами Димитрий и Ксения не могли бы сказать; но оно совершилось…
В первые дни по вступлении на престол Димитрий, посещая московские соборы и монастыри, отправился молиться и в Новодевичий. После службы он спросил настоятельницу, в церкви ли находится Ксения.
– Она моя племянница, – сказал он. – Хотя отец ее, Борис, и учинился изменником мне, великому государю, и за то погибе лютою смертию, токмо дочь его в том неповинна. Я хочу видеть царевну Аксинью. Здесь она?
– Нет, царь-государь, – отвечала игуменья, низко кланяясь.
– Как нет? Мне доложили, якобы она в Новодевичьем.
– Точно, государь, она в нашей обители, но в храме ее ноне не было.
– Чего для?
– Немоществует она, великий государь.
Действительно, Ксении на этот раз не было в церкви.
Узнав, что в монастырь ожидают царя, она сказалась больной и осталась в своей келье.
– Я хочу видеть ее, – сказал Димитрий. – У нее никого не осталось, окроме меня, – она сиротка.
Игуменья тотчас же послала сказать Ксении, что к ней идет царь… Вышед из церкви, Димитрий прямо направился в келью сиротки, к которой провела его сама настоятельница.
Он вошел в келью один, потому что никто не осмелился следовать за ним без особого приказания. Первое, что он увидел – это медное распятие на черном аналое и стоящую перед ним на коленях женщину, всю в черном. Видна была только часть белой, молочного цвета шеи и большущая черная коса, двумя трубами ниспадавшая до земли… Димитрию почему-то почудилось, что он видит затылок Марины, наклонившейся над гнездом горлинки…
Услышав шаги, Ксения быстро поднялась с колен и обернулась… Перед глазами Димитрия на мгновенье блеснуло что-то белое, необычайно белое и нежное, сверкнули какие-то искры – и странно! – темные искры, словно из темного огня… и тотчас все исчезло… Девушка упала ниц перед царем, перед страшным мстителем, отнявшим у нее отца, мать, брата, счастье.
– Здравствуй, царевна-племянница! – сказал Димитрий ласково. – Я пришел повидать тебя.
Голова девушки лежала на полу и тихо билась о камень.
– Встань, царевна.
В ответ – ни звука, только плечи вздрагивают. Димитрий нагибается и осторожно берет девушку за плечи.
– Встань, бедная сиротка. Встань, Аксиньюшка, – говорит он еще ласковее. – Я не царь тебе, я дядя твой.
От полу поднялось скорбное, заплаканное лицо девушки. Она стояла на коленях, сжав руки, как перед образом. Современный хронограф, описывая необыкновенную красоту Ксении, прибавляет, что она особенно блистала этою ангельскою красотою, когда плакала… Димитрия поразила эта красота… Странно: ему опять почудилось, что перед ним Марина! Но только больше теплоты и детскости виделось на этом прекрасном, полном личике, в этих больших, робких, младенчески чистых глазах…
– Господь с тобой! – сказал он каким-то упавшим голосом. – Прости меня, не от меня твое горе.
Он растерялся… Первый раз в жизни в голосе его звучала искренность и – трудно поверить! – робость… Робость – в человеке, который из-под забора шагнул на престол, с одною клюкою калики перехожего покорил царство!
– Аксиньюшка! Видит Бог – я не хотел… То Божий суд… Его воля. Встань, родная!
Он нежно поднял ее с колен. Она робко глянула ему в глаза своими большими детскими глазами и снова заплакала.
– Государь, прости меня… я… я… – И она закрыла лицо руками.
Димитрий чувствовал, что и у него слезы подступают к горлу.
– Нет, ты меня прости, голубушка, родная моя, Аксиньюшка.
И, нежно обхватив ее голову руками, он целовал ее в темя, приговаривая: «Дитятко горькое… сиротинушка… дитя Божье, одинокое… нет, ты не будешь одна – я еще остался у тебя, у горькой, я, дядя твой…»
Ксения почувствовала, как на темя ее капают теплые слезы. Это его слезы! Она снова опустилась на пол и, поймав его руки, припала к ним горячими губами… «Нет, это не расстрига… это дядя Митя… подлинно он», – шепталось в ее добром, растопленном слезами и лаской молодом сердце… А он снова поднял ее, перекрестил, как ребенка, еще перекрестил и еще, и тихо поцеловал в лоб.
– Государь дядюшка, прости меня, я не знала… – И она опять целовала его руки.
– Сядь, родная, успокойся, поговорим с тобой.
И он усадил ее на широкую лавку, покрытую черным сукном, а сам сел на деревянном, резанном из цельного дуба сиденье, у стола, на котором лежала раскрытая, писанная уставом[35]35
…уставом… – Устав – тип написания древних славянских рукописей с четким начертанием каждой буквы, без сокращений титл.
[Закрыть] книга, а около нее – полуисписанная тетрадка. Тут же стояла и большая, потемневшая от времени медная чернильница, на ручках которой были такие же медные головки с крылышками.
Димитрий обратил внимание на тетрадку.
– Это ты пишешь? – спросил он, рассматривая писанье.
– Я, государь, – отвечала девушка, зарумянившись слегка.
– Какая ж ты искусница книжная, уставом пишешь. А это противень[36]36
Противень – копия, список.
[Закрыть]? – спросил он, указав на раскрытую книгу.
– Противень, государь.
– И какая у тебя заставка вышла важная. Вязь зело мудреного узору. И киноварь знатная, – говорил он, любуясь писаньем девушки. – Кому это?
– Матушке-игуменье, государь.
Димитрий ласково посмотрел в добрые глаза девушки и задумался. Ему, видимо, хотелось спросить ее о чем-то, но слово не шло из горла – тяжелое слово…
– Ты давно здесь, друг мой, Аксиньюшка? – нерешительно спросил он, рассматривая тетрадку.
– Со Предтечина дня, государь.
Нет, не шло из горла то слово… тяжелое слово…
– Тебе не след здесь жить, Аксиньюшка, ты не черница. Нерадостна жизнь чернецкая.
Ксения молчала. Какая же у нее могла быть другая жизнь? Что у нее осталось? Дорогие могилы, но и они заброшены, поруганы. Могила и ее ждет – могильная келья монастырская. И в сердце ее невольно заныла ее же собственная песня:
Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити…
– Я тебя возьму отсюда во двор… твой терем тебе и остался, в нем и будешь жить, – снова сказал Димитрий.
– Спасибо, государь… я не знаю… мне…
– Что, мой друг? Ты будешь не одна – все твои подружки будут с тобою. Мне сказывали, у тебя в приближении была Арина, князя Телятевского дочка, да и других бояр дочери… Возьми их к себе в сенные.
Ксения вспомнила свой терем, своих подружек – и горькая песня снова заныла в сердце:
Ино охте мне молоды горевати,
Как мне в темну келью ступати…
Слезы опять брызнули из добрых глаз – белая грудь ходенем заходила.
– Да Господь же с тобой, родимушка моя! Почто убиваешься? По матушке, по батюшке? Ох, бедная сиротинушка. Да не сироточка ты – я у тебя остался, девынька милая.
И он тихо гладил ей голову, как маленькому ребенку, и, пригнув к себе на грудь, нежно шептал:
– Господь над тобой… Господь над тобой. Я тебя так не оставлю, дитятко горькое.
А она, бессознательно отдавшись этим ласкам, смутно ощущала внутри себя что-то могуче протестующее и в то же время всем телом чувствовала такую слабость, такую истому, что точно тело это все размякло, осунулось… Она испытывала какое-то смешанное ощущение: то ей чувствовалось, что это она на груди у матери, у брата Феди, то нет – что-то не то, что-то более томительное и ослабляющее… не то сон клонит, голова сама валится с плеч, кружится… сердце не то остановилось, не то замерло, захлебнулось… это от слабости, от головокружения. «Дядюшка… дядя…» – шепчут губы.
– Родная моя, голубушка.
– Слава государю нашему Дмитрей Иванычу – слава!
– Матушке его благоверной государыне-царице – слава!
Димитрий опомнился. Это москвичи и подмосковники, узнав, что царь в Новодевичьем, пришли поглазеть на него и покричать. К тому же был праздник, так народу собралось видимо-невидимо. Очнулась и Ксения: она освободилась из объятий своего новоявленного дядюшки – и вся зарделась.
– Так я отдам приказ, Аксиньюшка, чтобы тебе твой терем приготовили, – сказал он, оправившись от волнения.
– Спасибо, государь. Только мне негоже в мир идти – не пристало.
– Для чего не пристало?
– Я сирота, государь, безродная.
– Не безродная ты, Аксиньюшка: мой род – твой род.
– Митрей Иваныч, слава! – ревели голоса. Многая лета государю-батюшке.
Димитрий должен был выйти.
– Прощай, племянница, – сказал он и, положив руки на полные, круглые плечи девушки, поцеловал ее в лоб и перекрестил. – Будь здрава и помолись обо мне. Готовься в терем свой.
И он вышел. Ксения едва могла прийти в себя – так все это нечаянно случилось, что она даже не могла понять, что ж это такое было. Она ожидала чего-то страшного, чего-то такого, что вызывало в ней ужас смерти и самые мрачные воспоминанья. Она и пришла в ужас, когда вошло к ней это ожидаемое, это что-то такое, чего она не могла себе представить. И вдруг, словно заколдованная голосом чудовища, она забыла все, растерялась. Это было не то, чего она ожидала – и это срезало всю ее молодую волю, которая налажена была на протест, на борьбу, на ненависть. Случилось совсем не то: этот ласковый голос, эти добрые, участливые глаза, эти слезы, ласки – все это потянуло к себе одинокую, истосковавшуюся девушку, для которой мир стал пустыней. Это точно Федя приходил – так не страшно с ним – он родной… То несчастье, страшное несчастье – от Бога, от Его святой воли, а этот, что приходил, ни при чем тут – он добрый, он плакал…
А под окнами, в ограде монастыря и за оградой, гул стоит. Это «ему» кричат, «его» славят. И Ксении вспоминается ее прошлое. «Так и батюшку славили, и Федю, и меня».
Она упала на колени и стала молиться.
Прошло несколько недель. Ксения опять в Кремле, в своем тереме. Это тот же терем, те же стены, те же переходы, но не то кругом, что было еще так недавно: эти «бранные убрусы», эти «золоты ширинки», эти «яхонты сережки», о которых она плакалась в своей песне – это все есть, но это не то… Не так стало и во дворе, в царских теремах, как было при батюшке… Когда-то и при батюшке было шумно, весело, но это было давно, когда она была еще маленькою царевною. А в последнее время и при батюшке, и при Феде – тихо, суморачно, печально было… А теперь не то: все новые лица кругом – эти казаки, литовцы, польские панны… И речь-то нерусская, незнакомая слышится… И шумно как – музыка разная, веселости всякие. И на Москве шумно – то скоморохи по городу кричат, то домбры и накры гудут, волынки воют, действа всякие на улицах… Ах, если бы так при батюшке с матушкой было да при Феде.
Она была одна в своем тереме. Вечерело. И Оринушка Телятевская и Наташа Ростовская пошли ко всенощной. Завтра, 24 июля, память Борису, отцу Ксении, так и Оринушка и Наташа пошли помолиться, а завтра чтоб панихиду отслужить по покойном Борисе. Самой-то Ксении горько и обидно выходить из терема и показываться в церкви с того дня, как народ выволок их всех, Годуновых, из дворца и надругался над ними.
Душно. Она сняла с себя лишнее одеяние и осталась в одной кружевной сорочке и белом шелковом сарафане. Нет, все еще душно – голове жарко – это от косы – тяжела уж она невмочь, а особливо, когда туго заплетена. Ксения и косу расплела – так и укрылась вся косою, словно буркою черною. Только и белеется низ сарафана да часть сорочки на груди.
Она задумалась. Вспомнилось, как торжественно праздновались, бывало, именины ее батюшки-царя. Она положила голову на руки, припала к окну, к оконнице, да так и осталась.
Она не слыхала, как кто-то, тихо ступая по коврам, вошел к ней и остановился. Это был царь. Догадавшись, что Ксения опять плачет, он осторожно положил ей руку на голову. Девушка встрепенулась.
– Ах, это ты, государь.
Она растерялась от неожиданности и смутилась, что ее застали не в порядке, с распущенною косою…
– Ты опять в слезах, – сказал Димитрий с нежным укором.
– Прости, государь-дядюшка… я… я вспомнила…
– Что ты вспомнила, Аксиньюшка?
– Ох, прости, государь. Я батюшку вспомнила.
– Что ж, милая? Родителей и Бог велит помнить и молиться о них.
– Я молилась. Завтра батюшкова память, государь.
– А что завтра, друг мой?
– Память святых страстотерпцев российских князей Бориса и Глеба, государь.
– Что ж ты одна? Где твои девушки?
– У всенощнаго бдения, государь. Я… я боюсь, государь. Нас тогда… из терема… ругались над нами…
Она не могла говорить дальше – слезы задушили ее, и она зарыдала. Димитрий бросился к ней, схватил ее за руки, обнял и крепко притиснул к себе, целуя ее волосы, плечи, руки и бессвязно повторяя:
– Полно… полно, мое солнышко., забудь старое… милая моя, родимая моя! Полно же надрываться, Аксиньюшка, золото червонное… Да полно же, полно, светик мой…
И он целовал ее, припав на колени и путаясь головой в ее волосах, снова вставал, целовал ее шею, глаза… А она точно обомлела. Она забыла все, что около нее, где она, что с ней делается. И руки упали, и голова валится с плеч, и сердце замерло. Ей казалось, как будто она сама вся умирает в сладких судорогах. Ох, если б умереть так. Что это? Она никогда этого не испытывала. Она не чувствовала, как запонка ее сорочки выскочила из ворота и упала на пол, как сорочка спустилась с плеч, с груди и как он припал горячим лицом к ее жарким, упругим сосцам.
– Милая, радость моя…
– Ох… государь мой… дядюшка… дядя.
И руки ее сами собой распахнулись широко-широко. Она потянулась вперед и, обхватив его голову, так и замерла.
– Дядя… Митя… голубчик…
Димитрий высвободился из ее объятий, бледный, дрожащий, растерянно обвел комнату глазами и, схватив девушку в охапку, словно маленького ребенка, несмотря на массивность и полноту ее тела, прижал к себе и, шатаясь, понес ее, сам не зная куда… Ксения тихо простонала и обвилась руками вокруг его шеи…
– А мыши-то идут за гробом да горько-прегорько плачут…
А мышь татарская Оринка
Дудит на волынке.
А мышь из Рязани,
В синем сарафане,
Идучи, горько плачет,
А сама вприсядку пляшет…
Это бормотала дурка Анисьюшка, дворская потешница, которая была ко всем вхожа. Войдя в рукодельную Ксении и не найдя в ней никого, дурка – она была карлица – затопала по ковру маленькими ножками и снова забормотала:
– Ах, она стрекоза-егоза, девка-чернавка – на смех мне сказала, что Оксиньюшка в терему… Ан ее нетути… Погоди ты у меня, коза, походит по тебе лоза…
И она вышла на переходы, бормоча:
У дурки Онисьи
Шуба лисья,
Душегрея плисья…
XXII. Игра в снежки. Горе «свистуну»
– Уж больно добер наш царь-от, – говорил Корела-атаман, следуя со своим товарищем, атаманом Смагою, и с донскими казаками за город, где Димитрий велел устроить снежную и ледяную крепость, которую ради упражнения людей в воинском деле нужно было брать штурмом.
– Чего не добер! – отвечал Смага, коренастый брюнет с волосами в кружало и с южным типом лица. – А поди себе на беду.
– Да как не на беду не знают уйму эти польские стрижи: всех задирают, никого знать не хотят, по церквам с собаками ходят.
– Э! Се що! – вмешался Куцько, запорожец, отрывая ледяные сосульки с своих черных усищ. – А ото у недилю, так вони на улици московок ловили та женихались з ними. Так просто оце за цицьку або там за що друге ухопить московску, та й каже: «Мы вам-ка царя дали, так вы нас-ка вважайте, давайте все, що у вас е…» А московски у слезы. Гай-гай. Пиднесут им скоро москали тертого хрину.
– Да и поднесут, – заметил Корела. – Онамедни какой-то панишка Липский наплевал в бороду торговому человеку Коневу и вылаял его матерно. Так московские люди, зело озартачившись, сцапали этого панишку да и повели по улицам, а один парень идет за им да по московскому-то звычаю-обычаю кнутом его, да кнутом и подгоняет: «Но-но, говорит, польская лошадка, не брыкайся!..» Да как прогоняли этого панишку мимо посольскаго двора, и выскочи оттуда польские жолнеры с саблями, ну и пошел разговор: у москалей-то только кулаки да рукавицы, а у жолнеров-то – матки-шаблюки… Ну, москалей-то и поцарапали, а которых и совсем порешили: «Медведей-де на рогатину да шкуру долой». Довели это до царя… Царь и говорит жолнерам: «Выдайте, говорит, паны, тех, которые моих москалей изобидели, а не выдадите, говорит, добром, так велю подвезти пушку да всех от мала до велика, и с гнездом-то вашим, испепелю». А поляки, знамо, носы задирают, вонсы закручивают: «Так-то де ты, царь, платишь нам за нашу службу? Мы-де за тебя панскую кровь проливали. Ты-де нас пушкой не запугаешь: пущай-де нас побьют, а только-де помни, царь, что у нас есть король и братья в Польше… Узнают, так не похвалят тебя, а мы-де умрем все храбро». И что ж бы вы думали? Еще он же и похвалил их за храбрость: «Молодцы-де, – говорит, люблю!» А уже москалям велел выдать зачинщиков, да и посадил их в башню на корточки на целые сутки… Так, на корточках, и высидели, потому, ежели который повернулся бы, так прямо бы на острые шпигорья и напоролся… Ну а московские люди, знамо, сердятся за это на царя: выдал-де нас всех ляхам, и с головою.
– О!.. Лях – се така птиця, що зараз очи выдовба, гильки ий палец дай, – пояснил Куцько. – И пидведут вони царя.
– Да он сам идет к беде, – прибавил Корела. – И бог его знает, что за человек! Ничего и никого не боится. Теперь простил вот этих Шуйских, что ему яму копали. У! Это такая семейка, эти Шуйские, такое зелье, а особливо старый Васька, этот землепроход: и продаст и купит, и все в барышах останется… Наварят они ему каши…
– Да и Годуновых простил, – прибавил Смага.
– Годуновы что! Этот Ванька Годунов – дурак дураком, хоть он его и сделал сибирским воеводой.
– Гай-гай! Тут не без чогос, тут дивчиною пахне, – лукаво заметил запорожец, у которого всегда на уме было что-нибудь скоромное.
– Какою дивчиною? – спросил Корела.
– А Годунивна ж.
– Это Ксения-то?
– Та вона ж. Дуже, кажут, медом пахне. Он, Тренька ваш, с самого Дону до ней прилинув, щоб хоч оком одним на те трубокосе диво подивиться.
– Так что ж царь-то?
– Э! Що? И вин, мабудь, живый чоловик.
– Мало у него!
– Овва! Який мед…
В это время впереди их, на пригорке, ясно обозначилось какое-то белое чудовищное здание. Это была построенная, по приказанию Димитрия, потешная крепость: стены ее и бойницы сложены были из ледяных глыб, и все остальное было изо льду и снегу, политого водой и замороженного в льдины. Зрелище было поразительное. Вся ледяная громадина сверкала бриллиантами. Солнце, преломляясь в ледяных глыбах и отражаясь от снежных, замороженных крепостных валов, блистало всеми радужными цветами. В амбразурах крепости поставлены были какие-то чудовища, которые изображали собою татарскую силу, этих чудовищ Димитрий собирался громить, как он намерен был разгромить и крымскую орду.
Над крепостью развевалось знамя: на белом полотне красовался громадный красный полумесяц, а под ним – поверженный и сломанный крест.
Московские войска виднелись на стенах крепости и за валами. Они изображали собой татар, и они же должны были защищать крепость от царя, который командовал немецкими ротами, польскими жолнерами, а равно донскими и запорожскими казаками. Крепостью же и ее войсками командовал князь Мстиславский.
Москва, жадная до зрелищ, привалила на это позорище. Тут толкались и галдели уже знакомые нам лица – и из Охотного ряду великан, и детина из Обжорного ряду, и Геренька, и рыжий его товарищ, и офеня…
– А ты мотри-мотри! – показывал детина из Обжорного ряду на чудовищ, поставленных в амбразурах. – Вот дива! Что оно такое есть?
– А бесы… Али ты не видишь? С хвостами… ишь, хвостища-то какие!
– С нами крестная сила! – ахает баба с горячими оладьями.
В это время показался царь. Он ехал на белом коне, в сопровождении Басманова и других начальников.
– Буди здрав! Слава! – закричали русские.
– Гох! Гох! Гроссер кейзер! – вопили немцы.
– Hex жие! Hex жие! – вторили поляки.
– Ишь залаяли по-собачьи, вертоусы проклятые! – вставил свое слово «Охотный ряд». – Зудят у меня на вас руки, погодите!
– Что ж, братцы, это наших собираются бить? – любопытствовал «Обжорный ряд».
– Да вестимо нас, дураков… Кто ж нас не бьет?
А дело похоже было на то, что действительно собирались бить русских: так выходило по планам осады.
Царь повел свои отряды на приступ. Битва должна была произойти на снежках, но московскому обычаю. По первому сигналу на осажденных посыпались тучи снежных комьев. Но уж для кого снег составляет родную стихию, как не для русского человека? На этот раз осаждаемые ответили такими снежными митральезами, что осаждающие попятились назад. Многие немцы попадали. У иных, и у немцев, и у поляков, носы оказались разбитыми. В толпе послышался взрыв хохота.
Басманов поскакал в крепость для каких-то переговоров: он повез от царя приказание – не очень упорно защищаться, чтоб не вышло в самом деле драки. Мстиславский должен был повиноваться и укротить воинственный пыл стрельцов и других ратных людей.
Снова приступ, снова тучи комьев. Осажденные подались… по приказу.
– Братцы! Наших бьют! – завопил «Охотный ряд».
– Не давай, робята, наших в обиду!
– Валяй их, всртоусов латинских!
– Немцы, я видела, со снегом камни метали, – вмешалась баба.
– Бей их, гусынных детей! – раздаются крики.
Как бы то ни было, крепость была взята немцами, поляками и казаками. Так было угодно царю. Он поступил так бестактно, не желая никого обидеть и, напротив, желая сблизить русский народ с иностранцами. Он все силы употреблял, чтоб выставить напоказ все лучшие стороны последних, но русские были обижены этой бестактностью юного, пылкого монарха, как он невольно обижал их и в других случаях: что для него казалось глупостью, предрассудком, закоснелостью, то именно и было дорого москвичам.
Шуйский все это видел и все взвешивал на своих аптекарских весах. Молодой, увлекающийся царь простил его, воротил из Вятки, куда он отвезен был прямо от плахи, с Красной площади и где пробыл всего до октября; мало того, веруя в честность и искренность людей – качества, которыми, к удивлению, наделила природа этого неразгаданного человека необыкновенно щедро, качества истинно рыцарские, положительно поражающие в этом таинственном, точно с неба свалившемся, существе, – веруя исключительно в добрые начала и великодушно прощая злые, Димитрий возвратил Шуйскому все свое доверие.
И вот сидит этот убеленный коварством Васюта в своих богатых палатах вечером, после взятия Димитрием ледяной крепости, и обводит своими лукавыми глазами собравшихся у него гостей. Тут и братцы его: Димитрий и Иван Шуйские, слабые копии своего братца Васюты. Тут и Голицын-князь, и Василий Васильевич и Михайло Игнатьевич Татищевы, и князь Куракин, и Гермоген Казанский. Тут и некоторые из стрелецких голов, сотников и пятидесятников. Горчит и почтенная борода купчины Конева с серьгой в ухе.
– Что, Гриша, у тебя фонарь-от под глазом? Али не светло ноне стало в Москве, что московские люди с фонарями под глазами стали ходить? – ехидно обращается Васюта к сотнику стрелецкому, дворянину Григорию Валуеву. – Ишь, фонарище какой.
– Это ноне, как потешную крепость царь брал, так один литовец угодил мне камнем замест снегу.
– И ты ему волосы его не выдрал?
– Царь не велел.
Такими и подобными шпильками Шуйский подготовлял то, что ему нужно было.
– А ты, Федор, почто бороду не сбрил после польской харкотины? – шпигует он Конева.
– За что брить святой волос… – пробурчал Конев.
– А коли его опоганили?
– Ну, после освятили.
– Как освятили?
– Знамо как – водой святой. Ведь коли кошку дохлую али собаку вкинут в колодец да тем его опоганят, так после, вынявши падаль, снова крестят и святят колодец. Так и бороду мне отец Николай освятил и окропил.
– Так-то так, – продолжал Шуйский. – А вот коли в Русскую землю, в Москву-матушку, в сей кладезь православия, набросали падали – кошек да псов дохлых, панежской да лютеранской ереси, так от этой падали уж не откропиться нам, не очистить земли Российской. А кто причиною?
– Царь, – угрюмо отвечал Гермоген казанский.
– Истинно глаголешь, отец святой, – поддакивал Васюта. – Да, отцы и братия, – наводил он на свое. – Попутал нас нечистый за грехи наши. Мы, вон, думали, что спасемся от Бориса, коли признаем царевичем расстригу. Он-де все ж наш, православной, знает истовый крест и не дает в обиду правой веры и обычаев наших. Ан мы обманулись – обошел нас еретик. Какой он царь? Какое в нем достоинство, коли он с шутами-скоморохами да сопельщиками тешится, сам аки Иродиада плясавица[37]37
…аки Иродиада плясовица… – Автор, наверное, имел в виду в этом сравнении не саму Иродиаду, а ее дочь Саломею – Иродиадицу, которая в награду за свою пляску, по наущению матери, попросила у царя Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя.
[Закрыть] пляшет и хари надевает? Это не царь, а скоморох…
– Уж что и говорить, коли хари надевает, – снова вставил богословское замечание купчина. – За это на том свете черти наденут на него огненную железную харю.
– Жупелом его ерихонским! – не утерпел и пятидесятник стрелецкий.
– Жупелом, точно жупелом, – подтвердил Шуйский, подлаживаясь под стрельцов. – Он не русский царь, а польский: больше любит иноземцев, чем русских, о Церкви Божией не радеет, позволяет еретикам с собаками в церковь ходить, не соблюдает постов, ходит в иноземном платье, обижает духовный чин, посягает, аки тать, на достояние святых монастырей… Вон арбатских попов выгнал на улицу, аки непотребных каких, а домы их немцам отдал. Чем эта нечисть лучше иереев Божих? А ему не любы они, потому водится с латинами проклятыми да с люторами нехристями, пьет-ест с ними из одной чашки, как пес со свинией, да еще топерево и женится на нечести, на еретичке – на литовской девке Маришке. Али это не бесчестье всем нашим московским девицам? Али бы у нас ему не нашлось из честного боярского дома невесты и породистее, и телом дебелее, и станом потолще, и лицом краше этой польской выхухоли? А что будет, как он женится на ней, на еретичке? Польский король Жигимонтишка станет помыкать нами, аки своими холопями: мы попадем в неволю к Литве. А вон она, проклятая, как вонсы закренцила, какими велькими бутами по нашей земле стучит: «наше-де будет!» Теперь он хочет, в угоду Жигимонту, воевать со свейскою землею, послал уж в Новгород мосты мостить, да он же и крымских татар задирает и с турками воевать хочет. Так он нас в конец разорит. Наша кровь будет литься, наша казна ухнет – а ему что! Это не его, а наше. Доселе он в Киеве милостыней жил, под заборами спал, так ему не в диковинку будет и всю Русь спустить. Это проходимец, бродяга, не помнящий родства, овца без стада! А он у нас царь! Срам, срам, срам! Мы скоро станем притчею во языцех… Царя из-под забора взяли! Да пусть, и это не беда: из Руси-матушки хоть жилы вымотай, а она все будет жить, двужильная… А вот вера-то святая погибнет, церкви в костелы да в капища перевернутся; вместо иереев в храмах латинския собаки будут выть да скоморохи на сопелях да на гудках играть станут… Вот оно где, горе-то великое.
Гермоген вскочил и застучал своим посохом так сильно, что Шуйский струсил: ему почудилось, что это встал из гроба Грозный и застучал своим железным посохом: «Васютка Шуенин! В синодик[38]38
…В синодик хочешь!.. – Церковная книга «Синодик», куда вписываются имена для вечного поминовения; здесь – ироническое иносказание «поминальника», в который царь Иван Грозный мог «зачислить» (казнив) любого.
[Закрыть] хочешь!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































