Текст книги "Лжедимитрий"
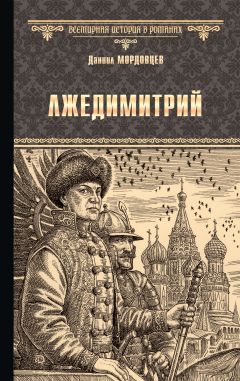
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
XXVIII. «Спи, спи, русская земля!»
Прошел еще день. Поляки ликовали. С великою торжественностью и великою пышностью справили они в четверг «боске цяло». Им казалось, что вольная, счастливая, блестящая Польша переселилась в хмурую, холодную Московию и согрела ее своею вольностью, осветила своим блеском, оживила мелодиею польской речи, польской песни…
Ксендз Помасский был так величествен во время богослужения, особенно когда, благословляя царицу Марину, на голове которой горела бриллиантовая коронка, говорил:
– Благословенная из благословенных дщерей святой матери нашей, церкви апостольской, великая царица Московская! Над коронованною главою твоею блестят лучи славы бессмертной – это святая непорочная Дева Мария осеняет своею божественною дланью. Она через божественного Сына своего возвела род человеческий от смерти к жизни, вывела из геенны огненной: ты выводишь народ московский из мрака неведения, варварства и рабства к свету истинной веры и просвещения. И будет имя твое славно и честно из века в век: оно станет наряду с именами первых апостолов, и цари земные придут и поклонятся тебе… О, Самбор! Ты будешь новым Назаретом.
Паны и пани тают от удовольствия! Сама Марина глубоко взволнованна.
– Ах, Марынцю, вот смешно будет, когда в костеле поставят твой образ и заставят молиться тебе, – шепчет ей Урсула, когда ксендз кончил свою речь.
– Перестань, Сульцю, все ты со своими глупостями, – отвечает Марина, отворачиваясь.
– А я, ваше величество, буду молиться вам усерднее, чем всем другим святым, – шепчет паж Марины, юный панич Осмольский.
На улицах Москвы и в Кремле также ликует вольная, беззаботная Польша. То и дело слышатся выстрелы, это холостые салютации к празднику, – и как ни невинны эти забавы беззаботных панов и их гульливых гайдуков, однако москвичей это тревожит и раздражает…
– И какого беса они все стреляют, нехристи? Только детей пужают.
– Да вон там за городом опять крепость потешную ставят, отнимать будут у нас…
– Держи карман! Дадим мы им!
– Вон и пушки повезли.
– То-то! Пущай везут на свою голову. А вон, сказывал Конев, Царь-пушка не пошла.
– Как не пошла?
– Да так – уперлась, голубушка, да и ни с места.
– А они нетто и ее хотели взять?
– Как же… Да она у нас, матушка, не дура.
– А вот звонарь на Успенской колокольне про чудо сказывал…
– Ой ли? Какое чудо?
– А во какое: на Миколу стали звонить к утрени, а колокол не звонит…
– Что ты? Как не звонит?
– Так и не звонит – немой стал, аки бы человек, и язык есть, да не звонит, на-поди!
– Что ж это с ним сталось?
– А осерчал на нехристей. Как он осерчал-то да перестал звонить, так звонарь мало с ума не сошел со страху. Да к патриарху, слышь: так и так – большой колокол наш-де от сердцов… Так уж сам-от патриарх насилу отчитал его да водой откропил от немоты.
– Ну и зазвонил?
– Зазвонил.
– Ах они, проклятые! Ишь усищи, словно кнуты подвитые.
Это замечание относилось к знакомым нам краковским панам – к пану Непомуку и к пану Кубло, которые важно проходили в это время по Красной площади, неистово звякая саблями и гордо поглядывая по сторонам. Им казалось, что вся Москва, разинув рот, любуется ими. Да и как не любоваться, пане, этакими молодцами? Одеты они богато: на пане Непомуке голубой кунтуш с зелеными шароварами и красная магирка, на пане Кубло красный кунтуш с желтыми, канареечного цвета, шароварами и синяя магирка; на ногах у первого сафьяновые сапожки, у пана Кубло «вельки буты» вместо женских стоптанных котов.
В это самое время через площадь проезжала каптана, по обыкновению завешенная цветной материею.
– Подайте, Христа ради, поминаючи родителей своих, – проскрипел голос нищего, сидевшего у дороги.
Занавес каптаны приоткрылся, и оттуда выглянуло хорошенькое женское личико, полное и румяное. Такая же полная белая рука бросила нищему медную монету.
– За здравие царевны Ксении, – послышалось из каптаны.
Увидев хорошенькое личико, пан Кубло приосанился: руки, ноги, голова, усы – вся фигура его и движения напоминали кобеля, рисующегося перед своими «дамами»; недоставало только хвоста бубликом, но у пана Кубло хвост заменяла сабля, торчавшая сзади и бившая его по ногам.
Когда женское личико вновь выглянуло из каптаны, чтобы бросить монету другому нищему, пан Кубло подскочил козелком к самой каптане и послал воздушный поцелуй неизвестной красавице. Это увидели узнавшие царевну москвичи:
– Ах ты, гусынин сын! Нехрист эдакая! Вот мы тебя!.. – закричало сразу несколько человек.
А между тем Димитрий не замечал… Хотя уже многие – и вовсе не враги ему – обращали внимание на вспышки, на глухие подземные удары, которые обнаруживали присутствие подземного огня, готового пожрать нарождающееся царственное величие этого необыкновенного юноши с его грандиозными планами, с его дерзкою решимостью изумить весь мир. Упоенье любовью не отвлекало его от кипучей государственной деятельности: Басманов, Власьев, Сутупов, Рубец-Мосальский и князь Телятевский постоянно призываемы были для представления докладов, для подачи к подписанию указов, грамот, законов и для выслушивания разных именных повелений…
– Как ты много работаешь, милый, – говорила ему Марина утром в пятницу, когда он пришел к ней после занятий. Ты похудел даже.
– Это ничего, сердце мое коханое, я похудел от счастья, – отвечал он задумчиво. – Мы теперь не в Самборе, не в парке у гнезда горлинки. Помнишь?
– Помню, милый. Думала ли я тогда, что так выйдет?
– Да. А как дрожали твои руки, сердце мое, когда ты тех птичек кормила. Но ты не видела, как мое сердце дрожало.
– Я слышала его, когда ты наклонился ко мне. А знаешь, когда это было, милый?
– Как – когда? Я ли не помню!.. Как сегодня все… Сегодня ровно два года. Это было шестнадцатого мая, после того, как татко праздновал день твоего спасенья в Угличе… И как тогда противный пан Неномук велел зарезать к столу бедную горлинку.
Димитрий задумался: не то он вспомнил о неразгаданном своем прошлом, не то слова Марины разбередили в нем другие воспоминанья.
– Два года… ровно два года… пятнадцатое-шестнадцатое мая. А сколько пройдено в эти два года! До трона дошли, – говорил он, как бы сам с собой. – До трона… А как невысоко до трона. Сердце мое! Радость моя! Так надо праздновать этот день – первые именины нашей любви.
– Да. Еще когда пришла Ляля потом…
– Кто это такая Ляля, сердце мое?
– Ляля нокоювка моя, девочка, что влюблена была в пахолка Тарасика. Как увидала она меня после твоего ухода из парка, так и руками всплеснула. «Ах, панночка! – говорит. – Яки у вас очи велики стали ще бильши и краще, як були… Таки очи… як у Богородици, що з Рима привезли – Мадоною зовут…»
– Ах ты, моя Мадонна! Ляля эта правду сказала в невинности сердца – ты Мадонна. Отпразднуем же сегодня именины нашей любви, а завтра за дело.
– За какое дело, милый? Точно ты мало делаешь?
– О! У меня много дела впереди, сердце мое, много, так много, что во всю жизнь не переделаешь. Теперь уж готовятся рати и стягиваются к Ельцу. Когда прибудет весь наряд и обозы с кормом и припасами, тогда я сам вместе с тобою, сердце мое, поведу мои рати к Азову. Возьму Азов – это у меня будет первая дверь в море. Через эту дверь я выведу мои рати в море, да в союзе с королем Жигимонтом, да с королем Генрихом Четвертым французским (к нему я посылаю послом, сердце мое, Якова Маржерета), да с цесарем Римским ударю на Царьград и изгоню турок из Европы, освобожу Святую Софию, Гроб Господень…
– Ах, милый мой! Великий мой! Какой ты великий! – обнимала его восторженная Марина, мечты детства которой, казалось, уже сбывались, и она подносила ключи от Гроба Господня святому отцу, папе…
Но этой последней своей мечты она не доверила пока Димитрию.
– Мой великий! Мой славный! – шептала она.
– Мое величие и моя слава впереди, сердце мое.
Потом я хочу воротить Русской земле то, что принадлежало моим прародителям: Рюрику, Синеусу, Трувору, князьям киевским, галицким, полоцким. Все это должно быть моим – от северных морей до южных. Я хочу, чтоб мои корабли ходили вокруг света. Потом я намерен заложить в Москве университет.
– Такой, как в Гейдельберге, милый, куда уехал…
Она не договорила и покраснела. Димитрий заметил это.
– Кто уехал в Гейдельберг, сердце мое? – спросил он.
– Мой знакомый… знакомый татки… Урсулочки…
– Да кто же, кто, друг мой?
– Он… ты дрался с ним… ранил его…
– А! Князь Корецкий, что вздыхал по тебе.
Тень пробежала по лицу Димитрия. Но он в то же время почему-то вспомнил Ксению… вечер 23 июля. «Митя… Митя мой!» – отозвалось у него в сердце, и он молча обнял Марину, не смея взглянуть ей в глаза.
– А помнишь, душа моя, нашу охоту в Самборе? – сказал он, стараясь скрыть свое смущение.
– Когда ты ходил на «медведя-Годунова»? Помню, еще бы не помнить этого дня!
– А что, испугалась разве?
– Да, милый. Ох, как было страшно! Но главное не то, не это я помню.
– Что же это такое другое, сердце мое?
– А то, что тогда в первый раз я почувствовала, что люблю тебя. За тебя-то я и испугалась, милый.
В это время вошел старый Мнишек. Он был встревожен. Димитрий заметил даже, что у него дрожала рука, когда, в знак благословения, он положил ее на голову дочери.
– Что скажет пан отец? – спросил царь.
– Сын мой! Тебе угрожает опасность. Сегодня пришли ко мне жолнеры и говорят, что вся Москва поднимается на поляков. Заговор, несомненно, существует.
Царь хладнокровно заметил:
– Удивляюсь, как ваша милость дозволяет жолнерам приносить всякие сплетни.
– Ваше величество, – отвечал воевода, – осторожность никогда не заставит пожалеть о себе и потому будьте осторожны!
– Ради бога, пан отец, не говорите мне об этом больше. Иначе нам это будет очень неприятно. Мы знаем, как управлять государством. Нет никого, кто бы мог что-нибудь сказать против нас – мы никого не казнили, никого не наказали, ни одна слеза не упала еще из глаз моих подданных мне на совесть. Но если б мы увидели что-нибудь дурное в нашей воле лишить жизни виновного.
Он говорил медленно, строго, царственно. Живые глаза его сделались какими-то стоячими, глубокими, бесцветными. Потом он прибавил:
– Хорошо. Для вашего успокоения я прикажу стрельцам ходить с оружием по тем улицам, где поляки стоят.
Вошел Басманов. Лицо Димитрия прояснилось.
– Что, мой верный? – спросил он ласково.
– Небезопасно в городе, царь-осударь, – тихо отвечал Басманов.
Димитрий нетерпеливо махнул рукой. Марина подошла и ласково положила ему руку на плечо.
– Выслушай его, – шепнула она, глядя ему в глаза.
– Ну?.. – обратился он к Басманову.
– Которые, царь-осударь, шесть человек были взяты ночью на твоем дворе – воры, злодеи твои.
– Ведь трех положили на месте?
– Точно, царь-осударь. А которые трое остались, и те пытаны накрепко, и с пытки ничего не сказали, да так в расспросе и подохли.
Димитрий задумался. Глаза его опять были бездонные, бесцветные.
– Хорошо, – сказал он мрачно, – завтра мы сделаем розыск. Дознаемся, кто против нас мыслит зло. А ноне я хочу быть добрым. Ради моей царицы. Спасибо, мой верный друг!
Басманов низко поклонился и вышел.
Прошел и этот день – первые именины первой любви загадочного человека.
Вечером в новом дворце были танцы. Гремела музыка, звенели шпоры панов, шуршали, раздражая мужские нервы, шелковые платья хорошеньких пани… Носились, словно херувимчики, миловидные пахолята в цветных изящных костюмчиках, прислуживая Марине и другим дамам. Паж Осмольский, стоя за стулом царицы, тайком целовал ее роскошную, распущенную по плечам и перевитую золотыми нитями и жемчугом косу. Счастье, счастье, без конца счастье!
Теперь все утихло. Гости разошлись. В дворцовых сенях остались только пахолята и несколько музыкантов – и все спят, разметавшись где попало.
Не спит один Димитрий на своем роскошном ложе рядом с Мариной. Он слышит ее ровное, тихое, как у ребенка, дыхание, чувствует теплоту ее разметавшегося на подушках молодого тела. Почему-то в эту ночь перед ним проходит вся его жизнь, полная глубокого драматизма, поразительных воспоминаний.
Углич… не то он сам помнит себя в Угличе, не то ему кто-то рассказывал об этом. А кто? Где? Когда? Темно… темно там, в далеком детстве… пропасть какая-то глубокая… ничего не видать.
А там монастыри какие-то… черные рясы… книги пожелтелые и воском закапанные… старцы ветхие… и «царевич»! Да, это в крови сидело, под черной рясой и скуфьей колотилось царское сердце, текла царская кровь, колотился под черепом этот мозг, беспокойный, царский.
«И отчего Богдан Бельский никогда мне прямо в глаза не смотрит, когда я расспрашиваю его о своем детстве?.. А кто этот княжич Козловский, о котором он раз проговорился? Кто он? Где пропал?..»
«Днепр широкий… Киев… пещеры… мощи угодников… Гоща… Брагин… Самбор… Краков… Путивль… Москва… Экая лента какая перед глазами!.. И все чужие люди назади… Хоть бы один друг детства…»
«Как тихо кругом… как тихо в Москве».
«Эх, Москва! Москва! Эх, Русь моя дорогая! Возвеличу я тебя, просвещу светом учения, раздвину тебя от моря до моря, и будешь ты богатая и могучая, будешь ты царицею цариц».
– Ох, милый, где ты? – с испугом шепчет Марина.
– Что ты, сердце мое?
– Ах, как страшно! Дай взглянуть на тебя.
И Марина обвилась вокруг его шеи, глядела ему в очи. На дворе светало уже.
– Да, это ты, мой милый, мой царь… а я видела во сне не тебя… не здесь… другого… И он говорит, что он – ты… Как страшно…
– Ну, спи же, спи, дорогая моя.
Марина опять уснула. А он опять остался со своими думами.
«Да, я чужой им всем… И мать моя какая-то чужая мне… Ах, детство! Детство мое! Да что мне на него оглядываться? Впереди еще целая жизнь – целый океан жизни… Как тихо в Москве вся уснула… Один царь ее не спит… Спи, спи, Москва! Спи, Русская земля великая! Скоро я разбужу вас…»
Что это?.. Издали, откуда-то из города, прокатился по небу набатный звон… Что это такое?!
Мы знаем, что это такое… Это Шуйский выступает на сцену.
XXIX. Русская земля проснулась
Москва взялась за нож да за рогатину. В пятницу уже на глазах этой Москвы поляки видели что-то зловещее. Паны и гайдуки бросались по лавкам и пороховым складам покупать порох – на случай самозащиты, но везде натыкались на эти зловещие глаза и слышали в ответ:
– Нет у нас зелья.
По змеиному шипу Шуйского часть войска, что готовилась идти в Елец, окружила Москву змеиным кольцом, чтоб не выпустить того, кого обрекли на смерть…
И сорока будет лететь из Москвы – и сороку бей, – шепнул Шуйский стрелецкому голове, участвовавшему в заговоре. – То, може, не сорока, а он бес-еретик.
В роковую ночь, после пира, когда поляки и москвичи спали и когда Димитрий, лежа рядом с Мариной, мысленно переживал всю свою загадочную жизнь и заглядывал в темное будущее, не спали змеиные глаза Шуйского, отдававшего разные приказания, да некоторые из его сподручников тихо прокрадывались по спящим улицам Москвы и отмечали черными крестами дома, в которых жили поляки…
– Да почернее, братцы, мажьте, не жалейте киновари этой латынской, еретической.
– Подпустим, подпустим киновари, батюшка-князь, у нас богомазы на этот счет есть знатные.
– А вы, братцы, расправляйте резвы ноженьки, да как учуете колокол полошной – это заговорит святой Илья-пророк на Ильинке, – так и нойте по улице в истошный голос: «Литва царя хочет убить! Литва Москву берет!..» Да кресты-то им и укажьте нашим-то православным, где крест, там Литва…
Полошный, набатный колокол на Ильинке ударил в тот самый момент, когда край солнца только что коснулся горизонта, первый солнечный луч брызнул на колокольню и, скользнув по роковому колоколу, осветил и озолотил рыжую бороду звонаря…
На этот удар ответили соседние церкви – в самом звоне слышалась тревога, испуг, какой-то странный металлический призывный крик, и стон, и вопль… Нет ничего страшнее набатного звона многих церквей. Теперь этот звон вывелся; но кто слышал пожарный набат, тот знает, что колокольный крик – самый страшный крик, доводящий до ужаса, обезумливающий людей… Это крик стихийного отчаянья…
Скоро закричали все церкви московские с их тысячами колоколов, дрогнули все колокольни и, словно вся Москва, – и дома, и улицы, и стены Кремля, и площади – все задрожало… Ужас, неизобразимый ужас!..
Москва, как ошалелая, металась по улицам, но площадям искала крестов – и уже кое-где трещали и ломились ворота, звенели окна, падали ставни… Ближайшие валили в Китай-город, к Кремлю… Всполошенная птица, как и люди, металась из стороны в сторону, кричала, каркала, боясь сесть на крыши, на заборы, на церкви, все кричало и стонало…
А Шуйский уже на Красной площади, на коне… Только что выглянувшее солнце золотит его серебряную бороду, искрится на седых волосах, на кресте, который он держит в одной руке, а в другой – голый, сверкающий каким-то холодным светом меч… Он – на коне – такой бодрый, величественный… Куда девались его лисьи прячущиеся глаза? Они смотрят открыто, строго, зло, не боясь света солнца… Да и чего им теперь бояться? Кого? Прежде Шуйский боялся царей и лукавил перед ними, пряча свои лукавые глаза: лукавил перед Грозным, лукавил перед убогим Федей-царем, лукавил перед Борисом Годуновым, лукавил перед Федей Годуновым, лукавил до сегодня и перед этим, что там, в Кремле, спит, может быть, лукавил и обманывал.
Тут же, около Шуйского, на площади, Голицыны, Татищев тоже на конях, в боевом виде… Тут же и толпа пеших, большею частью тех, лица которых виднелись на последнем вечернем собрании у Шуйского:
Григорий Валуев, Тимофей Осипов и другие… Это они – только те, да не те лица: что-то особенное на них написано. И блестят на солнце ножи, топоры, стволы ружей, острия копий, рогатин…
А колокола захлебываются – гудят и ревут… Ревет и народ, заполняя своими телами Красную площадь.
– Кого бьют? За кого стоять?
– Царя бьют.
– Царя! О… – стонет площадь. – Кто бьет?
– Литва!
– О! Литву… Литву бить! Литву топить!
И обезумевшая от колокольного звону и от собственных криков городская толпа рванулась в разные стороны искать поляков.
– Кресты, братцы! Кресты ищи! Помни, кресты!
И толпа отхлынула в город – искать кресты… Тогда Шуйский с кучею заговорщиков двинулся в Кремль – ему не Литва нужна была, а «голова рыжая»…
А «рыжая голова» не спала… точно она предчувствовала, что ей уж больше не придется вспоминать свою жизнь, и вспоминала в последний раз.
Услыхав набатный звон, Димитрий тихонько встал с постели, боясь разбудить Марину, наскоро оделся и быстро направился на свою половину дворца… В дверях он столкнулся с Димитрием Шуйским.
– Что это за звон?
– Пожар в городе, царь-государь.
– Так я сейчас еду.
И он воротился к Марине, чтобы взглянуть на нее, на сонную, и успокоить, если она проснется.
Но звон становился ужасен. Словно волна, он приблизился к Кремлю, заливал уже Кремль, гудел над самым ухом гремел на Успенском. Во дворе голоса, угрожающие крики… «А! Рабы ленивые!.. Это вы о биче соскучились. Я был слишком добр для вас. Так я буду для вас Ровоамом[52]52
Ровоам – сын царя Соломона; после смерти отца отказался снизить бремя налогов и повинностей, из-за чего возник бунт и Израильское царство раскололось на два. Ровоаму принадлежат слова: «Отец мой бил вас бичами, а я буду бить скорпионами», то есть плетьми с несколькими хвостами и железными зубьями на концах.
[Закрыть]: отец мой бил вас жезлом, а я буду бить скорпиями, вы сами этого хотите».
А вот и Басманов тревожный, испуганный.
– Что там? Поди узнай!
Басманов отворяет окно на двор. На дворе уже сверкают секиры, ножи, торчат рогатины.
– Что за тревога? Что вам надобно? Эй! – кричит Басманов стальным голосом.
– А отдай нам своего царя-вора! Отдай, тогда поговоришь с нами! – отвечает толпа.
– Подавай его сюда!
Басманов бежит к Димитрию. «Загула струна – загула – и лопнет… Лопнула!» – заколотилось у него в груди.
– Ахти мне, государь! Сам виноват – не верил своим верным слугам. Бояре и народ идут на тебя, – говорил он, наскоро опоясывая саблю.
«А! Холопье семя!.. А если я в самом деле не тот? – мелькнуло у него в уме. Нет! Нет!»
В дверях толпились немцы-алебардщики – они защищали вход.
– Запирайте двери, мои верные алебардщики!.. Если я голыми руками взял целое царство Московское, то с вашей помощью я удержу эту ошалелую клячу. О! Горе изменникам!
Но «ошалелая кляча» была сильнее, чем он думал. Еще с вечера Шуйский именем царя приказал дворцовой страже, алебардщикам и стрельцам, разойтись по домам, так что из всего караула, состоявшего из ста человек одних алебардщиков, осталось на страже человек до тридцати. С Шуйским же явилось ко дворцу более двухсот заговорщиков.
Мастерски задумал Шуйский свой роковой ход, мастерски и делал его ступал уверенно, рассчитано: семь раз примеривался, чтобы один раз отрезать ненавистную ему «рыжую голову».
Когда его молодцы приблизились ко дворцу, он слез с коня, набожно взошел на ступени Успенского собора и набожно поцеловал соборные двери.
– Кончайте скорее с вором, с Гришкою Отрепьевым! – сказал он, указывая на дворец крестом тем, что дал ему Гермоген Казанский. – Кончайте! Коли не убьете его, он нам всем головы снимет.
Толпа ломилась бешено, дико. Алебардщики не выдержали и подались назад. Раздались выстрелы…
– Государь, спасайся! – кричит верный Басманов. – Я умру за тебя!
Но упрямая «рыжая голова» еще верила в себя. Бесстрашно, с закушенными от злости губами, Димитрий выступает вперед и громко требует своего меча…
– Подайте мне мой меч!
Но где царский меч? Куда девался мечник? Нет его. Ведь он тоже Скопин-Шуйский, лукавой крови и в него попала капля. Нет великого мечника князя Михайлы Васильевича Скопина-Шуйского и нет налицо царского меча.
Царь выхватил алебарду у Вильгельма Шварцгофа и, показавшись в наружных дверях, закричал к толпе резко, отчетливо:
– Я вам не Борис!
Толпа прикипела на месте. Да, это царский голос, страшный, как погребальный звон, резкий, как свист секиры палача. Ни с места – замерли, закоченели, на «зверей» напал страх…
Из толпы просвистала пуля, грянуло… Но толпа ни с места… страшно… это царь… надо падать ниц…
Но Басманов испортил все дело. Он вздумал защищать того, чей голос заставлял трепетать… Он бросился вперед, заслонил собою того, кто ужас наводил на толпу.
– Братцы, – говорил он, – бояре и думные люди! Побойтесь Бога, не делайте зла царю вашему, усмирите народ, не бесславьте себя!
Дурак! Погубил все дело… Татищев сразу понял это и, сказав крепкое слово, такое крепкое, какое в состоянии выговорить только рот русского человека, ударил Басманова ножом прямо в сердце… Басманов, как сноп, с хрипом скатился с лестницы.
Кровь пролита, крепкое слово сказано – для толпы уже не было страха. Толпа зарычала. Раздались выстрелы, крики, полилось рекой крепкое русское слово, не стало удержу ярости русского человека…
Царь отступил – перед ним уже были не подданные. Алебардщики заперли двери, но ненадолго: треск и грохот падающих половинок показал, что все разрушается легче, чем создается.
Димитрий дальше отступил. О! Давно ли он только наступал, но не отступал? А теперь приходилось отступать. Куда? С трона? В могилу?..
Дрожит от ударов и следующая дверь… это трон дрожит… порфира спадает с плеч, корона валится с головы… держава, скипетр – все вываливается, расступается земля… шатается мир…
Димитрий схватился за голову – рвет рыжие волосы… За что?.. О! Он знает, за что… За веру в людей! Он им верил, им… О! Да скорее зверям можно верить, чем им… Рви же, бедный, рви до последнего свои рыжие волосы!..
А вот… Господи! А крики, – да это небо взбесилось, земля обезумела, медь на колокольнях взбесилась – и звонит, звонит!
А Марина… Боже мой! Да к ней пройти нельзя… началась разлука…
– Зрада! Зрада! Сердце мое! Зрада!
Точно и голос-то не его… Да, не его – не своим голосом кричит иногда человек, истинно не своим… У него взяли и царство его, и его Марину, и – его голос!
Нет спасенья… Бежать? Позор бежать!.. Но и бежать-то уж некуда… А надо бежать… Вон окно, вон спасенье… На эти леса, что поставлены для иллюминации… иллюминация будет в воскресенье – это завтра будет…
Он прыгнул на леса, как собака прыгает из окна, прыгнул, споткнулся на лесах и полетел на землю, с высоты тридцати футов. «О, зачем я не жулик, не вор – я б не споткнулся…»
В этот же момент, когда он пожалел о том, что он не жулик и не умеет из окон прыгать, он потерял сознание. Москва, трон, царство, Марина, свет божий – все исчезло – и сам он исчез…
– Милый! Милый! Где ты? – спрашивала Марина, проснувшись и не видя около себя мужа.
Никто не отвечал. Слышался только набатный звон. Марина вскочила с постели и подошла к окну: в городе слышался страшный шум, заглушаемый ревом колоколов.
– Пани гофмейстерина! Пани гофмейстерина!
Но рев колоколов заглушал даже ее собственный голос – пани «охмистрина» не откликалась… Напротив, слышались голоса извне… грозные возгласы… «О, Езус Мария!.. – молнией прорезала ее страшная догадка. – Так скоро!..» в одной сорочке, простоволосая, бросилась в нижние покои, под своды, никого не встречая на пути… Слышны уже были крики и выстрелы в самом дворце… Страшно, о как страшно!.. «Где он? Что с ним?.. Татко…»
Она бросилась опять наверх… Слышит стук оружия, человеческих ног… Валит какая-то толпа, страшные лица, страшные возгласы…
– Ищи еретика!
– Давай его сюда, вора!
Марина прижалась… «Его ищут… он еще жив… Боже!» Толпа, не заметив своей царицы, сталкивает ее с лестницы… Бедная!.. Она закрыла лицо руками – и тихо заплакала, прижавшись в уголок…
Вдруг кто-то схватил ее за руки.
– Ваше величество. – Это был ее паж, юный Осмольский, который искал ее. – Ваше величество! Зрада! Спасайтесь!
– А мой царь? Мой муж?
Осмольский махнул рукой.
– Спасайтесь! Умоляю вас! – И он силой увлек ее во внутренние покои, прикрывая своим плащом ее голые плечи и грудь. А давно ли он стоял трепетно за ее стулом и украдкой целовал ее роскошные волосы? Теперь они без жемчуга и золота – разметались по белой сорочке и по голой спине.
– О, Боже! Царица! Где вы были? Я искала вас! – вскричала гофмейстерина.
Комната, куда Осмольский ввел Марину, была наполнена придворными дамами. Картина была неуспокоительная: на лицах у всех был ужас. Та в отчаянье ломала руки, другая молилась, распростершись на иолу. Между ними был один только мужчина – и тот почти мальчик, верный паж царицы, Осмольский. Слыша приближение врагов, он запер двери и с саблею наголо оберегал их.
– По моему трупу злодеи пройдут до моей царицы! – говорил бедный юноша, сверкая глазами.
Дверь грохнула… Грянули ружейные выстрелы – и труп был готов: как подкошенная травка, упал честный юноша на пол, раскинув руки и глазами ища свою царицу. Если кто верно и искренно любил се, так это он, этот честный мальчик.
Его изрубили на куски, как капусту.
– А! Змееныш литовский! Секи мельче змееныша – оживет! – кричит бритая голова – только что вырвавшийся из тюрьмы колодник.
Женщины, как ягнята среди волков, сбились в кучу, и ни слова, ни крика – только дрожат. В стороне лишь одна женщина – пани Хмелевская. Она тоже вздрагивает, но истекая кровью. Вздрагивают руки, старое лицо подергивается смертными судорогами… В нее угодила пуля.
В этот момент снизу, со двора, послышались крики:
– Нашли, нашли еретика!
Все поняли, кого нашли. Марина даже не вскрикнула – напряглась так, что хрустнули челюсти.
– Прощай, мой милый! Прощай, мой царь…
И она вспомнила самборский парк, гнездо горлинки… О! Зачем было все то, что было?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































