Текст книги "Лжедимитрий"
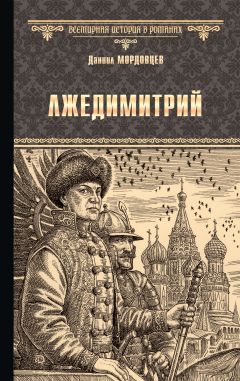
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Говори! – закричало несколько нетерпеливых голосов.
– Говори!
– Борис велел убить Димитрия-царевича; токмо царевича спасли, а воместо его погребен попов сын, – отвечал он после вторичного возгласа.
Следовательно, теперь он говорил совершенно противоположное тому, что сказал этому самому Борису, возвратившись из Углича, куда Борис посылал его производить розыск, когда получена была весть, что царевича Димитрия не стало. Тогда он сказал: «Царевич со сверстниками-жильцами тешился – играл ножом в тычку и зарезался в припадке черного недуга».
– Похоронили попова сына – слышь ты, дядя, – ехидно обратился Теренька к своему товарищу.
Тот молчал, видимо, сконфуженный.
– А ты еще сказывал – гашник у тебя тады с испугу порвался. Эх ты, гашник.
«Гашник» лишь головой своей рыжей помотал…
Толпа заревела зверем – плотина прорвалась…
– Долой Годуновых! Всех их друзей и сторонников искоренить! Бейте, рубите их! Не станем жалеть их, коли Борис не жалел законного наследника и хотел его извести в детских летах. Господь нам теперь свет показал – мы доселева во тьме сидели. Засветила нам теперь звезда ясная, утренняя наш Димитрий Иванович! Буди здрав, Димитрий Иванович!
– Братцы! Православный народ! Милосердные христиане! Послушайте! – неожиданно раздался чей-то голос с Лобного места.
Все невольно оглянулись, как бы смутились. На Лобном месте стоял офеня, суздалец Ипатушка-иконник, которого знала вся Москва и на иконы которого молилась более четверти века.
– Братцы! – говорил иконник трогательно. – Послушайте вы меня, православные христиане. – Он низко кланялся на все четыре стороны. – Не убивайте вы их, не проливайте кровушки христианской. Они робятки еще: они вам зла не делали. Не трожьте младу Оксиньюшку – богоискательная она, иконушки у меня брала да сама ж, матушка, иконами да милостынею нищую братью наделяла. Не трожьте и Федюшку: он дите доброе. Возьмите у него скифетро царское, а ево не изводите – не берите грех на душу. Я от царевича пришел – он не ищет их смертушки: он только скифетро батюшкино ищет. Помилуйте их, православные!
– Ладно! – заревела толпа. – Иконник прав! Рук, робята, кровью не марай, а скифетро возьмем!
И толпа хлынула в Кремль. Виднелись только всклокоченные головы да бороды, да там и сям подымались к небу кулаки с возгласами: «Скифетро, скифетро!», «Скифетро, робята, не трожь… не ломай».
– Что это за скифетро, дядя? – спрашивает Теренька.
– То-то «дядя»!.. А лаяться – лаешься, собачий сын. Гашником назвал.
– Что гашник! Вот скифетро-то… я не знаю.
– А перо такое царское.
Красная площадь и в особенности пространство между Лобным местом, Троицею на Рву и Спасскими воротами представляли неописанное зрелище: передние толпы, теснимые задними, не выдерживая напора, падают, ругаются, на них спотыкаются и падают другие; все, кто в боярском платье, стараются улизнуть, а улизнуть некуда – кругом живые стены колышутся; ущемленные бабы вопят в истошный голос. Испуганная птица – вороны, галки, голуби, воробьи, стрижи, – все это взвилось над бешеной толпой и мечется из стороны в сторону…
– Валяй, робята, разнесем!
– Рук не марай!
– Скифетро не трожь!
Эти голоса уже слышались в Кремле. Гигантский хвост толпы еще колыхался у Спасских ворот. У Спасских же ворот, неизвестно каким чудом уцелевший слепой нищий с чашечкой сидит и слезно причитает:
– Ох, кровушка, кровушка! Ой и течи-течи кровушке во мать сыру землюшку, течи-течи кровушке семь лет и семь месяцев. Ох и солнышко красное! Сушить тебя, солнышко, сушить землю кровную, на семь пядей смочену кровью христианскою, сушить ровно семь годов да семь месяцев… Ох и Русь ты матушка, ты земля несчастная, земля горемычная, лихом изнасеянная, политая кровушкой – что на тебе вырастет?.. Ох, кровушка-кровушка! Ох, горюшко-горюшко! Ох, слезыньки-слезыньки! Течи вам на сыру землю семь лет и семь месяцев.
XVII. Гибель Годуновых
В то время, когда посланец Димитрия, Гаврило Пушкин, читал народу привезенную им грамоту, юный царь, Федя Годунов, еще не развенчанный, был один в своих покоях, и, несмотря на горе последних дней, на грозивший ему страшный призрак, под веянье золотых грез своей молодости вспоминал, как недавно, на Духов день[26]26
Духов день – второй день христианского праздника Пятидесятницы (Троицы).
[Закрыть], во время его царского выхода, Ирина Телятевская вместе с прочими целовала его царскую руку, целовала жарче, чем все думные бояре, окольничие, стольники, дьяки и весь царский чин, и как ему тогда стыдно стало, и как ему самому хотелось расцеловать ее, да нельзя – он царь и великий князь Русии. Зловещий говор толпы не достигал его покоев.
Вдруг кто-то входит. Господи! Сама Ириша! Молодая кровь так и прилила вся к сердцу – дух захватило. Девушка бросается на колени и хватает руки Федора, хватает судорожно, безмолвно.
– Оринушка! Светик мой! – обхватывая белокурую головку, нагибается к ней юноша-царь. – Что с тобой?
– Царь-государь! Солнышко незакатное! – безумно лепечет девушка.
Он приподнимает ее к себе, снова обхватывает ее голову и губы их сливаются…
– Федя! Царь… соколик… ох! Солнышко мое… Уйди… схоронись… Бог ты мой…
– Свет очей моих! Ориша!
– Ох, беги… беги! Убьют тебя!.. Там, на Красной площади… мне сенная девушка сказывала… На тебя, царя моего, идут… Ох, смерть моя, хоронись… царь… Федя мой…
Федор сам начал различать словно далекие раскаты грома. Он опомнился. Крепко обняв девушку, которая его крестила и целовала в глаза, он вышел. Он направился в Грановитую палату: он все еще не думал, что дело так далеко зашло.
Вскоре он увидал, что народная волна направляется прямо ко дворцу. Надо принять меры, а никого нет – все бояре исчезли. Приходится самому разделываться – ведаться с народом. Он помнит, что он – царь, надо царем, в царском величии предстать пред народом. Он облачается в царственное одеяние… венец… порфира… скифетро… А народ уже теснится к воротам, стрелецкая стража не выдерживает натиска и отступает. Волна вливается во двор, подступает к Красному крыльцу, заливает ступени, клокочет уже близко, в переходах – и наконец врывается в Грановитую палату.
Молодой царь, бледный, как полотно, в полном облачении, словно златокованая икона, сидит на престоле. Молодое личико в массивном, блистающем камнями венце кажется совсем детским.
По обеим сторонам престола, с иконами в руках, стоят мать царя и сестра Ксения: об эту святыню должна разбиться народная ярость.
Нет, не разбилась! Бедные дети!
– А, Федька, воровской сын, отдай царское скифетро! – раздались голоса.
– Долой с чужого места!
И толпа с угрожающими жестами подступила к престолу. С визгом, как укушенная собака, мать-царица, с иконою впереди себя, ринулась на толпу, силясь заслонить собою сына. Несколько здоровых рук, словно клещами, сжали ее слабые женские руки, и икона с грохотом упала на пол.
– Ой, братцы, образ!..
– Подыми бережно.
– Долой с чужого места!
– Скифетро отдай!
Бедного юношу-царя сволокли с престола; Ксения, стоя в стороне с образом, плакала, дрожа всем телом. Ее никто не тронул.
Мать-царица, освободившись от живых клещей и видя, что сына ее ведут, снова бросилась на толпу, и снова была оттолкнута. В ослеплении ужаса она срывает с шеи жемчужное ожерелье и отчаянно вопит:
– Возьмите это! Ох, берите все, только не убивайте его! Батюшки! Светы мои!
– Не бойся, не убьем – рук не станем марать, огрызнулся кто-то в толпе.
– Не душегубь, робята! – раздается еще чей-то голос.
– Сказано – не будем.
И царя, царицу-мать, и Ксению вывели из Грановитой палаты. Офеня с трудом протискался до Ксении и все шептал тем, которые вели ее:
– Полегше, робятушки, бога для! Не трожьте ее, не зашибите дитю неповинную… Полегше, голубчики, помягче. Христа ради!
Толпа рассеялась по дворцу. В одной комнате наткнулись на двух прежних посланцев Димитрия: на них были следы пыток и истязаний; тела их были иссечены, изожжены. От этого зрелища народ окончательно озверел, но все-таки не пролил ни одной капли крови.
– А, вот они что делают, Годуновы-то! Людей пекут! Вот какое их царство! И нам бы то же досталось.
– Разноси, робятушки, все по рукам, ломай дочиста. Все это нечистое – Годуновы осквернили.
– Валяй, братцы, не жалей! Новому царю все новое сделаем.
И началось разрушение… Дворец опустошили. Все, что можно было изломать, уничтожить, разбить, разнести, взломали, уничтожили, разбили, разнесли…
XVIII. Въезд Димитрия в Москву
Двадцатого июня 1605 года вся Москва собралась встречать своего чудом спасенного и словно бы из могилы вышедшего царя. Какой яркий день, какое жаркое солнце, как жарко горят золотые маковки московских церквей, как весело смотрят всегда хмурые кремлевские стены, унизанные народом, словно пестрыми гирляндами цветов! Всюду, куда ни обращается взор, живое колыхающееся море голов человеческих, мало думающих, но жадных ко всякого рода зрелищам. Колышется море этих голов и по улицам, и по площадям, колышутся живые изгороди из голов на стенах, на заборах, в окнах, на крышах домов, даже но карнизам и у самых куполов церквей. А возвышенный берег Москвы, что к Серпуховским воротам, словно вымощен живым булыжником – московскими головами.
Скоро, скоро покажется невиданный, негаданный царь. Москва все глаза проглядела, выжидая его с самого раннего утра и готовая ждать до глубокой ночи.
Тут все наши знакомые – толкаются в живой толчее: и офеня Ипатушка, и толстый купчина с сережкой в ухе, толковавший своему соседу, глуховатому старику, когда еще читали в Лобном месте анафему Гришке Отрепьеву, что орлиное перо – царское перо; и Теренька с рыжим товарищем, рассказывавшим о событии в Угличе и ныне посрамленном; и саженные плечи из Охотного ряда; и рыжий детина из Обжорного…
Офеня, которого неустанные ноги успели за это время сносить в Тулу вслед за выборными от Москвы – князем Иваном Михайловичем Воротынским и князем Телятевским, отцом Оринушки, возившими к Димитрию повинную грамоту от всех московских людей – офеня теперь был центром, около которого теснились любопытствующие москвичи в ожидании царя.
– Так ты его, Ипатушка, чу, и в Туле видал? – любопытствует купец с серьгой.
– Видал, кормилец. Бояр это он на глаза к себе пущал, что с Москвы приехали челом бить да повинную принести Воротынской князь, да Телятевской, да Мстиславской, да Шуйские. Так маленько он их ошпарил.
– Что ты? Как ошпарил?
– Да во как. В ту пору с Дону пришел атаман Смага с казаками, так он Смагу-то этого да Корелу-атамана, что в Кромах сидел, допреж бояр к руке своей допустил… А и так себе – непутящий и народ, казачьи атаманы-то эти: ни князи, они, ни бояре; а вон боярам-то нос утерли.
– Ишь ты, вавилония какая! Почто, значит, Бориске служили…
– Верно – вавилония. Так князи-то, словно раки печеные, стояли. А и сам-от он, царевич, гораздо добер. Сказывал мне Григорий Отрепьев.
– Это Гришка-то расстрига?
– Он самый. При ем он состоит, аки дьяк, не то жилец. Так сказывал: привезли это к ему с Москвы грамотку от покойничка, от Федора Борисыча, когда он еще царем был. Пишет это он: «Благоверный-де государь Димитрий Иваныч всея Русии. Прости-де меня, окаянного. Не я-де причинен в кровопролитьи российском, а блаженные памяти родитель мой, Борис Федорыч: он-де на тебя зло мыслил, а не я. Я-де уступаю тебе честь и место – ты-де законный царь. А я-де пью чашу смерти – зелье отравное. Бог-де да благословит тебя на царство…» Так чел это он, царевич, грамотку-то эту, а слезы у него в три ручья – так и льют, так и льют, что зачем-де Федор Борисыч живота лишил себя – смертное зелье принял…
– Что ты, дедушка! – вмешались «саженные плечи». – Федор-от не пил смертного зелья, а его удавили.
– Помилуй Бог!
– Верно, дедушка. Мне это дело сведомо – сам стрелец Якунько сказывал. Дело было так. «Приходим-де мы, – сказывает Акунько, – я да еще двое стрельцов, Осипко да Ортемко, да дворяне Михайло Молчанов да Шерефединов. – Приходим-де, гыть, к ним, Годуновым, в палаты. Старуха-то, царица Годуниха, и ну-де вопит в истошный голос. Плачет-де и девка, дочка Оксинья. А и красавица-де, говорит, писаная: кровь с молоком да еще и с сахаром… Жалко, гыть, стало ее – дрожит вся, сердешная. Мы ее, гыть, тихонько на руки, да, словно перышко, снесли в другой покой и отдали мамушке – береги-де голубку чистую. А сами к ним – к старухе да к сыну. Развели и их. Старухе-то петлю на шею – так только-де захрипела: „Федюшка“-де да „Оксиньюшка“ – на том и отошла. Мы, гыть, к ему, к молодому… А он, гыть, детина дебелый, сбитень такой, кулачистый гораздо, – да, гыть, в зубы! Осипко-то и свались. Ортемка к ему – он и Ортемку в салазки: и Ортемка тычком. Так я, гыть, по-песьи – как псы медведя берут: я его гыть за тайный уд – да и ну давить. Он и посинел. Тут Осипко-то очунил маленько да дубиной его в темя – так и захрипел боровом, вытянулся. Мы, гыть, на его петлю – и довавилонили раба Божия». Так-ту, дедушка, дело было. Годуниху с сыном удавили.
– Мати Божая! Владычица! Господи долготерпеливый! Что твои люди-то делают? – ужаснулся офеня, всплеснув руками. – Так их удавили, баишь?
– Удавили, дедушка.
Офеня заплакал. Мелкие, частые слезы так и потекли по его поседелой бороде.
– Господи помилуй! Господи помилуй! – шептал он, утирая слезы. – Ох, Оксиньюшка, горькая сироточка! Ох, дите бесталанное, горемычное!.. Где ж она ноне, голубушка? – спросил он, немного помолчав.
– Одни сказывают, якобы в Девичьем, другие – кабы у Мосальского, у Рубца князя, – отвечал купчина с серьгой, и потом прибавил: – Вот ты, Ипатушка друг, плачешь об ей, об сиротке Годуновой. Жалостно – что говорить? А я вот, друг, рыдал, аки баба-кликуша, когда Святейший Патриарх Иов с нами прощался. Уж и плакал же я, скажу тебе – боровом, кажись, ревел. Да и вся-то Церковь плакала – что боже мой! – ручьем лилась… Как узнал это он, святитель, что царь Димитрий Иванович всея Русии подлинно жив и что он, святитель-то, облыжно его, государя, Гришкой-расстригой облаял, вором поносил, да анафематствовал над ево головушкой, так и говорит: «Не быть мне боле святителем – распанагеюсь-де я сам, своими-де святительскими рученьками сыму с себя панагею Божью». Ну, друг, и вошел это он во храм, аки подобает патриарху, облачили ево, чу, во святительские ризы… Ладно. Стоим мы, смотрим, что дальше будет. А он, друг ты мой, возьми да и сыми с себя панагею-то. Мы так и ахнули! Снямши-то ее, друг мой, он и кладет ее перед образом Владимирской Божьей Матери, да эдак ручки-то вздемши горе и говорит: «О, всепетая, говорит, Мати! О, всемилостивейшая Пречистая Богородица! Эта, говорит, панагея и святительский-де сан возложены на мя, недостойнаго в твоем храме, у твово-де честного чудотворного образа. Возьми же де ее сама теперь, Матушка, панагею-то свою: ноне-де идет на твою православную веру вера еретича…» И как стали это с ево, друг мой, после панагеюшки-то сымать ризы архиерейски, как стали разоблачать сердешного – так вся Церковь в слезы, а бабы – ну те ведь водянистее нас – так те в истошный голос, руки и ноги в ево целуют да воем воют… Уж и поплакали же мы – и боже мой! Откуда только и слеза бралась!
– Купчина правду говорит – это точно, что все плакали, инда меня слеза прошибла, словно бы кто рогатиной под микитки сунул, – выступил снова оратор из Охотного ряду, с саженными плечами, тот, что особенно интересовался «скифетром» и судьбой Годуновых и рассказывал, как стрельцы Якунько да Осипко да Ортемко покончили с ними. – А ты, дядя, слухай, что опосля было… – обращался он к офене. – Все это не к добру… Как выставили, чу, телеса покойничков – Годунихи старой да сынка ейнаго, чтоб народ-от посмотрел, так я и видал их тогда… Страшно таково было глядеть на них – не видал я допреж того удавленников. А там возьми да самого-то Бориса вынули из могилы, из Архангельскаго-то собора: негоже-де самоубивиц лежит с благоверными царями. Ну, вынули. Как везли-то его гроб к Варсонофью, за Неглинную, так все время, сказывают, на гробе-то ворон сидел и каркал. Сгонют ево с гроба-то, а он опять сядет да крыльями машет, да «кар-кар-кар!» – таково страшно… Недаром народ толкует…
– Что толкуют? – с испугом спросил купчина.
– Да что жив он…
– Кто, родимый?
– Да он – Борис. Во место себя, сказывают, он велел похоронить идола – истукан такой, весь в ево, как две капли воды. Немцы ему такой делали.
– А где ж он сам?
– Знамо – хоронится. Вон ворон-то и каркал…
– А как пришли это к ему немцы и в Коломенское – встречать… – снова завладел общим вниманием офеня.
– Каки немцы?
– А здешни, что Борису-то служили.
– Это после-то нашей трепки, как мы у голландца Гнюса тешились…
– Ну? – перебил его купчина с серьгой.
– Ну, так вот и пришли немцы с повинной, – продолжал офеня. – Прости нас, говорят, царь и великий князь Димитрий Иванович всея Русии, не прогневайся, что мы Борису Годунову служили и супротив-де тебя шли. Мы-де шли по закону, но крестному целованью. А как ноне-де Годуновых не стало, так мы тебе крест целуем – ради-де служить и прямить тебе.
– То-то… крест… Это после того, значит, как мы немца Гнюса в медовой бочке кстили, – объяснял «Охотный ряд».
– А ты помолчи, парень, – останавливал его купчина. – Что ты ему в рот с ногами лезешь… Ну и пришли немцы, говоришь? Служить-де и прямить хотим? – наводил он офеню на прерванный рассказ.
– Точно, служить, чу, и прямить хотим. А он им говорит: «Добре, – говорит, – немцы! Вы верно служили Борису и под Кромами не сдались – ушли к Борису. А теперь-де Бориса нет, и вы пришли ко мне с повинной – и за то-де я вас жалую». Да опосля того и пытает у старшего немца: «Кто-де у вас держал стяг под Добрыничами?» – «Я-де, – говорит, – царь-осударь, держал стяг под Добрыничами», – это немчин-то отвечает, да и вышел из ряду. А Димитрий Иванович всея Русии положил эдак ему руку на голову и говорит: «Памятен-де мне твой стяг, немец. Вы, немцы, мало-мало тогда не пымали меня, да мой конь унес. А досталось бедному коню, говорит, – он-де и ноне болен. А что, – говорит, – немцы, вы тогда убили бы меня, коли б пымали?» – «Это точно, что убили б», – говорят. А он-то смеется: «У Бога, – говорит, – в книге не то обо мне написано».
– А что ж там написано? – полюбопытствовал «Охотный ряд».
– А то, что ты дурень, – отвечает «Обжорный ряд».
Трах-тарарах! В зубы! По-московски – и пошла писать…
– Едет! Едет! – прошел говор по толпе.
Задвигалось, ходенем заходило живое море голов человеческих – московских голов, хоть и расходиться было негде: упади с неба яблоко, так бы и осталось на головах или на плечах.
Заколыхались человеческими головами и кремлевские стены, и ограды церковные, и заборы, и крыши, и карнизы с куполами на церквах, заколыхались, заходили, словно бы они могли сами ходить и колыхаться.
Словно хвостатое и крылатое чудовище двигается по Заречью, отливая на солнце всеми цветами и красками – какие только есть на земле. Впереди идут польские роты. На оружии и латах и шлемах бешено играет солнце, московское солнце, словно удивляясь своему собственному блеску. Да и вычищено же это польское оружие, эти латы – ведь впереди сколько ему предстояло работы, этому оружию, сколько оно должно было иззубриться, кровью позапачкаться, слезами проржаветь! Чисто оно теперь – не работало еще. И колючие копья блестят, остриями обращенные к небу, после они обратятся к земле, к людям, в груди и сердца московские… Польские трубачи и барабанщики бьют палками в барабаны и в трубы трубят так радостно, возбудительно, что и рубить и любить хочется… Тут пан Борша с молодецки закрученными усами, тут и пан Неборский в блестящих «вельких бутах», шитых в самом Кракове, тут и пан Вялоскурский, с дорогою карабелею при боку – сколько изящества и грации среди московской мешковатости, в виду московского зипуна и кики! А какая рыцарская величавость у пана Непомука. Сколько благородной гордости в осанке пана Кубло, которого мы видели в Кракове в женских котах! А вон за польскими ротами мешковато, грузно, аляповато, но стойко колотят московскую землю огромными сапожищами угрюмые московские стрельцы в длиннополых, словно дьячковские полукафтанья, но – красных зипунах. Широкие бороды, широкие плечи, широкие затылки – нескладно кроены, да крепко сшиты: так и видно, что топором, а не резцом работала над ними матушка-природа, и только под топором эти воловьи шеи и поддадутся. За стрельцами медленно двигаются царские каптаны-колымаги, везомые каждая шестернею отборных коней, воспитанных на царских «кобыличьих конюшнях»: это не кареты, а какие-то ковчеги, изукрашенные золотом, изнавешанные золотыми покровами. От Рюрика все князья и цари российские могли бы поместиться в этих ковчегах… А сколько дворян на конях, боярских детей, блистающих своими азиатского пошиба и цвета кафтанами с шитыми золотом ожерельями, на которых, словно на ризе Иверской Богоматери, золото, камни и жемчуг очи слепят… А эта московская музыка[27]27
…московская музыка – накры и бубны… – Накр – старинное название раковины (перламутр); то есть дудели в раковины и били.
[Закрыть] – накры и бубны – захлебываются: и гудут и визжат до того неистово-торжественно, что голова закружиться может… А за музыкантами опять московские воинские люди – те исторически бессмертные воинские люди, которых сама же Россия трепетала: «как бы де воинские люди не пришли и дурна какого не учинили». И они приходили, и всегда чинили дурно… А за воинскими людьми развеваются в воздухе церковные хоругви, на шитье и украшении которых сосредоточено было столько хорошеньких глазок, столько благочестивых помыслов и воздыханий. А вслед за хоругвями и под их сению, аки под крилами ангелов, шествует освященный собор – иереи, протоиереи, архиереи, архиепископы, митрополиты и весь святительский сонм, блистающий лепотою брад честных, нестригомых, убеленных сединою и черных, русых и рыжих и рудо-желтых, сияющий златом и камением риз своих, аки красотою душевною и телесною. А под конец всего сонма несут иконы Спасителя, Богородицы и московских чудотворцев[28]28
…и московских чудотворцев… – К описываемому времени были канонизированы русской церковью Петр, Алексей и Иона – митрополиты, способствовавшие в XIV–XV вв. укреплению Московского государства.
[Закрыть] – окованные золотом, унизанные камением многоценным. И шествует за иконами, как нечто живое и видящее, святительский посох – жезл Аарона[29]29
…жезл Аарона – согласно Ветхому Завету, это посох, который по воле Бога расцвел миндалевидным деревом. В христианстве – символ Богородицы.
[Закрыть], несомый посошниками: он шествует отдельно от святителя, как ангел, ведший иудеев в Землю обетованную… За посохом – сам святитель, первопрестольник церквей всея Русии.
– Вот он! Вот он, кормилец-поилец наш батюшка! – о-го-го! – о! – о! – застонало море голов человеческих, простонала Москва горластая, плечистая, голосистая.
Это она увидала спасенного, нежданного-негаданного, точно свыше посланного царя.
– Ой, матушки! Ой, голубушки! Ох, молодешенек-то какой! Соколик! Ой, матыньки! Ой! – завыли бабы в голос, в причитанье. – Солнышко ты наше ясное! Звезда незакатная! О-о-о!
А он на таком коне, какого еще не видывала Русская земля… Раздобыл где-то, выкопал из-под земли Богдан Бельский… Уж и конь же! Ушьми ткани прядет, ногами разговоры говорит, глазами ковыль-траву сушит, ржет до неба – уж и конь невиданный, уж и сбруя на нем – и сам черт не разберет, как она изукрашена, чем она изнавешена. На самом на царе – золотный кафтан: ожерелье на нем – в тысячи, а всему кафтану и цены нет.
– Вот он, батюшка, голубчик! Bo-на! Ах ты солнце праведное, взошло ты, ясное, над российскою землею. Свети ты над нами отныне и довеку!
А он едет да на обе стороны кланяется, а Москва так и стонет, так и надрывается.
А тут вокруг него, словно бор золотой с серебром, бояре, князи, окольничие: бородами помахивают, золотым платьем глаза слепят, грузным телом коней томят.
А это что за черти косматые-волохатые, каких Москва еще и не видывала? Косматые шапки на них – с голов валятся, верхи на шапках – по плечам треплются, маком цветут. Уж и Господи! Что у них за посадка молодецкая, что у них за усищи богатырские, что под ними за кони дьявольские! Это любимцы царевы, баловни его – казаки донские, запорожские, волжские и яицкие. Со всей земли как пчелы слетелись удальцы невиданные… Впереди Корела со Смагою – загорелые, запыленные, словно в аду побывали. Подальше – Куцько в широчайших штанищах, с чубом в девичью косу, с усами пол-аршинными: глядя на него, московские бабы сквозь землю проваливаются, груди надрывают – ахают.
Димитрий поднял голову – перед ним словно вырос Кремль во всем его своеобразном величии. Вздрогнул невольно пришлец, снял шапку, и дрожащие губы его проговорили, как-то выкрикнули:
– Господи Боже! Благодарю тебя! Ты сохранил мне жизнь и сподобил узрети град отцов моих и мой народ возлюбленный!
И потекли у него по щекам слезы умиления.
И Москва не выдержала – зарыдала! – зарыдало море людское… О, бедные люди!
А колокола-то ревут-стонут, Господи! Да от такого рева оглохнуть можно, с ума сойти слабонервному.
Димитрий на Красной площади, у Лобного места, с которого еще так недавно оглашали всенародно его проклятие: «Анафема! Анафема! Анафема!» А теперь людское море стонет: «Многая лета! Многая!..»
Димитрий в Кремле, в Архангельском соборе, у гробов своих прародителей, великих князей и царей московских… Он припадает к гробу Грозного… Трепет охватывает всех при одном воспоминании сухощавой, изможденной страстями фигуры, с лицом безумно бешеного, в костюме юродивого…
– Батюшка! Батюшка! Ты покинул меня на изгнание и гонение… Но ты же и спас меня твоими отеческими молитвами.
И слезы его льются на гроб Грозного…
Как не пошевельнулись кости этого страшного царя, когда на его гроб капали слезы, может быть, какого-нибудь проходимца, сочиненного Богданом Бельским и вымуштрованного иезуитами?
А Богдан Бельский стоит бледный, с безумно обращенными на гроб Грозного глазами. Ух-ух! Что это? Ему кажется, что гроб Грозного шевелится… шевелится… земля ходит…
Бельский ухватился за что-то руками и в ужасе закрыл глаза…
– Свят-свят-свят, Господь Саваоф!









































