Текст книги "Новые и новейшие письма счастья (сборник)"
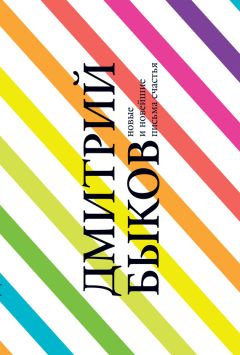
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Драйвовое
На «Красном Октябре», поймав момент, блеснул Медведев. Там теперь Октябрик: есть правда в том, что бывший президент явился на одной из бывших фабрик. Сам повод мне казался пошловат: все сдал, что можно, – так чего бы ради? Там делали когда-то шоколад – теперь собрались те, что в шоколаде (кто отбирал героев – не пойму, но это явно был коварный демон), и стали хором объяснять ему, как правильно он делал все, что делал, как твердо гнул он линию свою, сдаваясь в главном, побеждая в малом… А в это время Путин интервью давал в Барвихе трем телеканалам: зачем – не знаю. Видимо, затем, чтоб местной узаконенной малине по-прежнему мерещился тандем, хотя тандема не было в помине.
Сюжет, достойный Агнии Барто, хоть, в сущности, не стоящий полушки. Что он сказал? – а то из вас никто не рассказал бы этого получше! Сигналов новых он не подавал, ничто не предвещало холиваров. Там был из Злато уста сталевар, точнее, златоуст из сталеваров, сияющий, как свежий апельсин, и сообщивший несколько манерно, что летом у него родился сын (стараньями Медведева, наверно). Там был Минаев, рыхлый наш акын, изрекший пару лозунгов протухлых, – он хвалит власти с рвением таким, с каким ругать их принято на кухнях. Весь интернет наизгалялся всласть – на этот подвиг мы всегда готовы. Все повторяли: «Не бросайте власть!». Медведев возмущался: «Что вы, что вы!». О чем писать эпистолу свою – я сам не знал и вглядывался паки, но в это время свежую струю внесла в беседу Тина Канделаки. Сперва она поведала о том, что друг ее, успешный англичанин, себе обрел в России новый дом (должно быть, этот юноша отчаян!): свою судьбину в клочья изодрав, он ринулся сюда, и это здраво. «В одной России есть сегодня драйв! В России невозможно жить без драйва!»
Вот вещь, непостижимая уму, но внятная любому в той клоаке: у нас в стране успех придет к тому, в ком будет драйв, сказала Канделаки. И вот, припомнив свой банальный лайф, в порожнее текущий из пустого, – я начал думать: что такое драйв? Как люди понимают это слово – вот эти все, собравшиеся там с какой-то целью, а не ради кайфа, которые резвы не по летам и веселы вообще неадекватно? В конце концов, английский мне знаком, но, отличаясь от меня-изгоя, они другим владеют языком, и «драйв» там значит что-нибудь другое. Страна полна печалей и злодейств, каких не выжечь никаким глаголом, – так как мне этим драйвом овладеть, чтоб стать таким же свежим и веселым? И что есть драйв? Уменье сочетать утробный юморок с напором лести? Уменье врать? Уменье не читать? Искусство с криком «Марш!» бежать на месте? Отыскивать в безжизненности нерв, швыряя в несогласного каменья, умеет весь медведевский резерв; боюсь, что это все его уменье. Науку эту я не угрызу, до светлых их вершин не доползу я: на выпученном радостью глазу там виден отблеск явного безумья. Он и в глазах Медведева блистал. Прошу не плакать чересчур ранимых, – нам четко явлен был Медведев-style: манера улыбаться на руинах. В конце концов, когда царит развал, чем утешаться Родине, чего там… «Почаще улыбайтесь», – он призвал. Зачем? Чтоб стать готовым идиотом? Но это вправду новая волна: держаться надо весело и серо. Натужным ликованием полна у них теперь любая атмосфера: шахтер, боксер, свинарка и пастух, ведущий, сталевар и их хозяйва – все пялят зенки, все смеются вслух, и этот общий смех – основа драйва. Врут, что у нас возможностей нема – у нас их край буквально непочатый: утратить стыд, шутя сойти с ума, попасть бесплатно в год семидесятый… Воистину, уж если мы хотим тут выжить и попасть при этом в ящик, то лживый жизнерадостный кретин – достойный и внушительный образчик.
А прочие – уже любых кровей, – почувствовав, куда несет стихия, все чаще выбирают drive away.
Точнее даже – drive away from here.
Журфаковское
Я вызвезжен с журфака, журфаковский студент. Ко мне туда, однако, приехал президент. К стыду корреспондентов, случилось qui pro quo: собрал взамен студентов неведомо кого. Занятья отменили недрогнувшей рукой. Они его хвалили за то, что он такой. Они его просили, создав приветный гам, чтоб дал Саакашвили конкретно по зубам. Я знаю этот ровный, медоточивый штиль, и этот многословный, велеречивый стиль, и глазки вурдалака, готового уже (таких в среде журфака не видно и в МЖ![37]37
Отделение международной журналистики, славившееся мажорами.
[Закрыть])
Среди людского моря, холуйством обуян, фамилию позоря, стоял один Иван. Он гнулся гибким станом и лыбился до слез перед другим Иваном, который музобоз. Лишь семеро отважных – безбашенных скорей – в плакатиках бумажных толпились у дверей, не наглые ни разу и с виду беднота, но их скрутили сразу, открыть не давши рта.
Для этого парада от нашего стола там только балюстрада и лестница была. Москва стояла в пробке, казалась чуть живой, студенты жались, робки, к решеткам Моховой… В охранничьем оскале изобличился враг: журфак не допускали учиться на журфак! Поэтому студенты, являя ум и прыть, свои апартаменты задумали отмыть – от лажи, холуяжа, бессилия и врак. Пускай случилась лажа – журфак всегда журфак.
И вот теперь мы ропщем, встречаясь тет-а-тет: зачем позорить в общем приличный факультет? Студенты им – помеха, их сразу не нагнуть – так пусть бы он поехал еще куда-нибудь! Зачем бежать к журфаку, задравши хвост трубой? Они же эту клаку везде везут с собой. Какую, громко гаркнув, преследовали цель? Поехали бы в Дортмунд, поехали бы в Йель, в республику к Кокойты, в другие города, в веттехникум какой-то, да мало ли куда.
А в общем, глядя шире на этот их приезд, – ужели мало в мире других приличных мест? Зачем их загрузили в тебя, моя Москва? У них ведь нет с Россией ни сходства, ни родства.
Ни «Твиттеру», ни крабу грубить я не хочу – нашли бы по масштабу, избрали по плечу! Им дали бы без спора достойный их венец Албания, Андорра, Монако, наконец… Не станет безработных, финансы расцветут… А мы такой субботник устроили бы тут! Не убоявшись пота, припомнив старину, от имиджа болота отмыли бы страну!
А если нас не слышат Отечества отцы, поскольку не колышут их вольные певцы, – не дожидаясь знака, отчистим местный сад, начав опять с журфака, как двадцать лет назад.
Революционный этюд
Читатель! Откровенно говоря, свой пафос я считаю обреченным. Сегодня красный день календаря считается почти повсюду черным. Не мне хвалить совдеповский содом, но все же видно, граждане, чего там, – никто не должен помнить о седьмом, и все напоминает о четвертом. Четвертое покуда грубый шарж на празднество народного единства, – но сверху терпят даже русский марш, чтобы седьмого плебс не возбудился. Неукротимой злобою горя, начальство нам внушает оголтело, что не было седьмого ноября. И главное, не будет, вот в чем дело.
Согласье чистоплюев и деляг – поистине сомнительное благо. Где дали власть народу – там ГУЛАГ, а то бы сроду не было ГУЛАГа. Как Гершензон, что плохо знал матчасть, заходятся сегодня в том же плаче: нам следует терпеть любую власть и даже уважать ее, иначе… Иначе нас, конечно, не простят, отправят в лагеря, поставят в угол все те, кого намеренно растят, чтоб вырастить величественных пугал. Мне кажется, уже напрасный труд – их убеждать, как неусыпный кочет, что пугала однажды оживут и Франкенштейнов первыми замочат. Их аргументы выстроились так, что их не расшибет словесный молот: коль не они, то сразу же ГУЛАГ, хотя ГУЛАГ они и сами могут. Случись опять седьмое ноября – здесь будет только пушечное мясо, ни целой черепушки, ни ребра, кровавая, бессмысленная масса. Еще порою вякнет меньшинство – из робких, от кого не ожидаешь, – «Да если с вами больше ничего не сделаешь?» – но это разжиганье ж! Мы тут же им в ответ наворотим набор страшилок, не теряя прыти: хотите вы разрухи? – «Не хотим!» Хотите пообедать? Так терпите! Уже сломались лучшие умы, не в силах отмахаться словесами: ваш выбор – тот барак, что строим мы, иль тот барак, что возведете сами.
И если не хотите, господа, украсить ваш барак кровавым фаршем – вы с умиленьем будете всегда смотреть на то, как наци ходят маршем. А если вам не нравится смотреть – вы можете уехать, утопиться, страна и так разъехалась на треть… Ворюга же милей, чем кровопийца!
И хоть кровавым потом окропись – никак ты не докажешь этим малым, что отличить ворюг от кровопийц тут не смогли б и Бродский с Марциалом.
Не стану спорить. Мало ль бедолаг, пытавшихся развеять эту косность: «Вы говорите – космос? Вон ГУЛАГ!» – «Мы знаем, что ГУЛАГ, но космос, космос!». Я только представляю, что за сласть – воскликнуть, к облегченью миллионов: «Которые тут временные? Слазь!», как восклицал Авсеенко-Антонов. Да, он не знал седьмого ноября, что путь мостит таким великим кормчим, и плохо кончил, – но, вокруг смотря, скажите, кто здесь многим лучше кончил? Любая жизнь бездарно пронеслась, на что ты тут ее ни разбазаришь, – но многие ли вслух сказали «Слазь»?
Оно и видно. С праздником, товарищ.
Ювенальное
Как послушаешь, для миллионов тема месяца – Ваня Аксенов. То есть нету ребенка святей! Демократы мухлюют лукаво, будто нет у полиции права приспособить к допросу детей.
Провокация сделана тонко: в обезьянник забрали ребенка! Не дознанье, а мерзостный шарж! Но куда же, как не в обезьянник, если в сопровождении нянек дети ходят на дерзостный марш?
Ведь ребенку не два, не четыре, он уже разбирается в мире – даже если он туп, неумен, спит в чулане, воспитан в богеме, – что в России живет, при тандеме, понимает, я думаю, он. Нынче знает и узник детсада: есть районы, где лучше не надо появляться с семи до восьми. Несомненно, мальчишка охальный с тем и вперся в район Триумфальной, чтоб привлечь иностранные СМИ. Либеральные наши таланты, чтоб срубить иностранные гранты, поднимают разученный вой. Им за ломтик чужого лимона подставлять под дубины ОМОНа головенки свои не впервой. Ваня любит не пепси, не фанту – хочет он зарубежного гранту: зарабатывать мальчику в лом. Но понты разгадали уловку и отправили Ваню в понтовку – откровенно скажу, поделом.
Вообще, погуляв в интернете, я скажу вам, что все-таки дети задолбали – Господь, извини! Мы за них удавиться готовы. То ль священные типа коровы, то ли фетиши наши они. Озираю родные пенаты – это дети во всем виноваты. Оттого и раздолье скотам в нашем крае, пустом и холодном, – все для деток: отправить их в Лондон и оставить до старости там.
Ради деток стараются воры, врут технологи, бдят прокуроры, ФСБ заметает следы, защищают мораль профурсетки… Ради деток стараются детки, к Якеменко вступая в ряды… Для всего оправдание – дети. Ради отпрысков – выборы эти с чередой аморальных затей (экстремизма тут нет, дорогие?). Я боюсь, что и педофилия получается из-за детей. Вообще они сволочи, дети. Ловят нас в свои липкие сети, пожирают наш опыт и труд, любят игры, не любят порядка, выедают нам мозг без остатка и потом нам на головы срут. Львы, стрельцы, водолеи и овны – все равно перед ними виновны, все ломаем над этим умы: поголовно, от Жмуди до Чуди, все мы, в общем, нормальные люди – но плохие родители мы. Омбудсмен, несравненный Астахов! Огради от соблазнов и страхов и признанием мир изуми, что во всех неполадках на свете виноваты единственно дети. Ведь и сами мы были детьми – и не в детстве ли нашем далеком, оглядев незамыленным оком эту вечную, мля, карусель, заключили мы в самом начале, что уместнее быть сволочами, и остались такими досель?
Так что, глядючи так или этак, хватит нам выгораживать деток. Призываю собравшихся вслух – оправданий у младости нету. Я прошу призывать их к ответу с четырех, а желательно с двух. Всех орущих, не любящих каши, пьющих пиво, вступающих в «Наши», писю чешущих (Боже, прости!) – утвердить для них кодекс московский, и давать им, как просит Чуковский, минимально от двух до пяти.
Неприличное
Сон эротический – услада, дневным добытая трудом. Мне снится, что зачем-то надо с утра пойти в публичный дом. Я человек аполитичный, мне жалко выходного дня – зачем мне, собственно, публичный, здесь типа личный у меня! Но мрачный голос, как из ада, – точней, из адовых руин, – мне заявляет: «Дима, надо. Иначе ты не гражданин». Угроза эта мне знакома, она надежды не сулит. Выходит к нам хозяин дома – угрюмый, странный инвалид: фигура плюшкой, рожа крышкой, тяжелый дух сбивает с ног, одна башка его под мышкой, другая выслужила срок… Визжит народная стихия, как обезумевший койот, а бабы, собственно, такие, что даже Дума не встает. Одна стара и в чем-то красном, другая – ссохшийся ранет… примкнуть бы, что ли, к «Несогласным», но гражданин я или нет? И так уж, кажется, рискую, сказав хозяину: хозя… Хозяин, я хочу другую. Он говорит: других нельзя. Я мог себе позволить это, я сам поклонник красоты. Но нету желтого билета у тех, кого приводишь ты.
Я говорю: «Да ну вас к черту! Ужель я волей обделен? Хозяин, можно я испорчу ваш этот розовый талон? Я здесь, мне времени не жалко, но можно я, восстав с колен, на нем не буду ставить галку, а нарисую, скажем, член?» Он отвечает мне: «Земеля, чего ты маешься, простак? Перед тобой талон борделя, член нарисован там и так. Направь себя в родное лоно, край для работы не почат… За порчу этого талона тебя из граждан исключат».
Тогда, почти уже раздетый, дрожа от слабости срамной, я закричал: «Ни с той, ни с этой!» – «Что ж, – молвил он, – тогда со мной».
Он засмеялся, как хабалка, и распахнул свое пальто. «Но ты мужик», – я пискнул жалко. «Ну да, – ответил он. – И что? Хочу заметить, шуток кроме, хотя и несколько грубя, уж если ты в публичном доме, отъюзать могут и тебя. Ты отвергал мои подачки, ты распугал моих фемин, – короче, живо на карачки, иначе ты не гражданин». Не видя силы для отказа, я морщил потное чело, – скажи, а кроме садо-мазо у вас тут нету ничего? Но он сказал, не пряча взгляда: «Какой маньяк, едрена вошь! Допустим, есть простое садо, нацисты есть, нацистов хош? Все остальное много хуже-с, цивилизован я один. Да, ужас. Но не ужас-ужас. Вставайте в позу, гражданин. И так уж время я потратил, с тобой болтая, пустозвон».
Все это только сон, читатель. Но жизнь ведь тоже – только сон. И он ведет меня, как шлюху, в одну из розовых кабин, и мне опять не хватит духу сказать, что я не гражданин.
Утешительное
Хватит о выборах, это дешево. Мне непонятен общий аврал. Все, что в жизни моей хорошего, я, как ни странно, не выбирал. Вот мой ответ европейским выдрам: счастье всегда без альтернатив. Мать не выбрал, детей не выбрал, родину выдали, не спросив. Выдана внешность куском единым, не сказать чтобы вовсе жесть, – но я б родился стройным блондином, а выживаю и с тем что есть. Время и нацию тоже выдали, не выбирают, гласит строка. Время как время. При личном выборе было бы хуже наверняка.
Вот, говорят, что из сонма партий только одна рулит, по уму. Главного в жизни, как ни пиарьте, тоже обычно по одному. Сколько видал аргументов в прессе я – но прессе логика не видна. И профессия, и конфессия, и жизнь одна, и смерть одна. Что вы лезете, грозно вякая? Запад устал от ваших сурдин. Жена, опять же: бывает всякое, но штамп в документе стоит один. Упрощаюсь, порой спрямляюсь, постепенно смиряю дух, – я с собой-то еле справляюсь, одним, хоть толстым. Куда мне двух.
Мир сотворен без сущностей лишних. Каждый сам себе господин: Бог один (ведь я не язычник!). Я – один. И каждый – один. Не спасет никакое новшество. Экая мука все понимать. На фоне этого одиночества – что мне выборы, вашу мать? Этот ужас ежеминутен: стоит представить, как шар земной летит в пространстве, один, как Путин, с маленьким, как Медведев, мной. Мельче букашки, печальней зяблика, в вечном холоде звездных сфер… А рядом – луна, как кислое «Яблоко», или, точнее, ЛДПР.
Копрофобическое[38]38
Ужас перед говном (греч.).
[Закрыть]
Проблема не в диктате, не в засилье коррупции – мне по фигу она, – а только в том, ребята, что в России ужасно много сделалось говна. Вина Едра не в том, что там воруют, – богаче мы не станем все равно, – не в том, что там мухлюют и жируют; вина в другом – они плодят говно. Мы сами им становимся отчасти, оно ползет проказой по стране, и каждый час, когда они у власти, не может не сказаться на говне. Мы видим бесконечные примеры, особенно старается премьер. Вот Галич, помню, пел про говномеры – но тут утонет всякий говномер. У нас и революция бывала, суровая, кровавая страда, – но человеческого матерьяла такого не бывало никогда: сейчас, боюсь, процентов сорок девять в такое состоянье введено – не только революции не сделать, но даже путча. Чистое говно.
Иной юнец, позыв почуя рвотный, мне возразит: какая, право, грязь! Какие лица были на Болотной, какая там Россия собралась, какое поколенье молодое стояло мирно вдоль Москвы-реки… Да, собралась. Но сколько было воя: раскачивают лодку, хомяки! Продажные! Им платят из Америк! Все сговорились! Им разрешено! Говно ведь сроду ни во что не верит, как только в то, что все кругом говно. Воистину, режим употребил нас. Иные признаются без затей: дороже всякой истины стабильность, всех принципов важней судьба детей… Все тот же дух, зловонный и бесплотный, проник в слова, в природу языка – я говорю уже не о Болотной, страна у нас покуда велика. Приличий нет. Дискуссии съезжают в мушиный зуд – какой тут к черту бунт? Сейчас, когда кого-нибудь сажают, – кричат: «Пускай еще и отъе… ут!». Никто не допускает бескорыстья, никто не отвечает за слова, у каждого давно оглядка крысья, – не обижайтесь, правда такова.
Говно – универсальная основа, как в сырости осенней – дух грибной. Амбрэ любого блока новостного ужасней, чем от ямы выгребной, поскольку вместе с запахом угрюмым привычных страхов, хамства и вранья от этого еще несет парфюмом; за что нам это, Родина моя?!
Иль ты осуждена ходить в растяпах, чтоб тихо вырождалось большинство? И главное – я знаю этот запах, но трудно вслух определить его. Так пахнет от блатного лексикона, от наглой, но трусливой сволоты, от главного тюремного закона – «Я сдохну завтра, а сегодня ты»; от сальной кухни, затхлого лабаза, скрипучего чекистского пальто, румяных щек и голубого глаза: «Да, мы такие сволочи. И что?!». Лесной пожар так пахнет, догорая. Так пахнет пот трусливого скота. Так пахнет газ, так пахнет нефть сырая. Так пахнет злоба, злоба, – но не та, великая, и может быть, святая, с какой врагов гоняем лет семьсот, а та, с какой, скуля и причитая, строчит донос ублюдочный сексот.
Где форточка, ребята, где фрамуга, где дивное спасенье, как в кино? Но в том, как все мы смотрим друг на друга, – я узнаю опять-таки говно.
Мы догниваем, как сырые листья, мы завистью пропитаны насквозь, – и если это все чуть-чуть продлится, не верю, чтобы что-нибудь спаслось.
Друзья мои! Никто не жаждет мести. Подсчеты – чушь, и кризис – не беда. Такого, как сейчас, забвенья чести Россия не знавала никогда. Иной из нас, от радости икая, благословит засилие говна – мол, жидкая субстанция такая и для фашизма даже не годна; но этой золотой, простите, роте отвечу я, как злейшему врагу, – неважно, как вы это назовете. Я знаю: я так больше не могу. Я несколько устал от карнавала, от этих плясок в маске и плаще, я не хочу, чтоб тут перегнивало все, что чего-то стоит вообще. Я не хочу, чтоб это все истлело, изгадилось, покрылось сволочьем.
Мне кажется, что только в этом дело. А больше, я так думаю, ни в чем.
Предновогоднее
Почему-то люблю я конец декабря. Потому ль, что родился зимой? Но не ради же елки, не праздника для: Новый год – это праздник не мой. Вся страна поедает салат оливье или в студень роняет чело, заглушая единую мысль в голове: типа прожили год, и чего? Я не жду от людей поворота к добру, невозможного, как ни крути. День рожденья я тоже не шибко люблю – если честно, еще с тридцати. Не люблю, если кто-то смущает умы обещаньем нежданных щедрот, – а люблю переломную точку зимы под названием солнцеворот.
Почему-то мне нравится только зимой, отработавшей первую треть, в темноте возвращаться с работы домой и на желтые окна смотреть. Я люблю эту высшую точку зимы, эту краткость убогого дня, – но ведь живы же мы, выживаем же мы всей Отчизной, включая меня! Вообще-то – от истины прятаться грех, – в этой средней родной полосе я всегда себя мыслю отдельно от всех (то ли я виноват, то ли все), но Земля – этот хитрый огромный магнит – на орбите сидит набекрень, и любого изгоя с народом роднит наш короткий ублюдочный день. Ни секунды не верю, что в новом году – будь он трижды раскрашен пестро – будет больше свободы, и слава труду, и любезные лица в метро, но таков уж закон этих средних широт, неизбежный, как дембель, как будущий год, как в июне отрубленный водопровод, а весной – пробужденный медвед, – что случится обещанный солнцеворот и прибавится солнечный свет. Я с российской реальностью вроде знаком и поэтому, не обессудь, склонен верить в физический только закон и еще в биологию чуть. И еще я усвоил за несколько лет – объяснить не умею, боюсь: от того, что на миг прибавляется свет, изменяются запах и вкус.
И вот в эти как раз переломные семь или пять убывающих дней мне понятно, что лучше не станет совсем, а, пожалуй что, даже трудней. Ни надежд, ни покоя, ни воли вразнос, ни отмены запретов и виз, то есть «Солнце на лето, зима на мороз» – наш не только природный девиз. Может, прелесть и кроется в этом одном, выделяющем день из трехсот, предвкушенье того, что грядет перелом, – но чудес никаких не несет. Я люблю это чувство – как учит Орфей, отрешившись от слез и соплей. Как-то лучше, когда холодней и светлей: холодней, и трудней, и светлей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































