Текст книги "Московский миф"
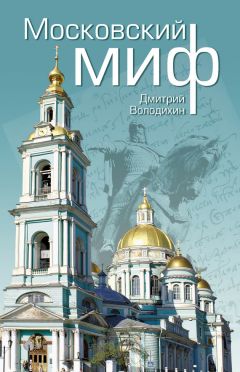
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Можно добавить сюда только одно: «посадское барокко» (тем более вершина его – «русское узорочье») тоже было стилем в высшей степени декоративным, «рисованным», рассчитанным на зрительный эффект. В этом смысле ничего не изменилось.
Для строительства храмов-громад новый стиль годился еще меньше, чем предыдущий. Но конец XVII века вообще – время экспериментов, переходных форм, смешения стилей и смещения норм. Поэтому как минимум дважды качества, присущие «нарышкинскому барокко», пытались применить к постройкам титанических габаритов.
Во-первых, это произошло, когда возводили новый собор Донского монастыря (середина 1680-х – середина 1690-х). Монументальное традиционное пятиглавие венчает его. Но боковые главы поставлены не по углам четверика, а по сторонам света – на колоссальных «лепестках», выступающих из основного объема и скругленных по углам. В плане собор крестовиден. Композиционно это «нарышкинское барокко». Скупо рассыпанный декор – вполне родной для него. Однако приемы, ставшие принадлежностью этого стиля, превратили собор в странное, мрачноватое создание полуказарменного вида. Никакой нарядности, вычурности, изящества нет. Получилась просто плохо организованная тяжесть.
Во-вторых, когда строился Никольский собор Николо-Перервинского монастыря (1696–1700). Он был любимым детищем патриарха Адриана, а тот по своим архитектурным вкусам явно тяготел к величественной старине. Но и нарядную «нарышкинскую» версию принимал – как дань новомодным веяниям. Между тем эта, последняя, уже пребывала на излете, уже начала превращаться в прошлое… Патриарху требовался весьма значительный по размерам храм, способный прославить обитель, которая до сих пор не отличалась особенной известностью; он решил возвести монументальное здание, но в современном архитектурном духе и с современными же причудами декора. В итоге получилось несоответствие изящного, декоративного стиля внушительным габаритам церковного здания. Восьмерик, вознесенный над четвериком, несоразмерно, угнетающе тяжел. Глава всего одна, зато мощная, тяжкая. Она оставляет впечатление цельнометаллической репы, страшно давящей на всю конструкцию.
Что тут скажешь? Как «посадское барокко», так и его дитя – «нарышкинское» – возникли из нужд и запросов торгово-ремесленного населения, служилых людей, московской аристократии. Они лучше всего подходили для малых, приходских, «уличанских», «домо́вых» церквей. Они годились также и для усадебного зодчества. Но для монументальных проектов государей и патриархов оказались категорически непригодными.
Начался XVIII век.
Москва перестала быть столицей и наполнилась Европой. Гремящие потоки Европы ворвались на московские улицы, многое смыли, нанесли всякого: как нестерпимого, так и полезного.
С начала XVIII века архитектурные моды меняются кардинально. В их мелодиях очень долго не будут слышаться национальные ноты.
Но в эстетическом смысле допетровское барокко продолжало нравиться москвичам, они его любили и берегли как нечто родное, близкое, свое. И не только «нарышкинский» вариант, но и более древний.
Особенно – невысокие шатровые колоколенки. Они, кажется, надолго стали одной из главных примет московского городского ландшафта, да чуть ли не общерусского. Вот «Московский дворик» Поленова: на заднем плане стоит именно такая колокольня. А вот «Грачи прилетели» Саврасова – такая же…
Даже когда «нарышкинское барокко» и старый добрый стиль времен Алексея Михайловича стали сущей архаикой, москвичи нет-нет, да возвращались к любимым формам, к привычному декору. Церковь Введения в Барашах появилась на рубеже XVII и XVIII веков, но она в полной мере принадлежит предыдущей эпохе. Знаменский храм в Зубове, погибший при большевиках, – ровесник Полтавской баталии. Однако если бы его возвели при батюшке царя, победившего шведов, т. е. на полстолетия раньше, никто не высказал бы удивления. Как говорится, «полностью вписывается». Храм Николы на Болвановке достроили тремя годами позднее, но он представляет собой всё то же «посадское барокко».
Ну а в смысле чисто технологическом простая и надежная конструкция храмов, возведенных в стиле «посадского барокко», гарантировала как недюжинную прочность здания, так и его феноменальную долговечность. По самым скромным подсчетам, к концу XIX века в Москве и ее ближайших окрестностях сохранялось полторы сотни храмов, носивших резную «вышивку» допетровского барокко!
Их, конечно, ремонтировали, перестраивали, иначе, по-новому, растесывали и оформляли оконные проемы, барабаны и главки, но старомосковская основа, которую трудно с чем-либо перепутать, сохранялась хотя бы частично, по-прежнему радовала глаз.
В начале XX века петербуржец Б. М. Эйхенбаум писал о Москве: «Каждый житель Петрограда, попав в Москву, поражен ее своеобразием, начиная с архаического пейзажа и кончая людьми. Вместо графической четкости линий – краски и цветовые пятна. Вместо единообразия и прямой перспективы – прихотливые сочетания стилей тонов, широкие площади и узкие переулки. Церкви на каждом углу – они трогательно уживаются среди домов, нисколько не чуждаясь, тогда как в Петрограде церквей, собственно, нет, а есть только торжественно отдаленные от домов храмы. И чем настойчивее бродит петроградец по улицам Москвы, вчитываясь в их причудливые названия, тем сильнее он чувствует, что у Москвы есть какая-то своя душа – сложная, загадочная и непохожая на душу Петрограда… Москва не знает раздумья, не любит рассудка, живет полнотою и разнообразием чувств. Москва – живописна…»
Трудно было не чувствовать московской души, когда сама близость московских «церковок» к домам ощущалась как тесное родство! Москвичи задолго до Империи твердо поняли, что́ им нравится, сотворили для Бога и для себя именно такие храмы, а потом окружили их домами. И стали дома выглядеть как дети, радостно обступившие главу фамилии, минуту назад пришедшего со службы…
Эти-то «церковки» и составили главную часть московской «живописности», про которую так много писали в годы Золотого и Серебряного веков нашей литературы. Местным жителям и приезжим они внешним видом своим напоминали о старинном московском мифе, о третьеримских временах, о покровительстве Богородицы.
В собственных малых храмах, рассыпанных повсюду и везде, москвичи выразили и себя, и свой город. Древняя душа Москвы, разлитая меж ними, лучше всего проявила свою суть в архитектуре, когда державный XVI век сменился торговым XVII, – при Борисе Годунове и первых Романовых. Иными словами, когда своё слово в зодчестве сказали люди, никак не связанные с царским семейством Калитичей, люди, стоящие ближе к народной гуще, дышащие ее бытом и ее упованиями.
Отыскалось в этой душе много веры, много страсти и необоримое стремление к нарядности. Москва по духу своему христианка, по предназначению – державная владычица, а по внутренней склонности… щеголиха.
«Мысленный собор». Образ Москвы у славянофилов
Как живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам, с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русской нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! И все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, – Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая!
И. И. Панаев. 1840
Мифы великих городов непостоянны. Никогда не бывали они чем-то навечно застывшим, окостеневшим. Никогда не обращались они в ледяные глыбы, способные лишь наращивать массу, пока мороз, да сбавлять вес, попав в экваториальные воды. Подобные мифы постоянно развиваются и обновляются.
Образ Москвы, созданный ею самой в допетровскую эпоху, образ города-чаши, принявшей в себя благодать, ушедшую из ветхого Иерусалима, дабы перейти в Иерусалим новый; образ города-крепости, откуда полки христолюбивого воинства выступают в дальние края ради их покорения под руку православному государю и просвещения истинной верой; образ города-лампады, сияющей над погруженным во тьму миром, – этот образ сильно потускнел в XVIII столетии. После Петра Москва немотствовала. Может быть, она на какое-то время перестала осознавать себя чем-то величественным, самостоятельным, – словно ее оглушила новая жизнь. В Доме Пречистой воцарилось молчание.
Город отдает мастеровых, купцов, чиновников новой столице. Академия оказывается в состоянии полусна. Обезглавленная и униженная Церковь латает прорехи в своем рубище… Великие дела грохочут вдалеке, здесь же – тишь, безгласие…
Однако это тишь глубокой реки. На поверхности – медленный ток воды, неподвижные кувшинки, да висят над илистой пучиной стрекозы, да едва колышутся ленты водорослей… а ниже… ниже не разглядеть. В придонных глубинах плавают большие рыбы, и лишь редкий плеск свидетельствует об их сокровенной жизни, когда одна из обитательниц подводного царства поднимается ночью наверх и разбивает хвостом лунный круг на тихих волнах.
Москва предается тягучим думам о себе, о сути своей. Покой ее вод изредка нарушается людьми тяжкими, наполненными узловатой мощью. Ломоносов с Университетом, Новиков с вольной печатью во имя масонских идеалов, Архаров с дюжими молодцами, корчующими старинное зло – привычное, но разросшееся донельзя… Их появление, их труды подсказывают: на глубине жизнь мысли и движение общественных форм не прекратились, нечто должно произойти в будущем, нечто вспыхнет еще.
Великий город видит тревожные сны. От сих кошмаров судороги проходят по его телу. Страшная корча пронизывает его, когда эпидемия и вспыхнувший за нею чумной бунт причиняют боль колоссальной московской туше. Почти пробуждается Москва при звуках пороховых взрывов: самонадеянный Баженов мечтает превратить древний Кремль в какое-то подобие мрачного замка с евролицыми привидениями. Город на краткое время покинул страну сновидений, ударил львиною лапой раз, другой… Кремль сохранился; Баженов отступил.
Это недолгое восстание ото сна дает понять: душа города жива, Москва не желает быть глиной в чужих руках, она отстаивает древнюю свою царственность и гонит от себя избыточные эманации Европы.
Но все-таки ложе кошмарных сновидений Порфирогенита покинет гораздо позже – не при Екатерине, а при Александре I. Нашествие иноземных варваров, пожар, осквернение святынь, страшное вооруженное противоборство и титаническое строительство, обновившее город, – словно вдохнули жизнь в общественные силы, долго не покидавшие глубоких омутов.
Москве сделали больно; Москва, оставляя дрему, рефлекторно совершила резкое движение; нанесла удар почти случайный, но при ее древней титанической мощи – сокрушительный. Увидев, какая энергия сокрыта в черных водах, образованный класс восхитился, наполнился гордостью оттого, что и сам составляет часть ее. Мудрый Пушкин, в сосудах которого капля бешеной Африки растворена ведром боярского достоинства, слагает гимн Москве – древней царице:
…Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Древности московские, жизнь глубокая и сильная, любовное чувство ко всякой церковной маковке, ко временам боярства и патриаршества, родные сады, входящие в райский цвет по летней поре, неспешный ток Москвы-реки, родовые гнёзда русской знати, народный гомон на торгах – всё это, а не питерский гранит, не питерские казенные мундиры – переломило высшую силу, какая только могла выйти из недр Европы.
Лермонтов восклицает:
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!
И стихи Дмитриева, написанные без малого за два десятилетия до освобождения Москвы, притом о временах Пожарского, читаются с новым, свежим чувством:
В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений знаменитых мать!
Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Венец твой перлами украшен;
Алмазный скиптр в твоих руках;
Верхи твоих огромных башен
Сияют в злате, как в лучах;
От Норда, Юга и Востока —
Отвсюду быстротой потока
К тебе сокровища текут;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы – розами цветут!
Один лукавый Грибоедов недоволен Москвой, где Чацким зажимают рты «обеды, ужины и танцы». Ну да чем был доволен Грибоедов?
Тот же Дмитриев взывал к Москве:
Где ты, славянов храбрых сила!
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь…
И старина московская всколыхнулась, протерла очи, взялась за гребень, кликнула прислугу: «Подайте платье!»
Москва грибоедовская и – не пушкинская даже, нет, скорее, «ларинская» – брожение разнородных умственных соков, ярмарки невест, резонерство клубных завсегдатаев на грани большой крамолы, свежие воспоминания о победе над чужаком-исполином, офицерское щегольство, университетский философический запал, всё это еще только созидало благодатную почву. Молчание заменилось глухим ропотом. Республика частных лиц осторожно пробовала голос. Какое-то невнятное бормотание, полуосознанный Шеллинг, положенный на патриархальный православный быт… Лукавство оппозиции соединялось с волею к романтическим мечтаниям, а оттуда недалеко и до романтических действий: вот, говорят, в Петербурге уже попытались! Но туда ли пошли? Не слишком ли много французского кругом – в словах и действиях? Не слишком ли много заемного в умах? Не слишком ли подражательны позы тех, кто хватается за цареубийственный кинжал? То, что на севере промелькнуло, здесь продумывается, прощупывается долго, примеряется и отвергается.
Нужно – иное!
И почва для иного уже готова.
Новый образ даруют Москве славянофилы. Несколько великих умов за два десятилетия – с конца 1830-х по начало царствования Александра II – возвращают Москве столичное самосознание. Потом поверхностные поклонники, суетливые ниспровергатели, ученые комментаторы станут без конца мусолить славянофильские схемы и отдельные находки. Но вся эта «надстройка» получила право на существование лишь после того, как славянофилы выполнили необходимую интеллектуальную работу.
Среди славянофилов был лишь один мыслитель, склонный строить системы, объяснять их смысл в динамике, комментировать их устройство – А. С. Хомяков. Единственный, повторюсь, систематик, он в 1839 году предложил свою генерализованную схему русской истории, отдав Москве чуть ли не центральное место в ней. Хомяков почувствовал, до какой степени Москва XIV столетия являлась Петербургом удельного времени, до какой степени она являлась «городом новым» и должна была выполнить работу, от которой старинные наши центры отшатывались в бессильном изнеможении.
Вот слова Алексея Степановича: «В то время, когда ханы уничтожили всю восточную и южную полосу России, когда Запад ее, волей или неволею, признал над собою владычество грубого племени Литовского… возникла новая Россия… Беглецы с берегов Дона и Днепра, изгнанники из богатых областей Волыни и Курска, бросились в леса, покрывающие берега Оки и Тверцы, верховья Волги… Старые города переполнились, выросли новые села, выстроились новые города, север и юг смешались, проникнули друг в друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, уже не племенная и не окруженная, но обще-русская… Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определенного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живою, органическою, и торжество ее в борьбе с другими княжениями было несомненно. От этого-то так рано в этом молодом городке (который по обычаям Русской старины, засвидетельствованным летописцами, и по местничеству городов должен был быть смиренным и тихим) родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и от того народ мог сочувствовать с князьями… Как скоро она объявила желание быть Россиею, это желание должно было исполниться, потому что оно выразилось вдруг и в князе, и в гражданине, и в духовенстве, представленном в лице митрополита. Новгород устоять не мог, потому что идея города должна была уступить идее государства; князья противиться долго не могли, потому что они были случайностью в своих княжествах; областная свобода и зависть городов, разбитых и уничтоженных Монголами, и не могли служить препоною, потому что инстинкт народа, после кровавого урока, им полученного, стремился к соединению сил, а духовенство, обращавшееся к Москве, как к главе православия русского, приучало умы людей покоряться ее благодетельной воле» («О старом и новом»).
У Хомякова это было лишь блистательное предчувствие, лишь самый первый приступ к теме. В сущности, он заговорил о том, что и до него вполне осознавали историки: Москва – объединитель земли Русской, центр нарождающейся державы, а значит, средоточие народных упований. Но – и всё.
К московской старине Хомяков изначально относился с известным скепсисом. Славянофилы, сказавшие слово русское и православное в середине XIX столетия, когда ничего более русского и более православного образованному человеку произнести было невозможно, в очень большой степени оставались европейцами. В их легких накопился воздух «Просвещения», который вдыхали еще поколения их отцов и дедов; атмосфера эта, насыщенная испарениями «общественного договора», пронизанная ядом идей об «общем благе» и «золотом веке», загрязненная преувеличенным вниманием к вопросу об «освобождении личности», туманила сознание, рождая образы очередного «рая на земле». Умнейшие, сильнейшие из славянофилов, освобождаясь от нее частично, фактически выламывались из вестернизированного русского общества, но в то же время не могли, да и не собирались до конца перерезать эту «пуповину».
Поэтому время от времени даже у них встречаются рассуждения о каком-то гнетущем деспотизме допетровской эпохи: «Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожений областных прав, угнетение быта общинного, покорение всякой личности мысли государства, сосредоточение мысли государства в лице государя, – добро и зло до-петровской России. С Петром начинается новая эпоха. Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд ей… Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственным городом правительственным и, может быть, для здорового и разумного развития России не осталось и не останется бесполезным такое разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизни духа народного разделились даже в местности их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми силам России, всеми ее изменениями формальными, всею внешней ее деятельностью; другая незаметно воспитывает характер будущего времени, мысли и чувства, которым еще суждено облечься в образ и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность». Таким образом, выходит, что Москву следовало освободить от правительственного присутствия, чтобы она сделалась коллективным создателем общественного идеала.
Была ли в подобном разъединении насущная необходимость? Требовалось ли России разрубить связь между жизнью народного духа и правительственной работой, чтобы народ мог творить свободно и плодотворно? Бог весть. Кажется, призрак духовной несвободы допетровских времен получил в сознании Хомякова чудовищные, устрашающие масштабы. Между тем истинная, т. е. историческая, Москва XVI–XVII столетий играла роль мощного центра интеллектуальных трудов.
Вместе с тем Алексей Степанович нащупывает верное видение Москвы как творца высших смыслов для всей страны. И впоследствии он вернется к этой своей интуиции, придаст ей большую прозрачность и силу, очистит от наносных излишеств.
В 1859 году Хомяков открыто скажет о Москве как о столице народа. Для эпохи Русского царства – от Ивана Великого до царевны Софьи – Москва, разумеется, в первую очередь создание русского народа, необходимое для воздвижения крепкой государственности и общего единства народных сил. Но помимо этого город играл роль места, где народная душа вступает в диалог с людьми власти, высказывает им свои чаяния, формулирует свой выбор: «…недаром ряд земских соборов обозначали эпоху московского единодержавия. Какая бы ни была форма, и как ни было часто или редко повторение соборов… я утверждаю, что Москва была признана, в широком смысле слова, городом земского собора, т. е. городом земского сосредоточения. Таково свидетельство истории. Когда пресекся род Грозного, как бы в наказание за его кровавые казни; когда Промысел позволил России впасть в бездну почти беспримерных бедствий, как бы за то, что она могла произвести владыку, первым сознанием России было, что ей нужен царь. Но Москва взята… Зачем изменяется временно сознание народное; зачем земля, которая так глубоко чувствовала потребность в едином царе, не приступает к выбору? Зачем ополчения городов низовых и всех других, поднявшихся за свободу великой родины, зачем, говорю я, забывают они свою задачу? Зачем не созываются земцы в какую-нибудь свободную еще область? Ответ простой: Москва в руках врага: нет города для великого собора и выбор царя еще не возможен. К Москве, к ее освобождению, как к необходимому условию будущего единства, обращаются все силы русской земли; и только на ее освобожденном пепелище выбирают царя, для которого уже приготовлен город собора, город мысленного сосредоточения земли».
И вот это уже звучит с необыкновенной силой: Москва – город, где народ наш может высказаться, более того, только здесь-то он и обретает полный голос! Москва оказывается в роли инструмента для народного высказывания. Это право – совершить высказывание – порой обретается через пролитие крови, через невероятное напряжение всех русских сил и всегда реализуется в священном, «царственном» месте.
XVIII век отнял у Москвы право на государственное творчество, но дал ей, по мысли Хомякова, свободу от забот о пестрой суете практической правительственной деятельности. Тут Алексей Степанович уже отошел от рассуждений об «угнетении» и мыслительной «покорности» – и слава Богу! Лишнее, ненужное ушло из его исторической системы… Итак, Москва, утратив прерогативы администрирования, получила возможность посвятить себя чему-то другому. Тем полнее может она теперь, пребывая в своем покое, совершать интеллектуальный труд, лежащий в области «самоуглубления общественного духа». Вместе с тем она не перестала быть городом «земского сосредоточения». Именно здесь происходит работа общественных сил, разрабатывающих маршрут национального движения из настоящего в будущее.
Москва сохраняет древнее свое предназначение – быть инструментом для общенародного высказывания. Она – народная столица или, если угодно, «общественная столица».
Алексей Степанович видит будущее Москвы именно в том, чтобы она, оставив мечтания о возврате к государственным трудам, к державности, усиливала в себе именно эту способность – быть общим мозгом и общим языком для русского народа. Он пишет: «…духовная деятельность общества, развиваясь, созидает себе местные центры и потом, для полного своего собора, для полной мысленной беседы, совокупляется в одно живое сосредоточение. Мне кажется, такова Москва, таково ее живое и официально признанное значение. Вот почему сохраняет она свое имя столицы… Да, милостивые государи, чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношения к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается серьезный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль русского общества». И, далее: «…значение Москвы, как столицы этого общения для всей земли русской, как места ее общественного сосредоточения, как города ее мысленного собора». Следовательно, по Хомякову, возвращение высшей государственной власти в Белокаменную не столь уж необходимо.
Другой видный славянофил, К. С. Аксаков, напротив, обращался к государю, доказывая: надобно перенести столицу в Москву!
Для него Москва – прежде всего город, где заключается союз главнейших сил Русской земли: народа и монарха. Здесь составляется своего рода общественный договор в отечественном варианте. А значит, Великий город – это прежде всего место русского единения, колоссальная «скрепа» для жизни всей страны: «Москва подняла знамя всей России, встала столицею. Она, скажем выражением древним, собрала Русскую землю… Столица, возникшая в минуту государственного единства и народного единства страны, скажу более, даровавшая, утвердившая и выразившая это единство, есть истинная столица. Такова Москва. Сознавая целость Земли и целость Государства, Москва признавала существование, значение и право как Земли, так и Государства. Итак, с Москвою начался новый период: единодержавия для Государства и целости для Русской земли. Как бы в проявление единства Государства и единства Земли, как бы в выражение ясного самосознания Русской страны первый единодержавный Царь созывает первый Земской Собор. Земля и Государство в новом постоянном своем виде единства и целости встречаются и видятся лицом к лицу в Москве, на Соборе, и утверждается между ними дружественный, полный доверия союз. Земля признает за Государством неограниченную правительственную власть, Государство признает за Землею полную свободу духа и жизни. Москва, где таким образом Земля и Государство подали друг другу руку, представляет желанное согласие обоих элементов, государственного и земского, желанный союз Царя и народа. Весь дальнейший ход России во все время Москвы как столицы определяется этим союзом. Неоднократно требовало Государство мнения Земли; неоднократно Царь призывал Русский народ на совет» («Значение столицы», 1856).
Союз царя и народа, переживший Смуту, позволил присоединить «Южную Русь, с… Киевом и священными и славными воспоминаниями», затем основать Академию, а следовательно, начать «благой подвиг просвещения». Константин Сергеевич всюду подчеркивает самобытность русского пути. Россия спешит заняться просвещением, не покидая «коренных начал» и воздвигая на «русских самостояньях… гражданское русское устройство». И все это, подчеркивает К. С. Аксаков, было возможным в эпоху, когда Москва являлась «столицею Земли и Государства».
Когда Москва осталась «средоточием народным» и перестала быть «столицей государства», когда высшим администратором стал Петербург, Россия получила внутреннюю язву, жестоко терзавшую страну и постепенно увеличивавшуюся. Дошло до тяжкого поражения Империи в Крымской войне. Константин Сергеевич уверен – не будь этого трагического разделения, не случилось бы и великого срама для русского оружия.
Хомяков и Аксаков во многом несогласны меж собою. Но кое в чем едины. Оба утверждают: Москва – средоточие народа, «земская столица», главный город Земли. Иначе говоря, они творят для Москвы обновленный миф, годный для XIX века: Москва как столица нации. Как величайший центр русского народа, русской культуры, русских интеллектуальных сил, да и вообще русскости как таковой. Здесь формулируется русское будущее.
Славянофилы не столько схватывали разумом, сколько, прежде всего, чуяли чужесть Петербурга России. Слишком много там прозревали они элементов, отрицающих исконные предания народа, слишком много видели иноземного, заимствованного. Они интуитивно противопоставляли Петербургу Москву, как город «органический», сам себя строивший и развивавший.
Но была в славянофильстве позиция и гораздо более радикальная.
Николай Петрович Аксаков уже и в средневековой Москве видел слишком много нерусского. Да, по его мнению, присутствовало и в самой Москве и, подавно, в московском периоде русской истории осознанное «право земли». Оно вообще имеет домосковское происхождение, и московские времена унаследовали его от более древней эпохи. Однако государство засоряло традицию «византизмом», а Москва источала гордыню, мучила страну волокитой. Что же касается преодоления Смуты, то и тогда освободительное земское движение «…началось не в Москве, а далеко от Москвы, преимущественно на окраинах тогдашней России, там, где московское влияние было наименее сильно» («Москва и московский народ», 1886). Более того, роль «земли» умалилась, по мнению Н. П. Аксакова, при московских государях. Он видит «…стремление правителей по возможности чуждаться мнения земли и по возможности освобождаться от ее опеки», хотя полное отчуждение и невозможно. В сущности, монархи московские хороши были тем, что они превосходно осознавали потребность «совета» с землей. При них «разрозненные вечи воскресли в виде одного единого земского собора…». Достойно сожаления то, сколь нерегулярно созывался собор и как много вреда принесло нежелание прислушаться к мнению земли, высказанному на его заседаниях.
Николай Петрович Аксаков, с одной стороны, считал необходимым избавиться от «благоговенья перед специально московской Русью», с другой стороны, всё же признавал, что при господстве Москвы еще не разрушилась «сущность исторического предания Руси». И он, сам к тому, быть может, не стремясь, добавлял аргументов в пользу идей Хомякова: слово «земли» – то, что в XIX веке назовут «общественным мнением», – звучало полновластно только в Москве, поскольку здесь соединялось с государственной силой. А значит, Москва – прежде всего опять-таки средоточие «земли», столица «почвы», ее ум и душа. Иными словами, центр нации.
Дав Москве эту роль, славянофилы совершили огромное дело. «Вторая столица» вновь возвысилась, вновь обрела достоинство, вновь дала России основание, чтобы говорить о великом городе в превосходнейших тонах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































