Текст книги "Московский миф"
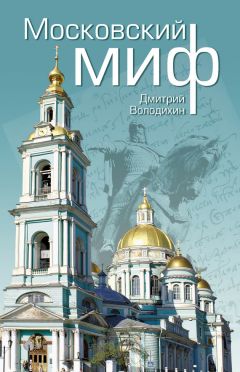
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Откуда это взялось? Как вышло? Отчего почва вновь запела в сердцах нашего оевропеившегося дворянства?
Русские образованные люди, исколесив Европу, на немецком поговорив с профессорами Гейдельбергского университета, на французском – с просветителями и масонами времен Вольтера и Руссо, на итальянском – с какими-нибудь чудовищными карбонариями, вернулись домой. Разъехались по городским усадьбам в Никитском со́роке Белокаменной. Огляделись. Это не Гейдельберг! Но… сердце так сладко ноет от соприкосновения с теми местами, где рос, где слышал слово живое, где ходил в церковь и читал первый раз «Ивангое» Вальтера Скотта, где посещал тайное собрание и разочаровался, и взалкал чистой мысли, философической пищи голодному уму, а романтическое плавание по холодным водам высокомерного разума завершил, пришвартовавшись у берега веры, женившись, заведя детей… да почему же считают, что у нас тут плохо? Почему неправильно? Улицы кривы, да переулки петлисты – так велика ли беда? Грязи больше? Зато и милосердия тоже больше… а разве есть где-нибудь еще столь же сладостный колокольный звон? Да у нас ведь хорошо, господа!
И даже Белинский, ни в малой степени не славянофил, бывало, отдавал Москве должное. Смеялся, корчил рожи, подтрунивал, но все же – мимо доброго не прошел: «Характер семейственности лежит на всем и во всем московском!.. Родство даже до сих пор играет великую роль в Москве. Там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву – вас сейчас женят, и у вас будет огромное родство до семьдесят седьмого колена. Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством» («Петербург и Москва», 1844). Допустим, для западника-Белинского то, что «…стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы – и вы тотчас заметите, что это город патриархальной семейственности: дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травою и окруженный службами», – хаос, архаика, живописная нелепица. Но он же видит и совсем другую Москву, преображающуюся: «По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дела вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно развился в царствование Екатерины Великой. Кто не слышал о широкой, распашной жизни вельмож в Москве? Кто не слышал рассказов о том, как в своих великолепных палатах ежедневно угощали они столом и званого, и незваного… и в городе, и в деревне, где для всех отворяли свои пышные сады?.. Но с предшествовавшего царствия Москва мало-помалу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажнопрядильными изделиями, ее отдаленные части, ее окрестности и ее уезд – все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми (курсив мой. – Д. В.). И в этом отношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое ее положение почти в середине России назначило ей быть центром внутренней промышленности… Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество. Девять десятых этого многочисленного сословия носят православную, от предков завещанную бороду… Сколько старинных вельможных домов перешло теперь в собственность купечества!»
Виссарион Григорьевич не столько хвалил Москву, сколько искал в ней признаки будущего взрастания европеизма.
Не этого или, во всяком случае, не только этого требовало образованное общество. Больше чуткости к сему запросу оказалось у славянофилов.
В сущности, славянофилы отвечали на вопрос, заданный самим временем сильному общему патриотическому чувствованию: «Чем же тут у нас хорошо? Чай, не Париж!»
Славянофильский миф – родной для Москвы. Только тут могли прославить «силу земли». Только тут – вдалеке от казармы и кнута Северной Пальмиры. Творение Петра слишком уж благоухало барабанным боем, слишком бил в глаза казенный цвет его одеяний, слишком мало воли давали там уму… Либо думать строем, либо сговариваться с единомышленниками о мятеже. А ведь мятеж в копилку умственных завоеваний нации ничего добавить не может. Чтобы сотворить нечто, возвышающее народ, нужен-то и впрямь покой, самоуглубление, ровное любомудрие. Москва нужна. Потом, чтобы во весь голос, красиво, внятно, звонко выговорить созданное, потребна здоровая интеллектуальная оппозиционность, лишенная и сервилизма, и бешеной тяги к бунту. Опять – Москва.
И особенная городская среда её, патриархальная, духовитая, сладким церковным вином наполненная до краев, широкодушная, размеренная и хлебосольная, посверкивающая огоньками былого величия, поставила голос старшим славянофилам.
Московские особнячки середины XIX века, последняя краса дворянской России, фасадами напоминают добропорядочных европейцев. Что ни персона, то всё истинный классицист или же страстный поклонник ампира. А выберешься через проезжую арку с улицы во двор, так там всего понемногу, но только ничего европейского. Сарайчики, амбарчики, лабазики, баньки, сторожки, яблоневый сад, черемуховые заросли, лопухи в полроста человеческого, овражина с ручейком, старая голубятня, вид на соседнюю церковь за пустырем, огород на треть версты, козы пасутся, позвякивая колокольчиками… И пустили в баньку странников, приехавших откуда-нибудь из Мурома ко московским ко святыням, да и пристроиться у родни к какому ни на есть делу. И живет в сторожке столетний приживал, мхом зеленым заросший до бровей; внучка из господского дома принесла ему певчую птицу, он же то послушает птичьи коленца, а то помолится, а то соснет маненечко. Проснувшись же, подивится: эко заливиста! Да и предастся мыслям о Страшном суде, коий близко. Хорошо… Золотая дрема. В доме же собрались умные господа, спорят о будущем, поминают русскую историю, франкскую историю, тевтонскую историю, не нарадуются на Шеллинга, похваливают-поругивают Карамзина, ни во что ставят ужасающего Фейербаха, с хитрецой цитируют Чаадаева, осторожно прикасаются к писаниям святых отец…
Вечером же все – и господа, и странники, и приживал, и внучка его, и дворня господская – идут к храму. Ударили в колокол, надо собираться. Тут и сила земли, и ум ее, и душа, все сливаются в одном благодарении Богу.
Золотая Московская дрёма!
Из дворов твоих, из салонов, из покоя улиц и мыслительного жара, из цветущей черемухи, из философии и молитв выросло прекрасное полуденное марево: град великий с пурпурными куполами, весь в цветущих садах, бредущий по временам и землям из прошлого в будущее. Порфироносный град, то молодеющий, то дряхлеющий, и на плечах его – мантия царственности. Вечной царственности.
Елоховский собор как припоминание московских древностей
Году в двухтысячном или чуть позже я был в одном городке, расположенном в нескольких сотнях километров к югу от Москвы. Не буду называть его, чтобы не обидеть местных жителей. Так вот, там почти ничего не осталось от старины. Город страшно распахала Отечественная. А до нее и после постарались прорабы совстроя, украсившие улицы и площади серыми бетонными коробками…
Городок испытал расцвет в ту пору, когда степной юг играл роль пылающего порубежья России – в XVI и XVII столетиях. Тогда здесь стояла деревянная крепостица, башни, жили бдительные стрельцы, дворяне, специалисты по стрельбе из тяжелых ружей – почти пушек – «затинных пищалей», а «сторо́жи» уходили далеко на юг, отыскивая следы врага на беспокойных степных шляхах. В эпоху Российской империи граница шагнула аж к Черному морю, жизнь тут успокоилась, и город-пограничник обернулся сонным провинциальным захолустьем, богатым лавками, купеческими домами, особнячками местных дворян, храмами…
Теперь тут безобразие и срам. Церковка – одна, маленькая, и не поймешь, как ее называть: то ли полуразрушенная, то ли полувосстановленная. Денег на ее окончательное восстановление не хватает, хотя на одной из центральных улиц столичный банк недавно отгрохал колизейных размеров офис… На это средства нашлись. Тут все – в трещинах, здесь и там стоят дома горелые и заброшенные, мостовая испещрена рытвинами, бетонная брусчатка на площадях окантована травяными ростками, на окраинах – руины заводиков, всюду – те самые безобразные коробки совстроя, обветшалые донельзя. Город выглядит как песня о нищете, и тем он похож на десятки, сотни маленьких других городов и ПоГосТов европейской части России. Но в людях всё еще живет мечта о лучшей доле. Чудом сохранился особняк XIX века – самой простой и в тысячах копий размноженной архитектуры: белые колонны у входа, ровный треугольник фронтона над ними… Когда я посещал город, этот дом пребывал в скверном состоянии: обшарпанный, изувеченный трещинами, с пятнами отвалившейся штукатурки. Что хорошего может произойти со старинным особняком, когда туда вселилось отделение милиции? Но именно туда подъехали два автомобиля со свадьбой, вышла невеста, за нею жених и свидетели с цветами… Они вышли и встали рядом с белыми колоннами, желая сфотографироваться в том месте, которое – одно на весь город! – сообщает им нечто о существовании иной, более красивой, более устроенной жизни.
Я навсегда запомнил ту сцену. Прогуливаясь по Москве, я часто ее вспоминаю. Да, столице России тоже крепко досталось от строителей сталинской и хрущевской поры. Да, очень многое изгажено и разрушено. Да, и сейчас застройщики ничтоже сумняшеся убивают добрую московскую красу. Но все-таки еще очень многое осталось от того Великого города, каким была Москва в старину. При последних Рюриковичах, первых Романовых, в XVIII веке, когда здесь любило жить оппозиционное престолу дворянство, а потом в XIX, когда переустройством Москвы занялось богатое купечество. В Москве было красиво, и в Москве кое-что осталось красивым. Для колоссального мегаполиса, каким является Москва в наши дни, – это именно «кое-что». Но если бы возникла чудесная возможность собрать воедино заповедные уголки русской столицы, то из них сложился бы, наверное, город небольших размеров…
Пречистенка. Остоженка. Ивановская горка. Замоскворечье. Никольская. Знаменка. Рождественка. Дмитровки. Никитские. Басманные. Патриаршие пруды. Поварская. Солянка. Бульвары. Таганка. Лефортово. Окрестности Новослободской. Царицыно. Коломенское. Кусково. Останкино. Да еще много, много всего: разве перечислишь каждую улицу, каждый переулочек, каждый дом, носящий отпечаток благородной старины?
И – поставить рядом тот самый обшарпанный особнячок с районным отделением милиции… Да Москва фантастически богата историей! Просто жители ее, даже коренные москвичи, порой не представляют себе, каким богатством они обладают.
Как правило, уже миновав юные годы, человек задумывается о своих корнях, оглядывается, определяет для себя ту почву, из которой он вырос и сформировался. И далеко не всякий москвич научен, где и как ему отыскать эту самую почву в собственном городе, где ощутить, как череда поколений связывает его семью с теми, кто жил тут при последнем государе или, скажем, во времена изгнания Наполеона из России, в «век золотой» Екатерины, при князе Пожарском или же в юную эру Ивана Калиты.
Один из таких оазисов старины – Елоховская площадь. Она далеко не столь известна, как Коломенское, Замоскворечье или Патриаршие пруды. Но эта старинная площадь хранит очарование имперской провинции – когда у Москвы отъяли право называться стольным городом, передав его Санкт-Петербургу, но сила и богатство отнюдь не вытекли из города, они продолжали наполнять его до краев.
Здесь сходятся Новорязанская, Бакунинская улица и Елоховский переулок. Эта местность поздно вошла в черту города – только в XVIII столетии. Еще при Дмитрии Донском Москва далеко не доходила до сих мест. Здесь располагалось село Елохово, а кругом стояли заросли ольхи («елохи»), рядом же протекал ручей Ольховец. Лишь в XVI тут выросла Елоховская дворцовая слобода.
Самое величественное здание площади – Елоховский Богоявленский собор. На его месте раньше стояла церковь 1717 года (в ней крестили А. С. Пушкина), и зодчие нового храма кое-что оставили от этой постройки. Нынешний собор завершили возводить в 1845 году по проекту знаменитого архитектора Е. Д. Тюрина, а потом еще восемь лет занимались отделкой. Так что полное освящение произошло только в 1853-м, а в 1889-м здание незначительно перестроили.
Громада Елоховского собора стала одним из символов Москвы, и, кроме того, это одно из самых крупных церковных зданий города.
Мало кто знает, что треть издержек на возведение этого гиганта покрыта московским купцом В. И. Щаповым, и позже щедро дававшим средства на нужды собора. В 1930-х годах, когда большевики закрыли или же разрушили множество церквей, Елоховский храм принял честь великую и – по тем временам – опасную, став патриаршим кафедральным собором. Эта честь перешла от него к Успенскому собору Кремля лишь в начале 90-х. Ну а тогда, в 30-х, статус кафедрального собора выглядел своего рода «терновым венцом», вечно грозившим местному духовенству муками от властей. Патриарха в ту пору не было – лишь патриарший местоблюститель…
Позднее Бог вложит советским властям добрые побуждения в души, и во главе Церкви вновь появится патриарх. Владыка Сергий Страгородский скончался в 1944-м, уже будучи в патриаршем сане, и его похоронили именно здесь. Через много лет в Елоховском же соборе нашел пристанище прах другого первоиерарха нашей Церкви – Алексия II. А с 1947 года тут покоятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского (XIV век).
Богоявленский собор передает своим архитектурным убранством дух имперской, дворянско-купеческой Москвы времен Николая I. Это поистине могучая постройка стиля ампир с громадным куполом в центре и еще четырьмя – на башенках – по углам. Камень собора как будто дышит мощью города, житейской крепостью люда, населяющего Белокаменную, прочностью купеческого и ремесленного исповедания веры. Здесь, в этом месте, у входа в храм, древние корни Москвы чувствуются с особой силой.
Да, Елоховский собор построен по архитектурной моде середины XIX столетия.
Но нарядная тяжесть его, прихотливость и основательность роднят храм с церквями допетровской эпохи гораздо больше, чем с сухими, рассудочными классицистическими церковными зданиями второй половины XVIII века. Это ведь совершенно невесомая субстанция – дух города. И даже талантливый архитектор иногда ловит его, иногда не может схватить… Так вот, Евграф Тюрин эту самую «московскость» самым очевидным образом поймал.
Елоховский собор это… это… словно гениальное припоминание о древнем величии, о древней святости, но прежде всего – о древней самости Москвы, посетившее прежнюю столицу в ее опальной дрёме. А раз о самости, то, следовательно, и об инакости в отношении новых времен с их унылой, размеренной регулярщиной.
Елоховский собор построен на 100 процентов по-европейски в смысле архитектурных и строительных технологий. Но он худо вписывается в холодный европеизм петербургской эпохи.
Ампирную громаду собора венчает традиционное русское пятиглавие, символизирующее в православной традиции Господа в окружении четырех евангелистов. И пусть архитектурная отделка здания весьма далеко отстоит от пятиглавого Успенского собора в Московском Кремле, ставшего образцом для множества храмовых построек допетровской России, пусть еще того далее она и от величия Успенского собора во Владимире – старшего брата кремлевского Успения. Пусть. Но родство меж ним все-таки очевидно.
Все три сверкают огромными шеломами своими, все три сочетают устремленность глав соборных к небу с тяжкой устойчивостью, крепким, трезвым, полнокровным «стоянием на земле». Эстетические вкусы эпох, разделенных многими веками, наложили отпечаток на убранство трех разных церковных зданий. Но основа, ради которой они воздвигались, – мистическое приближение к Христу, вера, пронизывающая корнями пласты русских столетий, – сохранилась и сохранила базовый смысл, вложенный зодчими в планы этих соборов. Во всех трех случаях ум побеждается верой и служит ей, во всех трех случаях он не имеет никаких шансов на главенство в этом диалоге, но у него не отымается права на рациональное высказывание.
А Москва не-рациональна. Не-логична. Жизнь ее в большей степени постигается интуицией, да еще благим упованием на Бога. И Богоявленский собор, ушедший от холодного ratio, приблизившийся к теплу древних святынь наших, мил Москве, он – плоть от плоти Порфирогениты.
Елоховский собор – одно из маленьких сокровищ столицы. Если видеть в Москве ларец, наполненный всякой всячиной под самую крышку, то в нем советские гвозди, детальки от сломанного плеера и легкие алюминиевые монеты соседствуют с драгоценностями работы старых мастеров. И где-то на самом дне укрылся от небережных рук неприметный перстень с прекрасной жемчужиной – Елоховским собором.
Марфо-Мариинская обитель и русский стиль в архитектуре Москвы
Марфо-Мариинская обитель – один из самых молодых монастырей в Москве.
Она возникла незадолго до великого пожара Первой мировой и революционного лихолетья. Но всего за несколько лет обитель завоевала у москвичей добрую славу. Она считалась местом особого, деятельного благочестия. А заодно – жемчужиной русского стиля в архитектуре.
Парадокс: именно Марфо-Мариинская обитель, блистательный пример русской древности, ожившей на рубеже XIX и XX столетий в творениях архитекторов, возникла благодаря воле немки, которая до изрядного возраста вообще была крайне мало осведомлена о России и ее культуре. Эта благородная женщина происходила из Гессен-Дармштадтской династии. Но именно она приняла на себя роль творческой силы правящего дома Романовых; изо всех представителей царствующего семейства ей удалось двинуть русское дело в большей степени, чем кому бы то ни было со времен царствования Александра III.
Итак, основательницей обители стала великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее судьба связана с судьбой Москвы невидимыми, но крепчайшими нитям. Именно такие использует Небо, сшивая события, личностей и обстоятельства в нераздельное целое.
Здесь, в Великом городе, Елизавета Федоровна прожила много лет. В 1905 году на московскую землю пролилась кровь ее супруга, великого князя Сергея Александровича, погибшего от рук террориста. А 1918 году чудовище революции убило и ее: большевики вывезли Елизавету Федоровну из Москвы на Урал, а затем сбросили ее, вместе с другими представителями дома Романовых, в глубокую шахту под Алапаевском. Русская православная церковь причислила ее к лику святых – как новомученицу – и поместила в Собор Московских святых.
Между этими двумя страшными датами Елизавета Федоровна совершила главную духовную работу своей жизни.
После смерти мужа она продала фамильные драгоценности, особняк в Санкт-Петербурге, призвала помочь высокопоставленную родню; накопив достаточно средств, великая княгиня купила в Замоскворечье усадьбу с четырьмя домами и садом. Здесь Елизавета Федоровна в 1909 году основала обитель. К 1917-му в ней уже было три новых церкви и обитало множество насельниц. Туда принимались православные девушки и женщины от 21 до 45 лет. Сестры с первых шагов не давали монашеских обетов, не облачались в черное. Они могли выходить в мир, имели право покинуть обитель и обвенчаться (Павел Корин, трудившийся над росписью соборного храма обители, сам был женат на ее бывшей воспитаннице), но могли и постричься в монашество. Главная идея Елизаветы Федоровны состояла в том, чтобы соединить молитвенное сосредоточение монастыря с деятельной помощью ближним. Сестры заботились о больных, помогали сиротам, учили детей, занимались делами благотворительности.
Настоятельнице потребовалась большая вера, чтобы забыть роскошные наряды и облачиться в скромные монашеские одеяния, большая воля, чтобы из года в год упорно вести обширное хозяйство обители, не оставляя в то же время постоянных молитв, большое милосердие, чтобы лично обихаживать тяжелобольных и отыскивать на самом дне московской жизни детей, нуждающихся в помощи.
Обитель в целом и один из ее храмов получили имя в честь двух евангельских персонажей – святых Марфы и Марии. Они были родными сестрами святого праведного Лазаря, коего чудесным образом воскресил Иисус Христос. Обе они уверовали до Воскресения Спасителя. Когда их дом посетил Господь с учениками, Марфа принялась заботиться об угощении гостей. В то же самое время Мария села у ног Христа внимать Его Слову и за то получила Его одобрение. Марфа попросила отпустить сестру – помогать по хозяйству, но Господь упрекнул ее в излишней хлопотливости, когда пришло время сосредоточиться на служении духовном, а не хозяйственном. Впрочем, Господь не отверг и Марфу: в Евангелии сказано, что Он любил обеих. Елизавета Федоровна мечтала в стенах обители соединить эти два служения, и ей дарован был успех.
Марфо-Мариинская обитель стоит на одной из красивейших улиц Москвы – Большой Ордынке. Рядом с нею сохранились добротные купеческие особняки, чудом не снесенные в советские годы и таким же чудом пока еще не уничтоженные ради современной многоэтажной застройки. Большая Ордынка когда-то была средоточием посадской жизни, районом купцов и ремесленников. Здесь допетровская культура, устои времен первых государей из рода Романовых плавно, без какого-то страшного слома, без надрыва слились с европеизированной имперской культурой, во многом переиначив и перестроив под себя последнюю. Ныне здесь любят гулять москвичи, знающие и ценящие столичную старину. На Большой Ордынке, как нигде более, легко представить себя в гуще жизни позапрошлого века, с ее викторианской неспешностью, с осанистым духовенством, субтильными курсистками, щедрыми промышленниками-меценатами, городовыми при окладистых бородах, солидными купеческими семействами в каретах. Летними сумерками, вглядевшись в недавнее прошлое, можно увидеть газовые фонари, дам в длинных юбках и шляпках, пролетки с ямщиками, а если повезет, различить едва слышный цокот копыт по булыжной мостовой… И тогда замоскворецкие храмы – убитые и живые – выступят из суеты городской, из человеческого кипения с поразительной отчетливостью, опустевшие улицы изменят ритм, канув из дерганой современности в неспешную старину. И полетит по бульварам и переулочкам, по Кадашевским, по Пятницкой, по Старомонетному, по Черниговскому тягучий звон вечерних колоколов…
Среди всего этого великолепия устроилась Марфо-Мариинская обитель – словно драгоценный камень в оправе из серебра, потемневшего под действием времени, или, может быть, маленький кусочек рая, всплывший из глубины тысячелетий на поверхность настоящего.
Архитектурный ансамбль его выполнен в русском стиле, и о том, что собой этот стиль представлял, стоит поговорить особо.
В конце XIX – начале XX века происходит возрождение как религиозного, так и национального чувства в России. Значительная часть образованного класса поворачивается лицом и к русской истории как безусловной ценности, и к православию как к чему-то более высокому, нежели сиюминутные измышления Бюхнеров, Фохтов и Молешоттов – великих гуру простецкого материализма третьей четверти XIX столетия. Под действием столь значительной перемены уходят старые архитектурные стили, начинаются эксперименты с новыми. Классицистская и ампирная рассудочность отступают, эклектизм перестает удовлетворять просвещенное общество.
Русский стиль в архитектуре рождается из этого ренессанса православия и народности. Тут сложились воедино и самые искренние чувства царствующего дома, и казенный задор чиновничества, и устремления творческих людей, и сохранившееся в купеческой среде теплое отношение к допетровской старине.
Попытки создать новый стиль усилиями одного государства приводили к спорным результатам. Столь спорным, как, например, творчество того же К. Тона и его учеников.
Работы этого человека столь долго ругали самыми черными словами, что немногие сейчас осмелятся находить в них эстетические достоинства, а они между тем очевидны. Так, созданный им Большой Кремлевский дворец представляет собой органичное единство европейской строительной техники, европейской стилистической основы и допетровских мотивов русского зодчества. Тон искусно напомнил москвичам, что когда-то первые Романовы жили в Теремном дворце государя Михаила Федоровича, часть которого оказалась встроенной в Большой Кремлевский дворец. И этот последний, юный богатырь, напитан идеями, которые вложены старомосковскими зодчими в декор древней постройки.
Из государственной инициативы выросли превосходные памятники русского стиля: Спасский храм «на крови» в Петербурге, Крестовоздвиженская церковь в Ливадии, бесчисленное количество храмовых построек времени Александра III, для Москвы прежде всего – нарядная Всехсвятская церковь Алексеевского монастыря.
Но чаще удавались памятники русского стиля, рожденные частной инициативой: Марфо-Мариинская обитель, «палаты» Щукина в старомосковском стиле, Спасский храм в Абрамцевском имении С. И. Мамонтова.
Очень хороши Ярославский и Казанский вокзалы. Чудный «теремок» в начале Остоженки. Фасад Третьяковки. Удивительное каменное узорочье малых церквей Николо-Угрешской обители. Да много всего! И, разумеется, не только в Москве: в Киево-Печерской лавре есть первоклассный памятник русско-византийского стиля – собор Антония и Феодосия Печерских, в Натальевке под Харьковом – Спасская церковь, вся в каменной резьбе, на Куликовом поле – храм Сергия Радонежского с «богатырским» фасадом.
Вернемся к Белокаменной.
Близ входа в парк «Сокольники» стоит великолепный храм Воскресения Христова, не закрывавшийся на протяжении всего советского периода. Его творец, архитектор П. А. Толстых, соединил древлемосковский шатер и малые фигурные главки вокруг него с мягкими, текучими формами архисовременного модерна. Воскресенская церковь – не только высокий образец русского стиля в архитектуре, это еще и храм-мечта. Мечта о том, что милостивый Господь когда-нибудь подарит нашей жизни больше тепла, снимет груз с наших плеч, даст нам чистой радости – столько, чтобы можно было ею вдоволь напиться. Мечта о том, что всё будет хорошо.
Храм построили перед началом Первой мировой. Мало ему досталось спокойного времени… И сколько бед обрушилось на православный мир, когда церкви сокольнической было от роду всего несколько лет! Но эта надежда, эта мечта, это упование на милость Божью были столь сильны, что пересилили всю темень, сокрушили всю печаль, всё победили. Храм выжил.
В русском стиле архитектуры были свои классики. Кого-то из них помнят – как, например, А. В. Щусева. А кого-то забыли. В частности, плодовитого и весьма одаренного Александра Степановича Каминского, приходившегося зятем Павлу Михайловичу Третьякову. Преображенский собор Николо-Угрешской обители, Третьяковский проезд на Лубянке, Третьяковская галерея (главный фасад – по проекту В. М. Васнецова), царский павильон на Ходынском поле, дача А. Н. Мамонтова и павильон Абрикосовых на московской выставке 1890 года – таковы лишь самые знаменитые его работы.
Не видно, к сожалению, чтобы кто-то пытался всерьез пересмотреть отношение к русскому стилю в постсоветский период. Экскурсоводы всё так же пичкают людей бреднями о «псевдорусской манере» такого-то архитектора. А что там, собственно, «псевдо»? Всё это ложится на душу как нельзя лучше, всё это – наши корни, родное.
Вероятно, лучшим из всего, что есть в Москве русского стиля, и является Марфо-Мариинская обитель.
Над архитектурным и живописным убранством главнейших зданий обители трудились выдающиеся люди дореволюционной России. Елизавета Федоровна не жалела усилий, привлекая их к работе. Она стремилась придать монастырю ни с чем не сравнимую красу.
Зодчим обители стал Алексей Викторович Щусев, позднее – блистательный автор Казанского вокзала (до 1894 – Рязанского), выполненного в стиле старомосковских башен, церквей и палат XVII века. Именно ему принадлежит идея придать обители сходство с храмами и теремами псковско-новгородской Руси, а главный храм – Покровский – украсить белокаменной резьбой по мотивам средневекового русского искусства. Поэтому ныне церковь Покрова Богородицы выглядит так, будто она сошла со сказочных картин В. М. Васнецова, а где-то близ нее, за оградой, скачет на сером волке Иван-царевич и богатырская застава объезжает сонные переулки дозором. От храма веет изначальем православной Руси.
Расписывали храмы Марфо-Мариинской обители столь знаменитые матера русского религиозного возрождения, как Михаил Нестеров и Павел Корин.
Марфо-Мариинская обитель предъявляет русский стиль в концентрированном виде. Так же как, например, Спасский храм из Абрамцевской усадьбы Саввы Ивановича Мамонтова. Это, можно сказать, эталонные постройки. В обоих случаях древнерусская традиция христианского искусства соединяется с народной верой и, одновременно, с высокой культурой образованных людей XIX века.
И то, и другое в эстетическом смысле – изысканно-тонкие, аристократичные произведения архитектуры. Кажущаяся простота их композиции основывается на изощренной сложности. И то, и другое – результат осознанного выбора русской православной старины как источника для художественных исканий. И то, и другое – воплощение в камне искреннего христианского чувства, которое испытывали рафинированные интеллектуалы.
При большевиках обитель, разумеется, закрыли, – это произошло в 1926 году. Ее постройки были переданы Церкви лишь в 1992 году, а Покровский храм – только в 2006-м. К тому времени старые здания пришли в скверное состояние. Реставрация длилась несколько лет. Обитель стала чудо как хороша, нарядна, тепла. Физическое восстановление Марфо-Мариинской обители дарит надежду и на возрождение нравственное: быть может, оттуда вновь распространится благое начинание деятельного благочестия – служения, соединяющего роль Марфы и роль Марии в неразрывное целое.
Ныне вокруг скорой реставрации Марфо-Мариинской обители идут споры: многие специалисты недовольны ее результатами. В прессе время от времени раздаются голоса: напрасно с реставрацией поторопились – некоторые здания вскоре после завершения работ пошли трещинами, кое-где старинные дома подверглись невнятным перестройкам и доделкам, а мемориальный сад, существовавший еще при Елизавете Федоровне, по неизвестным причинам оказался вырублен. Но… но… и то что есть ныне, вызывает своим видом, своим духом острое чувство любви и к святой Елизавете Федоровне, и к старой Москве.
Московский миф – с тех самых времен, когда он только-только появился на свет, – в основе своей христианский, по преимуществу Богородичный. В середине XIX – начале XX века ему придавали новые формы, но фундамент по необходимости должен был остаться прежним. А значит, православную суть его требовалось хорошенько припомнить. Сначала – в мысли, в слове, а затем уже в камне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































