Текст книги "Московский миф"
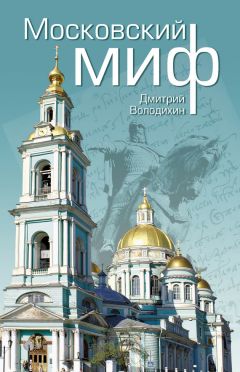
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Раблезианство грязи. Москва Гиляровского
Историю предреволюционной Москвы прочно связывают с творчеством Владимира Гиляровского – автора множества очерков и рассказов о «второй столице» Российской империи, да и нескольких удачных книг. Среди них особенной известностью пользуется сборник «зарисовок с натуры» «Москва и москвичи».
Одно время Гиляровским восхищались, как точным бытописателем московской старины, притом сильным литератором. Сейчас имя его несколько подзабыто, но всё же еще не истерлось до конца из памяти образованных москвичей. Да, у него ясный, легкий журналистский слог. Да, у него есть необыкновенная цепкость в передаче деталей: всякую мелочь заметит – хоть кружку с орлом, хоть немудрящую одежку на Сухаревском рынке – назовет материал, из которого ее «построили», стоимость пошива, шансы на то, что вещь перекроена из ворованного материала какими-нибудь подпольными «раками» на Хитровке, да еще и скажет с большой долей точности, кто, когда, при каких обстоятельствах этот материал мог украсть.
И – да, Гиляровский обладал своего рода босяцкой отвагой, умом, жизненной ловкостью, позволявшими посещать вонючие притоны, украшенные запекшейся кровью; сидеть за одним столом с ворами, шулерами, душегубцами и уходить живым, невредимым, даже не ограбленным; спускаться в подземную клоаку московскую и топтать ногами месиво из разложившихся трупов; сокрушать кастетом челюсти нефартовому «деловому», который захотел поживиться барахлишком журналиста. Ему литературный мир России премного обязан за фотографически точную передачу придонных слоев русской городской жизни. Кто бы полез туда, когда б не Гиляровский? Кто бы осмелился? Кто бы не побрезговал?
Этим и впрямь хорош Гиляровский.
Но он, во-первых, «разрешенный мемуарист» послереволюционных лет (так выразился о нем И. Н. Сухих). Соввласть разрешила ему творить. Мало того, что разрешила, а еще и одобрила, ободрила, вознесла, обеспечила хорошенько. А потому Гиляровский в экскурсах о старой Москве всё больше выволакивал читателям на глаза грязь, вонь, уголовщину, нелепицу, подлость властей. Тут кроется какой-то внутренний, подловатый, лишенный света источник его творчества.
Во-вторых, он и в самом прямом смысле выпускал салют за салютом в адрес власти, столь ласково к нему относившейся. То и дело славословил ее преобразования – тут новое здание построили, там очистили Хитровку от опасной рвани, здесь снесли халупник, а вон там провели очень хороший водопровод вместо прежнего дерьмосборника.
Он любил на склоне лет, накачав глаза искренностью, пускаться в дифирамбы новой жизни: «Там, где еще недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи… и т. п.».
Слышите мотив? Слышите бравурные марши, летящие по «трансляции» изо всякого репродуктора? Слышите, как наяривают духовые оркестры советских пожарников? Пам-пам-пам-пам! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Нам некто дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный моторррр! «Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы… Это стало возможно только в стране, где советская власть. Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах».
…Земля начинается с Кремля!
Вот они, корешки того советского мифа, который прочил Москве роль столицы коммунизированного, интернационализированного мира. Который восхищал миллионы советских людей, впрыскивал им адреналин в рабочие органы, возвышал их в собственном мнении над всей планетой, делал титанами и… рухнул.
И были для этого мифа чужими взорванные, оскверненные церкви, расстрелянные офицеры, растаскиваемые на макулатуру архивы, относительный достаток среднего класса (улетевший надолго в страну грёз), качество высшего образования (просто забытое) и памятники светлым личностям русского прошлого. Особенно агрессивен был этот миф, когда он только-только начал проговариваться вслух, в 20-х и 30-х. Потом он несколько цивилизовался, приобрел светский лоск и разумную уклончивость, уже не с таким восхищением взирал на собственные корни, на весь этот «революционный романтизм». Однако… однако… Гиляровский и бассейн «Москва» на месте храма Христа Спасителя – родные друг другу, происхождение у них одно. И память бы должна быть о них одна. Взрывники ломали стены церковные, Гиляровский – ломал память, выстраивая на ее месте нечто преобразованное так, чтобы можно было безо всякой опаски положить новую субстанцию истории в фундамент нового мифа.
Гиляровский в его сочных описаниях Москвы привлекает и «держит» читателя прежде всего тем, что у него слишком, что у него чересчур.
Описание еды – поистине раблезианское. Трактир такой-то: русская кухня – расстегаи особенной формы по 15 копеек, белорыбица с дюжиной кулинарных выкрутасов, икра четырех видов, каша гурьевская, окорока мильона сортов, поросеночек жареный – горячий и холодный, – а к ним какие-нибудь гости из Европы, вроде остендских устриц… и поехало, и поехало, на несколько страниц гурманской порнографии.
Но гораздо больше встречается у Гиляровского раблезианства грязи. Как человеческой грязи, так и самой обыкновенной, которую московская босяччина месит дырявыми сапогами на немощеных улицах.
Вот воры – лихие ребята, раздевают посреди улицы, трупы кидают в сточные колодцы, ползают по тайным ходам и «тырбанят слам» с марухами, не забывая подрезать кого-то из своих, чтобы делить на меньшее число лиц. Вот нищенки с «арендованными» младенцами, у которых от холода и грязи отгнивают пальцы. Вот шулера, искусно вытряхивающие из денег что своего брата вора, что пришлого «чайника». Вот скупщики краденого, лезущие в большие господа. Вот мразь, ловко торгующая сапогами с бумажными подметками. Вот испитые торговки, готовые всякого за умеренную цену накормить тухлой колбасой. Вот лавочники, продающие траченное крысами мясо… И всюду пьяный гвалт, рвань, срань, дрянь, нечистоты и лужи пешеходу по пояс. А если спуститься в московскую клоаку, то там такая вонища! И всё такие яркие типы, такие живописные характеры, всё – чересчур.
Московская дрань у Гиляровского перестает быть дранью, на время превращаясь в какую-то литературную экзотику, чтобы потом затопить собою всё, что не дрань.
Москва высокая, Москва культуры, науки, Москва повседневного труда, Москва дворянского быта, Москва литературных салонов у Гиляровского просто не существует. Студенты представлены у него со странным перекосом: вот бузит, пирует, митингует студенческая голь, и кто не с нею – ничтожества. А ведь не буза, не вечеринки и подавно не митинги соль студенческой жизни, а сидение в библиотеках, на семинарах и лекциях… Или, скажем, московские купцы – какими они предстают у Гиляровского? Купцы жрут в трактирах так много, что непонятно, почему не лопаются по дороге домой, купцы проигрывают в карты целые состояния, купцы шастают к «девочкам», купцы швыряют целковые банной обслуге. Но никогда никого из купцов Гиляровский не описывает за делом. Он, видимо, и представления не имеет, как именно зарабатываются все их миллионы. И, разумеется, он не хочет видеть купеческого быта – того, что в доме, в семье, а не в трактире. Гиляровский играл на сцене и должен был хорошо знать мир театра. Но каковы его актеры? Нищие, с шиком пропивающие последние копейки. Вот они пьют здесь. И вот они напиваются там. И еще вот они собрались в кружок и заставляют кого-то из своих коллег пить штрафную, а те, кто уже «никакие», лежат в «мертвецкой», поскольку до дома им не добраться, пока не протрезвеют. Нищие художники… опять буза, опять водка.
Да что за жизнь такая у русских по Гиляровскому? Какая-то сплошная драка во хмелю! Грязь, грязь, босяки в пестрой рванине, воры, плуты, мерзавцы, прожигающие жизнь, убитые проститутки валяются в помоях…
Гиляровский в двух разных местах описывает один и тот же случай, когда-то виденный им: из дверей кабака, где собирается уголовщина, выбегает, «ругаясь непристойно», навстречу посетителям «…женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:
– У нас жить так жить!
Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно пытается встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара… Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а за ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань».
В этом случае видна самая суть писательской манеры Гиляровского. Он купается в этом. Лихость, удаль, вольность в отрепьях, что ни возьми, – всё через край, навоз – и то сложен исполинскими кучами, всё какая-то песнь в честь эпических оборванцев, коим еще Горький слагал гимны. Но жизнь, которой изо дня в день жили те, кто знал честный труд, те, кто занимался творчеством, те, кто строил Российское государство и поддерживал русскую культуру, – эта жизнь Гиляровскому неинтересна. Яркая грязь ему хороша. Яркие достижения иного рода мало беспокоят его. Тем более далека от него жизнь веры. Разве только архиерей на открытии «Елисеевского», к удивлению Гиляровского, откажется напиваться, поскольку это несовместимо с его званием («Как же так? – слышится в интонациях Гиляровского, – отчего не пьян архиерей, когда кругом все пьяны?!»), разве только знаменитый протодьякон возгласит «Многая лета!» могучим басом – так, что оконные стекла дадут трещины, – а потом… напьется вусмерть – вот это по-нашему!
Он и сам итожит описание московских клубов, честно признаваясь, что их «казовая» жизнь и без того известна – «симфонические вечера, литературные собеседования», просветительская деятельность – а потому другие о ней напишут, да и пишут уже, а вот тайная жизнь, тысячные пиры, азарт подпольных картежников – это да, об этом же никто не расскажет, так я вот и рассказываю… Звучит странно: надо же кому-то быть золотарем, вот я и буду им! И, кстати, любит Гиляровский сцены, когда посреди улицы явится обоз золотарских бочек на колесах, испортит воздух, а еще лучше, свернут такую бочку лихие пожарные ездоки, кал с мочою разольются по мостовой, то-то веселья! Ха-ха-ха!
Гиляровский – силач, богатырь, спортсмен, большой смельчак – бредил казачьими подвигами, посвящал стихи судьбе Степана Разина, искал в жизни лихости, удали, рискованных дел и хорошей драки. У него в принципе была абсолютно здоровая натура. Хорошо тренированное человеческое тело он чуть ли не обожествлял. Если видел честность в человеке, которого недолюбливал, не забывал написать о ней, как написал по-доброму о «классово чуждом» богатее, кондитере Филиппове. С восхищением рассказывал о подвигах пожарных. Любил, когда другой человек в чем-то показывал свое искусство, а потому расхваливал превосходных банщиков и поваров. В конце концов, литературный талант его совершенно очевиден.
Но эта здоровая натура была отравлена ядом бунтовских настроений. Само время его молодости было пронизано сладострастным ожиданием большого мятежа. Пульс общественных настроений задавался революционерами и революционерчиками разного пошиба. Буйство входило в моду. Воли! Дайте воли! Очарование разрушительных стихий пели декаденты. «До основания! А потом мы возведем прекрасные алюминиевые дворцы для народа!» Тряпичкиным дали право подъелдыкивать государство по всякой малости, трепать имя Церкви, любую честную службу объявлять делом, недостойным порядочного человека. Долой! И Гиляровский, вдосталь напившись из «чаши отравы», не пожелал расти в службу, где таланты его ох как пригодились бы. И не пожелал сдерживать мятежные инстинкты. Кто у него герой? Нищий художник, надерзивший великому князю, который захотел купить у него картину. Террористы-душегубы: Каракозов, Нечаев. Понизовая разбойничья вольница воров, каторжников, нищих.
А ведь другую жизнь Гиляровский знал. Проговаривается однажды, как бывал в Английском клубе, да и в других аристократических местах мог бывать, в качестве члена спортивных и охотничьих клубов. Литературный и театральный миры от него вообще не были закрыты, он являлся их полноправным участником.
В сущности, Гиляровский взял на себя очень важную разрушительную работу. Его тексты вытесняли из массового сознания великую Москву – купеческую, церковную, богатую, живописную, Москву «сорока сороков», Москву Университета, Москву музеев, театров, художественных галерей. Большая ложь Гиляровского не в том, что он рассказывает, а в том, о чем он молчит. Его очерки московской жизни у кого угодно отобьют желание любить своих предков, гордиться корнями русской жизни, уважать русскую столицу. Он «зачищает» лучшее, что было в жизни дореволюционной Москвы, меняет благородную московскую старину на похабное раблезианство грязи. Разве можно уважать дебелую проститутку, лежащую в сточной канаве с задранным подолом и пьяную до потери сознания? Дядя Гиляй с репортерским ухарством ломал хребет старому мифу Москвы, расчищая место для мифа, который еще надиктуют строители «новой жизни» писателям, киношникам, поэтам…
И надобно обладать давно сложившимся взглядом на русских, на Россию и на Москву, чтобы твердо сказать себе, почитав записки Гиляровского: «То, что ты знаешь и говоришь, – один процент правды о нас. А то, что ты знаешь и о чем говорить не хочешь, – остальная правда. Ты лжешь, умалчивая о ней».
Московский пирог vs конструктивизм
Бетонный дракон конструктивизма упал на русские города в 1920-х.
И больше всего досталось от него Москве.
Конструктивизм – то направление в архитектуре, которое больше всего свидетельствует о порче искусства в XX веке. Об утрате тонкости, аристократизма. Об угасании эстетического чувства. Об уравнивании прекрасного и безобразного. О выжигании в человеческой душе сокровенных мест, коими связана была душа с Богом. Об уничтожении связей культуры с воспоминаниями о чудесном Изначалье, о Райском саде и совершенстве Божьего замысла о сущем.
Искусство XX века вело себя с этими тонкостями как взбесившийся слон в посудной лавке.
Москва, жившая памятью о прекрасном боре, занимавшем когда-то ее холмы, о садах, разбитых по велению князей-Даниловичей, о тихих обителях, о боярских палатах, представляла собой город-вызов для искусства «победившего класса». На несколько пластов благородной московской старины накладывался пышный модерн, коим славился город в конце XIX – начале XX века. К началу 1920-х Москва, таким образом, представляла собой «слоеный пирог» с роскошным кремовым верхом. Его и есть приятно, и глазам – отрада…
Однако для ревнителей «пролетарской культуры» этот чудесный пирог выглядел как нечто несъедобное и даже ядовитое.
Вот закончилось великое землетрясение Гражданской. Новым властителям города надо было кем-то в нем быть – не только с точки зрения политической власти. Нет, этого мало! Этого всегда было мало. Требовалось эстетическое оформление новой жизни. Всякий политический уклад, не декорированный особым стилем искусства, – вроде короля, носящего дедушкины штаны: и не по размеру, и ветхие уже. Вон там дырочка! И вот тут – еще одна. Позволительно ли для особы монарха подобное безобразие?! Петроград отступил в тень, столицей стала Москва. И теперь именно в Москве следовало утвердить новую, революционную эстетику. Можно вписать в город очередной слой художественных исканий – нечто родное городу, уложенное поверх модерна; а можно создать нечто, прямо и радикально отрицающее прежние слои.
И как тут не выбрать второй путь, ежели новая власть, да и люди от искусства, прилепившиеся к ней, слишком чужими чувствовали себя посреди великолепия московской старины.
Обители? Гнезда религиозного дурмана! Модерн? Мелкобуржуазный уютик! Особняки дворян? Нам нужно пролетарское искусство! Русский национальный стиль? Забудьте эти слова, у нас пролетарский интернационализм на дворе!
И вот несколько небесталанных людей принимаются теоретизировать по поводу нового революционного искусства. Когда братья Веснины, Моисей Гинзбург, Иофаны, Иван Николаев ударяются в умственное строительство чего-то принципиально нового, они ведь начинают с разрушения традиции. Модерн ими естественным образом отторгается. И если бы отторгался только он, можно было бы поискать в творчестве конструктивистов какую-то попытку реабилитации древнейших слоев Традиции на новом художественном уровне. Но ведь они отрицают всё, что существовало до них, не ограничиваясь модерном. Они не столько созидатели, сколько критики. И на отрицание у них уходит очень много энергии.
Созерцательность? Современный город живет стремительными темпами! Время – вперед! Мы ускоряемся, мы живем невероятно быстро, наша жизнь – слегка замедленный взрыв! Некогда!
Эстетизм? В могилу! Мы ставим во главу угла достижения науки и техники, новые возможности с новыми строительными материалами! Нам важнее технологичность! Нам ближе идеал утилитарности!
Искусство? Его дело – служить производству!
Дом, мой милый дом? К бесу! Дом – машина жилья, камера для сна, средство провести время вне работы и общественных обязанностей! Раскурочим семью! Нам нужно больше свободы! Обобществим быт! Пусть каждый живет носом к носу с каждым! Советскому человеку нечего скрывать от советского человека! Мы строим один социализм на всех! Больше соцсознательности, товарищи! Кто-то смеялся над дворцами из алюминия? Мы воплотим в жизнь штуки посильнее дворцов из алюминия! Р-равнение на… звезды! Стальные челюсти новой жизни сминают старое барахло! Бетонные зори, стеклянные солнца, геометрика производственных ритмов! Вперед и вверх!!! По солнечным трубам к серпастому и молотастому небу! Ввысь, наперегонки с железными птицами!
Каков пафос…
И сколько бумаги ушло на проекты, проекты, проекты…
Кого из конструктивистов ни возьми, всё-то «бумажная архитектура», всё-то проекты и опять проекты, статьи да книги преобладают над действительными постройками. Реально они строили не столь уж много. А из того, что строили, хоть какими-то эстетическими достоинствами обладают совсем немногие здания. Ведь когда составляется величественный проект, когда карандашик спешит по бумаге, в голову очередного гения от конструктивизма не приходит мысль о действительных возможностях страны. Может ли она, нищая, разоренная, богатая одними беспризорниками да заброшенными землями, страшно пострадавшая от пламени Гражданской, выбрасывать миллионы на архитектурные миражи? Нужна ли кому-то архитектурная фантазия – верх бытового неудобства! – в которой придется жить и работать?
К несчастью, кое-что конструктивистам удалось построить, и лучшее из их наследия находится в Москве. Кажется, камень стонет, сообщая о злых фантазерах из 1920-х годов…
Вот чудовищные дома-коммуны, безобразные, со сплошными линиями окон, со страшной, всему свету открытой коммунальщиной внутри, с абсолютной звукопроницаемостью… Да ведь это по большому счету приговор для жильцов: столько-то лет – в каменном бараке! Желающие могут полюбоваться, например, безобразным Домом Наркомфина на Новинском бульваре, детищем Моисея Гинзбурга. Нравится? А хочется там жить? А хотелось ли там жить самому Гинзбургу? Широко известно высказывание Ольги Берггольц о том, с каким энтузиазмом, с какой верой в чистое/светлое творческие люди становились обитателями домов-коммун… и как они потом проклинали тамошний бесчеловечный неуют, тамошнюю казарменность. Ничуть не менее того известны слова Евгения Замятина, посмеявшегося над «пролетарским стилем» в романе «Мы». И он же в эссе «Москва – Петербург» (1933) прямо высказался: «Некоторые из левых архитекторов объявили этот… стиль "пролетарским" (а стало быть – самым модным), но… пролетариат не поверил и запротестовал, когда эти унылые кубы стали расти в пролетарских районах». Да и такая громада архитектуры, как Алексей Щусев, имевший тончайшее чувство стиля, изрек мрачное: «Оказалось, что упрощенный конструктивистский тип архитектуры не во всех случаях близок и понятен массам… Коробкообразная, плохо сработанная поверхность зданий скоро приелась».
Конечно-конечно, вещали отцы-основатели конструктивизма, забудем об эстетизме… если только это не наш, истинно пролетарский эстетизм плаката! Родченко какой-нибудь, изувековеченный в камне. Цветные лозунги на стенах – пожалуйста: см. Дом Моссельпрома с безобразной граненой башенкой, из которой кверху торчат столбы – наподобие ножек от табуретки, брошенной на пол сиденьем книзу. Привет архитектору Струкову с тем же Родченко под локоток. Привет лучшему из лучших – Константину Мельникову, налепившему супрематистский бессмысленный плакат из камня и стекла на фасад гаража, до сих пор пугающего прохожих на Сущевском Валу.
Конечно, мы найдем художественное выражение технологизму. Раз материал дает новые свойства – пусть это видят все! И вот рождается кинотеатр «Ударник», детище Иофанов, похожее то ли на гараж, то ли на крытый бассейн.
А по соседству с «Ударником» – сундук, исполненный угрюмой торжественности. «Дом на набережной» – это очень ласковое имя для него. Лучше было бы назвать «Комод на набережной». Рука тянется открыть створочку и вынуть изнутри табакерку гигантских размеров или коробку с монпансье высотой в два человеческих роста.
А что касается здания газеты «Известия», возведенного именитым конструктивистом Григорием Бархиным в самом центре Москвы, то тут рука тянется разобрать домик на составляющие: уж больно он похож на творения ребенка, отлично освоившего, как строить дома из деталек детского конструктора. Элиту советской журналистики приговорили жить в серой, унылой кубатуре. Певцы «творческих достижений» конструктивистов пишут о каких-то особенных ритмах и т. п. Встаньте перед фасадом. Что увидите? Тупое чередование квадратов, ленточек и кружочков.
Главные теоретики, братья Веснины, что создали они, чтобы подтвердить гениальность своих теорий? О! Каменное свидетельство взятых ими творческих высот живет до сих пор на юге Москвы. Это ДК ЗИЛа. Присмотримся. Да! Это большое здание. То есть весьма крупное. И – да! У него очень большие окна. Вероятно, Весниных и их современников поражала большая площадь остекления. Новаторство! Стекла – много. И очень новаторский еще полукруглый вход с колонками… правда… несколько напоминающий гипертрофированные детали некоторых фасадов в господских домах провинциальных усадеб XIX века, но на это не стоит обращать внимания… Ведь не напрасно же пострадал Симонов монастырь, покореженный для того, чтобы у гениев конструктивизма было место для творческого самовыражения…
Кажется, лучшие из конструктивистов – те, кто в какой-то мере преодолели в себе конструктивизм. Те, кто хотел заставить москвичей любоваться современными зданиями, а не плеваться в них. Те, кто признал за эстетикой определенные права.
Лукавый трюкач Мельников – практик на все сто, практик гораздо больший, чем Веснины и Гинзбург вместе взятые. Этот, кажется, хотел сделать из своих зданий аттракционы, переиначить их сущности. Гараж? Пусть будет пивная бочка. Дом культуры? Пускай напоминает болт, район-то ведь – рабочий! А вот тут мы окна поставим лесенкой – хе-хе! И рядом окошко-кружочек пририсуем – ха-ха-ха! И вот пока он отпускал каменные шуточки, баловался, играл с серьезным лицом, устраивал великолепные клоунады, получая оценки в духе: «Революционное искусство или формализм?» – всё было забавно, рискованно, бесшабашно, даже талантливо в деталях, но… ниже величия. Мельников в большинстве своих построек – талантливый паяц, арлекин, да едва ли не юродивый. Да, именно так, и пусть мудрые искусствоведы числят Мельникова чуть ли не лучшим архитектором России XX столетия. Пусть!
А вот когда он душу вкладывал, не пытаясь великолепно подурачиться на счет государства, а изламывался в страшном, невыносимом для его смешливой природы прыжке – попытке поймать гармонию… тогда и появилось нечто великое. Я имею в виду клуб «Буревестник» и дом-студию, напоминающий башню средневекового волшебника.
Но сильнее всех оказался Илья Голосов, создавший настоящее чудо на Лесной улице – ДК Зуева. Этот дом похож на постоянно работающий агрегат, в котором одни формы перетекают в другие. На станок, отдельные шестеренки и узлы которого вращаются в разных направлениях и с разной скоростью. И тут действительно просматриваются те самые «ритмы», о которых столько писали конструктивисты-теоретики. Они у Голосова поданы так, что каждый из них дает ловко инсценированный перебой, но сумма перебоев создает мерный гуд прекрасно отлаженной машины. ДК Зуева уродлив, как и всё конструктивистское. Но его уродство гениально, поскольку доведено до логического завершения, а потому в чем-то действительно прекрасно. ДК Зуева – редчайшая, может быть, случайная удача конструктивистов…
Что же в целом?
Конструктивисты нарисовали птицу. Птица не оторвалась от бумаги и не полетела. Кое-кто из них, глядя на эту птицу, издал гениальный щебет.
Потом пришла «пролетарская неоклассика», сталинский ампир, и они-то оказались с Москвой одной крови, они-то вписались как надо…
А эксперимент конструктивистов так и остался забытым рисунком, месивом из бетона и крикливых теорий. Его любят искусствоведы, он наводит тоску на москвичей, и он умер, не успев как следует развиться.
И слава Богу.
Москва – она ведь не революционерка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































