Текст книги "Тайнопись плоти"
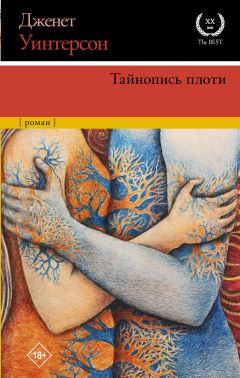
Автор книги: Дженет Уинтерсон
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Вот так! Это чтобы тебе никого не было видно, кроме меня, – говорит она. Волосы ее сверкают рыжей киноварью, тело напоминает обо всех сокровищах египетских. Луиза, никто на свете и не сравнится с тобой. Я не хочу видеть никого, кроме тебя.
Я все работаю, но вот часы звонят двенадцать, и сверху доносится жуткий грохот. Это проснулась Гейл Райт.
Я бросаюсь ставить чайник – мне кажется, некоторые миротворческие акции необходимы. Я отодвигаю в сторону «Эрл Грей» и достаю «Эмпайр Бленд». Не полка, а целый полк сортов чая. Это очень мужественный сорт – в нем столько танина, что некоторые художники используют его для рисования.
Гейл отправляется в ванную. Я слышу, как безрезультатно вращаются краны, затем подвергается штурму эмалированная раковина. Наконец с большой неохотой и со скрипом бак соглашается расстаться с некоторым количеством горячей воды, дребезжит струйка, затем раздается лязг, и подача воды прекращается. Я очень надеюсь, что она не потревожила осадок.
– Ни в коем случае не трогай Осадка! – сказал фермер, когда показывал мне дом. Он произносил слово «осадок», будто речь шла о жуткой твари, обитающей в баке с горячей водой.
– А что может случиться?
Он пророчески покачал головой.
– Даже не могу сказать.
Он наверняка просто не знал, чем это может грозить. Но говорил так, будто речь шла о древнем проклятии.
Я беру чай, приготовленный для Гейл, и стучу в дверь.
– Заходи, не стесняйся, – приглашает она.
Я осторожно протискиваюсь в ванную и ставлю чай на край раковины. Вода в ванне бурая от ржавчины, а сама Гейл от нее – в полосочку, будто отличный кусок бекона. Маленькие глазки покраснели от бессонной ночи. Я содрогаюсь от ужаса.
– Холодновато. Потри мне спинку, сделай милость?
– Надо разжечь огонь – нельзя, чтобы ты простудилась, – бормочу я и выскакиваю из ванной.
Спустившись вниз, я начинаю разводить огонь. Разжечь бы такой огонь, чтобы спалить весь дом, зажарив в нем и Гейл. Это невежливо, укоряю я себя. Почему ты впадаешь в ужас при виде женщины, чья единственная ошибка заключается в том, что ты ей нравишься, а единственная особенность – в том, что она необъятных размеров.
Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Гейл Райт спустилась по лестнице. Я выпрямляюсь и выдавливаю из себя улыбку.
– Доброе утро, душа моя! – Она звучно чмокает меня в щеку. – У тебя найдется бутерброд с беконом?
Расправляясь с останками фермерской хрюшки, Гейл сообщает, что собирается перевести меня на работу в бар – чтобы мы с ней работали вместе.
– Я положу тебе зарплату побольше. – Она облизнула губы и руку, куда попали брызги растопленного сала.
– Ни к чему. Мне нравится все так, как сейчас.
– Ты сейчас в депрессии. Но постарайся справиться с этим, как я. – Она скалится мне над остатками собственного завтрака. – Разве тебе не понравился наш вчерашний семейный вечер? Руки твои шарили, где хотели.
Ее собственные руки тем временем сжимают челюсти, словно она боится, что съеденный поросенок может вырваться. Она сама зажарила бекон, а потом прихлопнула бутерброд пропитанным свиным жиром хлебом. Правда, на ее ногтях еще оставался красный лак, и несколько чешуек попало ей в завтрак.
– Люблю сэндвичи с беконом, – говорит она. – Мне так понравились вчера твои руки в постели – такие нежные. Ты играешь на пианино?
– Да, – отвечаю я противно-ненатуральным голосом. – Извини меня, я сейчас.
Я успеваю добежать до туалета как раз вовремя и умудряюсь опередить приступ рвоты. На колени, сиденье вверх, голову вниз и оштукатурим раковину кашей. Я прополаскиваю рот водой, сглатывая горечь, скопившуюся в глубине горла. Если Луизе делали химиотерапию, она должна страдать от этого каждый день. А меня нет с нею рядом. «Помни о главном, а главное – вот это, – твержу я своему отражению в зеркале. – С тобой она не сможет прожить так долго, как с Элгином!»
– Откуда ты знаешь? – пропищал голосок сомнения, которого я так боюсь.
Содрогаясь, я доползаю до гостиной и отхлебываю виски прямо из бутылки. Гейл красится, смотрясь в маленькое зеркальце.
– Ничего страшного, надеюсь? – спрашивает она, подводя глаза.
– Просто неважно себя чувствую.
– Это от недосыпа, ты ведь не спишь часов с шести. Куда тебя носило в такую рань?
– Надо было позвонить.
Гейл откладывает в сторону щеточку для ресниц, больше похожую на стрекало.
– Тебе надо забыть ее.
– Я скорее себя забуду.
– Чем сегодня займемся?
– Мне надо работать.
Гейл задумчиво разглядывает меня некоторое время, потом ссыпает свои принадлежности в косметичку.
– Ясно, детка. Я тебя не интересую.
– Ну, это не…
– Понятно, ты думаешь, что я старая толстая развалина, которой хочется кусочка чего-то твердого и сочного. Ну, что ж, это правда. Однако я выполню свою долю работы. Позабочусь о тебе, и буду тебе хорошим другом, и присмотрю, чтобы с тобой все было в порядке. Я не приживалка, но я и не шлюха. Я девушка в солидном возрасте, которую просто разнесло. И вот что я скажу тебе, детка. Страсти не уходят так быстро, как красота. Это суровая правда, а ты пока думай, как хочешь. Трудно признать, наверное, но у меня за душой еще кое-что осталось. Я не люблю приходить к столу с пустыми руками.
Она поднимается и берет ключи от машины.
– Подумай о том, что я сказала. Ты знаешь, где меня найти.
Пока она выруливает от моего дома, мне тягостно и стыдно. Я забираюсь в постель, бросаю все и погружаюсь в мечты о Луизе.
Апрель. Май. Я продолжаю изучать раковые заболевания в одной из больниц. В палате неизлечимых меня прозвали «больничным вампиром». Меня это не волнует. Я посещаю пациентов, выслушиваю их истории, нахожу тех, кому удалось вылечиться, сижу у кровати умирающих. Раньше мне казалось, что у всех раковых больных должны быть крепкие любящие семьи. В книгах много говорится о том, как важно, чтобы невзгоды все переносили вместе. Рак – болезнь чуть ли не семейная. А в жизни многие умирают в одиночку.
– И что же вы хотите узнать? – как-то раз не выдержав, спросила меня одна молодая женщина-врач.
– Я хочу понять, на что это похоже. Хочу разобраться, что это такое.
Она пожала плечами.
– Вы попусту теряете время. Часто я думаю, что мы все попусту теряем здесь время.
– Тогда зачем этим заниматься? Почему вот вы этим занимаетесь?
– Как почему? Это ведь вопрос, который волнует любого человека, разве не так?
Она уже собралась отойти, но вдруг встревоженно обернулась ко мне:
– Вы сами не больны раком?
– Нет!
Она успокоенно кивнула.
– Видите ли, многие люди, которым только что поставили диагноз, желают узнать изнутри, как это лечится. Лечащие врачи слишком уклончиво объясняют, а это, особенно для интеллигентных пациентов, не годится. Они тогда начинают сами разузнавать, что к чему.
– И что они узнают?
– Что мы почти ничего не знаем. Мы живем в конце двадцатого века, и что мы имеем? Скальпели, пилы, иглы с нитками да несколько химических препаратов. Вот и все. У меня самой мало времени, чтобы заняться альтернативной медициной, но мне понятно, чем она многих привлекает.
– И у вас нет никакой возможности этим заняться?
– С моими-то сменами по восемь часов?
Она уходит. Я беру свою книгу «Современные методы лечения раковых заболеваний» и отправляюсь домой.
Июнь. Самый сухой июнь на моей памяти. Пора пышного цветения, но растения чахнут из-за недостатка влаги. Бутоны, обещавшие так много, засохли, не распустившись. Раскаленное солнце – фальшивка. Каждое утро вместо того, чтобы нести жизнь, оно несет смерть.
Я иду в церковь. Не потому, что верю в спасение души или ищу утешения в целовании креста, а скорее чтобы утешиться, посмотрев на тех, кто имеет веру. Мне приятно находиться в толпе, где меня никто не знает, и слушать, как они согласно поют гимны. Быть странником у чужих дверей, которому не нужно беспокоиться о том, где взять денег на ремонт крыши или что везти на ярмарку. Раньше каждый верил в бога, и тысячи крошечных церквей были разбросаны тут и там по всей Британии. Мне не хватает воскресного звона колоколов – дикарского телеграфа Господа Бога, что несет благую весть от деревни к деревне. А вести – они действительно благие, коли церковь – центр и стержень уклада. Спокойная доброжелательность англиканской церкви органично вписывалась в течение сельской жизни. Медленная смена времен года и соответствующие ей молитвы в «Книге общественного богослужения». Ритуал и молчание. Грубые камни и грубая почва. Сейчас разве что одна из четырех церквей полностью блюдет календарь и служит чем-то бо́льшим, нежели место для проведения мессы раз в несколько воскресений.
Неподалеку от меня есть рабочая модель церкви, еще не превратившаяся в музей. Перед тем как идти к вечерне, я привожу в порядок обувь. Следовало догадаться, что не все окажется так просто.
Здание тринадцатого века, хотя позже его частично реконструировали георгианцы и викторианцы. Прочные каменные блоки, казалось, были порождением этой земли. Выросли из нее. Цвета и материи сражений, где ненужное отсекли в страстном прорыве к богу, и форма образовалась сама. Массивное строение, темное, как сама земля, вызывающе устремленное ввысь. К архитраву нижнего портала была прикреплена пластмассовая табличка с уведомлением: «Иисус вас любит».
– Все меняется со временем, – успокаиваю себя я, поскольку мне не по себе.
Я вхожу внутрь, ощущая под ногами особый холод каменных плит, то прохладное прикосновение, которого не одолеть ни горящим газовым горелкам, ни верхней одежде. После иссушающей жары летнего дня я воспринимаю это как касание руки Господа. Опускаюсь на темную церковную скамью и оглядываюсь в поисках молитвенника. Его нет. И тут бьют тамбурины. Серьезные тамбурины размерами с большой басовый барабан, украшенные лентами, как майское дерево на сельском празднике, и отделанные шипами, как ошейник бойцовой собаки. Ко мне по центральному проходу приближается какой-то человек и начинает бить в тамбурин прямо у меня над ухом.
– Восхвалим Господа! – кричит он, безуспешно пытаясь справиться с инструментом. – Странник среди нас!
Все, кто там есть, кроме меня, начинают распевать строки из Библии и вопить, не попадая в такт музыке. Величественные трубы запертого органа за ненадобностью покрываются пылью, а у нас зато аккордеон и две гитары. Мне захотелось уйти, но у дверей возвышается здоровенный фермер, чей вид сулит неприятности всякому, кто уйдет до сбора денег.
– Иисус победит тебя! – орет проповедник. (Бог – борец?)
– Иисус тебя одолеет! (Бог – насильник?)
– Иисус идет от силы к большей силе! (Бог – культурист?)
– Объединитесь вокруг Иисуса, и воздастся вам сторицей.
Я не отрицаю многогранность Господа, но мне кажется, если Он существует, то не в виде банковского счета.
У меня был один приятель, Бруно. После сорока лет служения мамоне он обрел Иисуса под шкафом. Если быть точным, то этот гардероб четыре часа подавлял его волю и выжимал из его легких остатки воздуха. Бруно делал в доме уборку, и шкаф свалился на него. В таком двустворчатом гардеробе викторианской поры могло бы разместиться целое семейство бедняков. В итоге его спасла пожарная бригада, но Бруно навсегда уверовал в то, что его вывела из-под шкафа длань Господня. Он притащил меня в церковь и долго описывал, как Иисус вышел из чулана, чтобы спасти его. «Из чулана и прямо в твое сердце!» – исступленно подхватил пастор.
Мне больше никогда не довелось встретиться с Бруно; он подарил мне мотоцикл, в знак отречения от собственности, и пожелал, чтобы этот мотоцикл привел меня к Богу. К сожалению, транспорт закипел и взорвался на окраине Брайтона.
Кто-то вдруг вырывает меня из совершенно безобидной задумчивости, хватает за руки и начинает ими хлопать, как цимбалами. До меня доходит, что от меня ждут участия во всеобщем веселье, и мне следует вместе со всеми хлопать в такт музыке. Тут же вспоминается еще одна любимая бабушкина поговорка: «С волками жить – по-волчьи выть». Я натягиваю на физиономию пластмассовую ухмылку, как подавальщик «Макдоналдса», и стараюсь делать вид, что мне очень весело. Не скажу, чтобы мне было грустно или скучно – скорее попросту никак. Мне понятно, почему они считают, что Иисус заполняет душевный вакуум, как будто душа – термос. Мне, пожалуй, не доводилось никогда ощущать такую пустоту, как сейчас. Бог очень милостив, но ведь и вкус у него должен быть.
Подозрения мои оправдались – фермер, видимо, занимавшийся борьбой сумо, действительно собирал подаяния, и как только он радостно получил от меня гнутые двадцать пенсов, я бегу. Бегу в поля, где козы и овцы щиплют травку так, как они паслись десятки веков. Бегу к озеру, где над водою кормятся стрекозы. Бегу, пока церковь не превращается в тугой узелок на фоне неба. Если нужно молиться, то лучше молиться здесь, стоя на жесткой земле, прижимаясь спиной к сухой каменной кладке. Я молюсь о Луизе ежедневно с декабря. Я не знаю в точности, ни к кому обращены мои молитвы, ни почему я молюсь. Но я очень хочу, чтобы кто-то о ней позаботился. Чтобы кто-то приходил к ней и утешал ее. Был для нее прохладным ветерком и спокойным потоком. Мне хочется, чтобы она была под защитой: если б у меня была уверенность, что это пойдет ей на пользу, я с радостью наварю целые котлы головастиков. Что же до молитвы, то она помогала мне сосредоточиться. Помогала думать о Луизе как об особом человеке, не только как о моей возлюбленной – моей отраде и боли. Помогала забыть о себе, а это – само по себе благодать.
– Это была ошибка, – сказал внутренний голос. Не слабый писк, а мягкий и уверенный голос, который слышался все чаще и все отчетливей. Иногда он слышался так громко, что мне казалось, он уже не внутри меня, а где-то рядом, и меня покидала уверенность в собственном психическом здоровье. Кто обычно слышит голоса? Жанна д'Арк – конечно, но ведь есть всякие святые и чудики, которым хочется изменить мир тамбуринами.
Элгин не отвечал ни на мои бесконечные звонки, как вовремя, так и не вовремя, ни на одно из трех моих писем. Наверное, уехал в Швейцарию, но что, если Луиза уже умирает? Сообщит ли он мне об этом? Позволит ли свидеться с нею перед смертью? Я трясу головой: что за чушь! Это нелепица, Луиза не умирает, она в безопасности в Швейцарии. Одетая в длинную зеленую юбку, стоит у стремительно низвергающегося потока. Водопад течет сквозь ее волосы и грудь, ее юбка прозрачна. Я присматриваюсь: тело тоже прозрачно. Мне видно, как по сосудам течет кровь, как работает ее сердце, как длинные бивни костей поддерживают ее ноги. Кровь чистая и красная, как свежая летняя роза. Как душистый бутон. Нет никакой засухи. Нет никакой боли. Если с Луизой все в порядке, тогда все в порядке и со мной.
Сегодня я нахожу на своей одежде ее волосок: на солнце блеснула золотая нить. Я накручиваю его на палец, а потом меряю его длину. Почти два фута. А вдруг это ниточка, что выведет меня к тебе?
Ни в одной из многочисленных книжек про то, как справляться со скорбью и утратой, нет никаких советов на случай подобных находок – частичек вашей любви. Знающие люди советуют хранить дома только вещи, которые могут навести вас лишь на счастливые и безоблачные воспоминания, а не превращать свой дом в мавзолей. Книги о том, как справляться со смертью близких, интересовали меня отчасти потому, что расставание с Луизой было само по себе подобно смерти. Но кроме того, угроза второй, страшной и невозвратимой потери постоянно витала надо мной, ибо понятно было, что Луиза умрет, и мне нужно к этому подготовиться. И это когда я едва-едва справляюсь с первой. Но справиться я хочу. Хоть моя жизнь и раскололась надвое, я все еще хочу жить. Самоубийство никогда не казалось мне средством против несчастья.
Несколько лет назад одна моя подруга погибла в дорожной аварии. Шестнадцатиколесный многотонный Джаггернаут раздавил ее велосипед.
После ее смерти мне долго не удавалось прийти в себя: все чудилось, что я вижу ее на улице – то она мелькнет где-то впереди, то я вижу ее со спины, но она неумолимо растворяется в толпе. Мне говорили, что так бывает часто. Потом она стала мерещиться мне все реже, и каждый раз на какое-то неуловимое мгновение мне казалось, что она еще жива. Время от времени мне под руку попадались какие-то забытые ею вещи. Самые обычные предметы. Один раз, например, из старой записной книжки выпал листок – совершенно свежий, даже чернила не выцвели. Записка, что она оставила мне на стуле в библиотеке пять лет назад. С приглашением выпить кофе в четыре часа. Я накину пальто, прихвачу горсть мелочи и встречусь с тобой в переполненном кафе. Ведь ты будешь там сегодня? Будешь?
«Ничего, ты это переживешь…» Вот клише, из-за которого я мучаюсь. Потеря любимого изменяет жизнь навсегда. Вы не можете пережить «это», поскольку «это» – любимый вами человек. Боль утихает, вы знакомитесь с новыми людьми, но рана никогда не затягивается до конца. Да и возможно ли это? Ведь индивидуальность того, кого вы так любили, не исчезает с его смертью. Рана в моем сердце вырезана по твоему профилю, и никто иной не втиснется в нее. Да и хочется ли мне этого?
Последнее время я много думаю о смерти, об окончании всего, о споре, оборванном на полуслове. Почему если один умирает, то другой нет? И почему это происходит без предупреждения? Даже смерть после долгой болезни – даже она всегда неожиданна. Момент, к которому вы, казалось бы, долго готовились, штурмом обрушивается на вас. Грабители вламываются в окно, хватают тело – и поминай как звали. В среду ровно год назад ты была со мной, а сейчас тебя нет. Почему? Смерть вызывает у нас недоумение, сродни детскому. Если вчера ты была, то почему сегодня тебя нет? И где ты теперь?
Хрупкие создания голубой планетки, окруженные световыми годами немого пространства. Находит ли умерший покой за пределами этого грохочущего мира? И какое успокоение можем испытать здесь мы, оставшиеся, если мы не в силах вернуть возлюбленных даже на один день? Подняв голову, я гляжу на дверь и думаю, как мне хотелось бы увидеть в проеме тебя. Твой голос раздается в коридоре, но когда я выбегаю, тебя там нет. И я ничего не могу с этим сделать. Последнее слово осталось за тобой.
Трепет в желудке стих, оставив тупую недремлющую боль. Иногда я думаю о тебе, и у меня все начинает кружиться перед глазами. Воспоминания ударяют мне в голову, как шампанское. Я помню все, что было с нами. Если бы кто-нибудь сказал мне, что такова плата за прошлое, у меня не нашлось бы возражений. Странно, что с болью и растерянностью приходит приятие. Оно того стоило. Любовь этого стоит.
Август. Никаких новостей. Впервые с момента нашей разлуки с Луизой я погружаюсь в депрессию. Предыдущие месяцы были наполнены горестным отчаянием. Состояние полубезумное, если считать безумием пребывание на границе реального мира. В августе на меня накатили опустошенность и подавленность. Я немного прихожу в себя, более трезво оцениваю свои действия. Я больше не упиваюсь своим отчаяньем. Тело и душа знают, как спрятаться от того, что невозможно вынести. Как обожженные жертвы достигают предела боли, так и те, кто испытывает душевные муки, находят в отчаяньи ту высоту, с которой им какое-то время лучше видно самих себя. Но для меня это уже позади: моя неистовая энергия истощилась, слезы пересохли. Я засыпаю по вечерам мертвым сном и просыпаюсь, не отдохнув. Когда мое сердце болит, я больше не в силах плакать. Но на мне камнем висит моя ошибка. Луиза обманулась во мне, а сейчас поздно что-либо исправить.
Разве было у меня право решать за нее? Решать, как ей следует жить? Или умереть?
В «Южном комфорте» шел фестиваль кантри-вестерна. Кроме того, на этот месяц пришелся день рождения Гейл Райт. Меня ничуть не удивило, что она оказалась Львом. В ту ночь, о которой я говорю, у нас было жарко и шумно, как в аду. Своим выступлением нас осчастливил Дон по кличке Воющая Конура. Он любил называть себя Воко. Бахромы на полах его куртки хватило бы на большой парик, если бы он в нем нуждался. А он в нем нуждался, но предпочитал думать, что недостаток волос покрывает «невидимый паричок». Штанишки у него были такими узкими, что ширинкой можно было удавить хорька. Когда он не пел в микрофон, то прижимал его к промежности. На заду красовалась надпись: «ВХОДА НЕТ».
– Во задница! – сказала Гейл и сама захохотала удачной шутке. – Не втягивал бы он так пузо, а то мы решим, что у него кишка тонка.
Воко имел большой успех. Женщинам нравилось, как он раздавал им красные бумажные салфеточки с автографами, извлекая их из верхнего кармана куртки, и как он подражал рыку Элвиса. Мужчины, казалось, не возражали против его плоских шуточек, когда он прыгал к ним на колени и жеманно пищал: «Кто здесь самый красивый мальчик?» – а дамы тем временем присасывались к очередному джину с лимоном.
– На следующей неделе устраиваем девичник, – сообщила Гейл. – Со стриптизом.
– Мне казалось, что у нас месячник кантри-вестерна?
– Все верно. Воко придется напялить бандану.
– А как начет банана? А то отсюда хрен что разглядишь.
– Им же не размер важен, а оттянуться хорошенько.
На сцене Воко, зажав в вытянутой руке микрофонную стойку, тянул: «Это пра-авда ты-ы-ы?»
– Лучше приготовиться заранее, – сказала Гейл. – Как только он закончит петь, они повалят за выпивкой быстрей, чем монашки к причастию.
Она смешивала в тазике особый, приуроченный к месячнику коктейль «Долли Партон на льду», а мне следовало расставить в ряд бокалы с маленькими пластиковыми сиськами, которые должны были изображать зонтики.
– Пойдем поедим, как закончишь, – сказала Гейл. – Ничего личного. Я заканчиваю работу в двенадцать и тебя кончу, если захочешь.
Вот как в итоге мы оказались в баре «Волшебный Пит». Передо мной стояла тарелка спагетти-карбонара.
Гейл напилась. Она была пьяна настолько, что когда ее накладные ресницы упали в суп, она на полном серьезе заявила официанту, что в тарелке плавает сороконожка.
– П-послушай, мне надо кое-что тебе сказать, – сообщила Гейл, наклоняясь ко мне над столом – так сторож зоопарка бросал бы рыбку пингвину. – Слышь?
Больше ничего не оставалось. В «Волшебном Пите» было не слишком шикарно, но выпивка там на уровне. Либо слушать ее излияния, либо найти пятьдесят пенсов на музыкальный автомат. Но пятидесяти пенсов у меня не было.
– Т-ты ошибаес-ся!
В мультиках на этом месте пол снизу пробивает пила и прогрызает отверстие вокруг стула Багза Банни. Что она имеет в виду – я ошибаюсь?
– Если ты о нас, Гейл, то…
Но она не дала мне договорить.
– Про т-твою Луизу!
Она с трудом ворочала языком. Голову она поддерживала кулаками, для надежности упираясь локтями в стол. Пытаясь дотянуться до моей руки, она уронила свою в ведерко со льдом.
– Тебе не надо было драпать!
Драпать? Моя героическая роль виделась мне совсем иначе. Разве вся моя жизнь не принесена в жертву Луизе? Разве ее жизнь не куплена ценой моей?
– Она н-не ребенок!
Неправда. Ребенок. Мое дитя. Нежное создание, которое мне хотелось защитить.
– Вместо т-того ч-чтобы спросить, чего она хочет с-сама, ты…
Но мне пришлось ее оставить. Ради меня она могла бы умереть. Разве не лучше было отдать половину жизни ради того, чтобы она жила?
– Ты ш-што молчишь? – спросила Гейл. – Где твой язык?
Язык-то мой на месте. И червяк тоже – червь сомнения. Кем я себя воображаю? Сэром Ланселотом? Луиза стоит любой средневековой мадонны, но какой уж из меня рыцарь. И все же мне отчаянно хотелось не ошибаться.
Мы, шатаясь, вывалились из «Волшебного Пита» и побрели к машине Гейл. Пьяна была только Гейл, но, опираясь на меня, она колыхалась за двоих. Как остатки желе на детском утреннике. Гейл твердо вознамерилась ехать ко мне и остаться у меня, даже если мне придется провести ночь в кресле. Миля за милей она развивала передо мной свою мысль. Жаль, что меня угораздило посвятить ее в подробности наших с Луизой отношений. Теперь ее было не остановить. Она перла, как паровой каток.
– Чего я никогда не одобряла, так это пустого героизма. Многим нравится наворачивать проблемы только для того, чтобы их решать.
– Ты это про меня?
– У т-тебя эт-то просто дурь! Или ты ее п-просто не любишь!
Я так резко дергаю руль, что подарочный блок кассет Тэмми Уайнетт опрокидывается и сносит башку собачке-болванчику. Гейл блюет на свою блузу.
– Вся беда с тобой, лапа, – говорит она, утираясь, – что ты хочешь жить по сюжетам романов.
– Чушь. Я никаких романов не читаю. Разве только русские.
– Еще хуже! Эт-то тебе не «Война и мир», эт-то тебе Йорк-шир!
– Ты пьяна!
– Абс-солютно! Мне пятьдесят три года, и я д-дика, как валлиец с зеленым луком в заднице. Пятьдесят три! Старая развалина Гейл! К-какого черта она сует свой нос в твои дела и срывает с тебя м-муче… муч-ченический венец? Вот что ты думаешь, л-лапа! Конечно, я не похожа на ангела неб-бесного, но не т-только у твоей п-подружки есть кр-рылышки. У м-меня тоже парочка им-меется. – Она похлопала себя под мышками. – Так вот, я тоже малость п-полетала и тоже поднабралась кой-чего! А т-тебе, л-лапа, отдаю задаром! Не беги от женщины, которую любишь! Тем более что ты думаешь – это, мол, для ее блага! – Тут она икнула так сильно, что заляпала свою куртку полупереваренными устрицами. Пришлось отдать ей свой носовой платок. Под конец она сказала:
– Лучше теб-бе ее разыскать!
– Не могу!
– Х-хто сказал?
– Я! Я не могу нарушить слово. Даже если это ошибка, сейчас уже слишком поздно что-либо менять. Ты захотела бы видеть человека, оставившего тебя с тем, кого ты презираешь?
– Д-да! – сказала Гейл и вырубилась.
На следующее утро я сажусь на лондонский поезд. Солнце жарит сквозь вагонное окно, меня размаривает, и я погружаюсь в легкую дремоту: мне слышится голос Луизы – как будто из-под воды. Она под водой. Мы в Оксфорде, и она плавает в реке, а та отливает на ее теле изумрудным, жемчужным. Потом мы лежим на траве – жухлой от солнца, уже почти на сене, сухом на спекшейся глине, и травинки оставляют на нас красные рубцы. А небо над нами – голубое, как голубоглазый мальчишка: ни тени, ни облачка, открытый прямой взгляд, широкая улыбка. Довоенное небо. До Первой мировой бывали такие дни: просторные английские луга, насекомые жужжат, невинное голубое небо. Рабочие на ферме ворошат вилами сено, женщины в фартуках обносят их лимонадом. Летом жарко, зимой падает снег. Хорошая сказочка.
Вот и сейчас я создаю собственные воспоминания о счастливых временах. Когда мы были вместе, погода была лучше, дни – длиннее. Даже дождь был теплым. Разве не так? А помнишь, тогда… Я вижу Луизу: фруктовый сад в Оксфорде, вот так она сидела по-турецки, опираясь на ствол сливы. Сливы над волосами ее – как змеиные головы. Волосы еще не высохли после купания и путаются в ветвях. Зелень листвы на медных волосах – как патина. Моя медноволосая леди. Луиза из тех женщин, чья красота будет видна и под налетом плесени.
В тот день она спросила меня, буду ли я хранить ей верность. У меня вырвалось:
– До самой смерти!
Но так ли это?
Ничто не может помешать слиянью Двух сродных душ. Любовь не есть любовь, Коль поддается чуждому влиянью, Коль от разлуки остывает кровь. Всей жизни цель, любовь повсюду с нами, Ее не сломят бури никогда, Она во тьме, над утлыми судами Горит как путеводная звезда[8]8
У. Шекспир. Сонет 116. Перевод С. Ильина.
[Закрыть].
В юности мне очень нравился этот сонет. Заблудившийся утлый челн виделся мне потерявшимся щенком, почти как в «Портрете художника в собачьей юности» Дилана Томаса.
Я – утлый челн, плывущий неведомо куда, но считаю себя достаточно надежной опорой для Луизы. А потом я швыряю ее за борт.
– Ты любишь меня?
– Всем сердцем!
Я притягиваю ее ладошку к своей груди под майкой, чтобы она почувствовала, как оно бьется. Она покручивает пальцами мне сосок.
– А как насчет тела?
– Мне больно, Луиза.
Страсть плохо сочетается с вежливостью. В ответ Луиза больно щиплет меня за грудь. Да, знаю, ей хотелось бы привязать меня к себе прочными веревками, замотать нас в один узел так, чтобы мы лежали лицом к лицу, шевелясь лишь вместе, не ощущали бы ничего, кроме единения наших тел. Она лишила бы нас всех чувств, кроме осязания и обоняния. В этом слепом, глухом, недвижимом мире мы могли бы предаваться своей страсти вечно. Конец означал бы новое начало. Только она, только я. Да, знаю, она была ревнива – но и я тоже. В любви она была груба – но и я тоже. У нас хватило бы терпения пересчитать волосы на головах друг у друга, но никогда не хватало терпения раздеться. Никто из нас не был лучше другого, но раны у нас были одинаковые. Она была моей половинкой – и она потерялась. Считается, что кожа имеет водоотталкивающие свойства, но моя кожа не отталкивала Луизу. Она затопила меня, и вода так и не сошла. А я до сих пор бреду по ее водам, они плещутся в мою дверь и угрожают моему душевному покою. У моих ворот нет гондолы, а вода поднимается все выше. Плыви по ней, не бойся. Но я боюсь.
Может, такова ее месть?
– Я тебя никогда не отпущу!
Сперва я еду к себе на квартиру. Я не рассчитываю найти там Луизу, однако нахожу ее следы: одежду, книги, кофе, который она любила. Принюхавшись к зернам, понимаю, что ее здесь нет уже давно. Кофе выдохся, а Луиза никогда бы такого не допустила. Я беру ее свитер и зарываюсь лицом в пушистую шерсть. Очень слабо – аромат ее духов.
Странно – попав домой, я чувствую непонятное возбуждение. Почему люди так противоречивы? Здесь место горя, место нашего расставания, уныния и скорби, но с первыми лучами солнца, заглянувшего в окно и осветившего сад с цветущими розами, меня вновь наполняет надежда. Счастливы мы здесь тоже были. Наверное, что-то от прежнего счастья осталось, впиталось в стены, запечатлелось на мебели.
Я решаю протереть пыль. Я давно знаю, что тупая физическая работа успокаивающе действует на мышиную возню в мозгах. Мне нужно успокоиться, перестать нервничать, на свежую голову составить план действий. Да, нужно успокоиться, но спокойствие всегда давалось мне с трудом.
Я нечаянно смахиваю щеткой последний выпуск «Мисс Хэвишем» и обнаруживаю под ним письма, которые Луиза получила из больницы, куда она обращалась за дополнительной консультацией. Смысл ответов сводился к тому, что результаты анализов асимптоматичны и лечение пока не требуется. Имеется некоторое увеличение лимфатических узлов, но оно остается без изменений на протяжении полугода. Консультант рекомендовал ей вести нормальную жизнь и регулярно проходить обследование. Судя по датам, эти три письма были отправлены уже после моего отъезда. Там же оказалось впечатляющее послание от Элгина, где он напоминал Луизе, что занимается ее случаем уже два года и что, по его скромному мнению («Хочу напомнить тебе, Луиза, что из нас двоих не мистер Рэнд, а я имею лучшую квалификацию и лучше разбираюсь в труднодиагностируемых случаях»), Луиза нуждается в лечении. На письме стоял адрес швейцарской клиники.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































