Текст книги "Распутин. Воспоминания дипломатов"
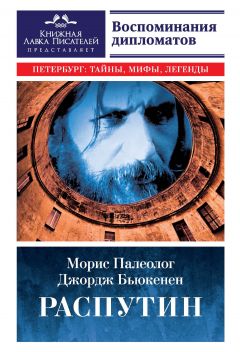
Автор книги: Джордж Бьюкенен
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Сядем, – говорит она грустно. – Все, что Сазонов мне только что рассказывал, ужасно; царица помешалась, царь ослеплен, ни один, ни другая не видят, не хотят видеть, куда их ведут.
– Неужели нет никакой возможности раскрыть им глаза?
– Никакой.
– А вдовствующая императрица?
– Я недавно провела два часа с Марией Федоровной. Мы могли только излить друг перед другом свои жалобы.
– Почему она не поговорит с царем?
– У нее для этого достаточно и мужества, и желания. Но лучше ей воздержаться от этого. Она слишком откровенна, слишком вспыльчива. Лишь только начнет журить сына, она раздражается; она говорит ему иногда противоположное тому, что ему следовало бы сказать; она его оскорбляет. Тогда он становится на дыбы, напоминает своей матери, что он царь. Они расстаются в ссоре.
– Итак, Распутин все еще в славе.
– Более, чем когда-либо.
– Думаете ли вы, ваше высочество, что Союз в опасности?
– О, нет. Царь останется верен Союзу, ручаюсь вам в этом; но я боюсь, что мы идем к крупным внутренним потрясениям. И, конечно, это отразится на нашей военной промышленности.
– Что равносильно тому, что Россия, не отказываясь прямо от своей подписи, не выполнит всех своих обязанностей союзницы. В таком случае, какую пользу может она надеяться извлечь от результатов военных операций? Если русские войска не будут напрягать своих усилий до конца с величайшей энергией, огромные жертвы, которые вот уже двадцать месяцев приносит русский народ, окажутся совершенно напрасными. Россия не только не получит Константинополя, но потеряет Польшу и, может быть, еще другие территории.
– Это мне только что говорил Сазонов.
– В каком настроении нашли вы его?
– Я нашла его печальным, озабоченным, очень раздраженным противодействием, которое он встречает со стороны некоторых из своих коллег. Но, слава Богу, он не обнаружил никакого уныния. Он, наоборот, полон одушевления и решительности.
– Это благородная душа и полный достоинства характер.
– Зато я могу вас уверить, что он очень дружественно относится к Бьюкенену и к вам. Он так свыкся с вами обоими… Но уже становится поздно, мой дорогой посол, надо мне проститься с вами и с вашими гостями.
Когда она простилась со всеми, я предложил ей руку, чтобы проводить ее до вестибюля. Спускаясь по лестнице, она замедлила шаг, чтобы сказать мне:
– Мы, очевидно, вступаем в период тяжелый, даже опасный, приближение которого я давно чувствовала. Мое влияние невелико и, по многим мотивам, мне приходится соблюдать полную осторожность. Но я вижусь со многими лицами, которые имеют, и с кое-какими другими, которые иногда имеют возможность, заставить себя выслушать. В этих пределах я буду помогать вам всем своим влиянием. Рассчитывайте на меня.
– Я глубоко признателен.
Четверг, 24 февраля 1916 г.
Сегодня вечером у меня обедала княгиня П., я пригласил, кроме того, моего итальянского коллегу, маркиза Карлотти и еще человек двадцать, в том числе генерала Николая Врангеля, адъютанта в. к. Михаила.
Открытие Думы служит главным сюжетом разговоров. Княгиня П. громко одобряет присутствие царя на церемонии:
– Я не удивлю вас, – прибавляет она, – что этот либеральный жест пришелся очень не по вкусу царице, которая до сих пор не может успокоиться.
– А Распутин?
– Божий человек изливается в жалобах и дурных предзнаменованиях.
Генерал Врангель, тонкий скептик, придает посредственное значение манифестации царя.
– Поверьте мне, говорит он, для е. в. императора самодержавие всегда останется незыблемой догмой.
Суббота, 26 февраля 1916 г.
Недавнее назначение преосвященного Питирима митрополитом Петроградским сделало Распутина полным хозяином Церкви.
Так, Св. Синод вынужден был капитулировать, торжественно утвердив канонизацию «раба божьего» Иоанна Тобольского. Друг Распутина, цинический епископ Варнава, не рассчитывал на такую скорую блестящую победу. В довершение всего он будет возведен в сан архиепископа.
Четверг, 23 марта 1916 г.
Обед в посольстве; я пригласил человек двадцать русских, в том числе Шебеко, бывшего послом в Вене в 1914 г., затем несколько поляков, в том числе графа Потоцкого с супругой, князя Станислава Радзивилла, графа Владислава Велепольского, наконец, несколько приезжих англичан.
После обеда я веду сепаративную беседу с Потоцким и Велепольским. Оба, намекая на сведения, полученные ими из Берлина через Швецию, говорят одно и то же: Франция и Англия, может быть, победят со временем. Но Россия уже проиграла войну; во всяком случае, она никогда не получит Константинополя и за счет Польши помирится с Германией: орудием этого примирения будет Штюрмер. Затем одна из приглашенных русских, княгиня В., благородное сердце, живой и развитой ум, знаком приглашает меня сесть возле нее.
– В первый раз вы видите меня совершенно обескураженной, – вздыхает она. – Бодрость меня не покидала до последнего времени. Но с тех пор, как этот ужасный Штюрмер стоит у власти, у меня нет больше надежды…
Я утешаю ее лишь наполовину для того, чтобы заставить вполне высказаться; я настаиваю, однако, на гарантии, которую представляет патриотизм Сазонова, в энергичном продолжении войны.
– Да… Но как долго останется он еще у власти? Что готовится без его ведома? Вам небезызвестно, что царица его терпеть не может, потому что он никогда не хотел склониться перед подлым негодяем, который позорит Россию. Я вам не называю его, этого бандита, я не могу произнести его имени без того, чтобы не плюнуть…
– Что вы беспокоитесь, огорчены, это я понимаю. До известной степени я разделяю вашу тревогу. Но опускать руки, о, нет… Чем тяжелее времена, тем более должны мы проявлять твердости. А вы должны проявить твердость более, чем кто-либо, потому что вы пользуетесь репутацией женщины мужественной и ваше мужество поддерживает многих других.
Она минуту молчит, как будто прислушивается к внутреннему голосу. Затем она продолжает с серьезной и грустной покорностью.
– То, что я вам сейчас скажу, покажется вам педантичным, несуразным. Тем хуже… Но я очень верю в рок, верю в него, как верили древние писатели – Софокл, Эврипид, которые были убеждены, что боги Олимпа сами подчинены Судьбе.
– Me quoque fata regunt… вы видите, что из нас двоих педант – это я, потому что я цитирую вам латынь…
– Что значит ваша цитата?
– Это слова, которые поэт Овидий вкладывает в уста Юпитера и которые значат: «Я тоже подчиняюсь Судьбе».
– Ну что же. Со времен Юпитера положение не изменилось. Судьба все правит миром и само Провидение покорно Року. То, что я говорю вам, не очень в духе православия и я не повторила бы этого перед Синодом. Но меня не оставляет мысль, что рок приближает Россию к катастрофе. Я страдаю от этой мысли, как от кошмара.
– Что вы понимаете под роком?
– О! Я никогда не в состоянии буду объяснить вам этого. Я не философ. Каждый раз, когда я открываю книгу по философии, я засыпаю. Но очень хорошо чувствую, что такое рок. Помогите мне выразить это.
– Ну, это сила вещей, закон необходимости, естественный порядок вселенной… Эти определения вас не удовлетворяют?
– Нет, совсем не удовлетворяют. Если бы рок был только этим, он не пугал бы меня. Потому что в конце концов, хотя Россия очень большая империя, но я не думаю, чтоб ее победа или поражение могли очень интересовать естественный порядок вселенной…
– Посмотрите, – продолжает она, – посмотрите на царя. Разве он не явно предназначен судьбой погубить Россию? Не поражает ли вас его неудачливость? Можно ли накопить в одном царствовании столько разочарований, неудач, несчастий? Все, что он ни предпринимал, его самые здоровые идеи, самые благоразумные намерения, все потерпело неудачу или даже обратилось против него. Логически, каков должен быть его конец? А царица? Знаете ли в античной трагедии более жалкое создание? А гнусный негодяй, которого я не хочу называть? Он тоже достаточно отмечен Роком… Как объясните вы, что в такой исторический момент эти три существа держат в своих руках участь обширнейшей в мире империи? Вы не видите в этом действия фатума? Ну, будьте же откровенны.
– Вы очень красноречивы, но вы меня отнюдь не убеждаете. Фатум для слабых душ служит лишь предлогом, чтоб покориться… Так как я был с самого начала педантичен, то я им останусь до конца; я сейчас опять приведу вам латинскую цитату. Есть у Лукреция изумительное определение воли: fatis avlesa potestas, что можно перевести: «сила, вырванная у рока». Самый пессимистический из поэтов признавал, что можно бороться против рока.
После паузы княгиня В. продолжает с печальной улыбкой.
– Вы счастливы, что вы можете так думать. Видно сразу, что вы не русский. Я, однако, обещаю вам подумать о ваших словах. Но, ради Бога, мой дорогой посол, забудьте все, что я вам сказала. И, в особенности, никому этого не расказывайте, потому что мне стыдно, что я так разоткровенничалась перед иностранцем.
– Перед союзником.
– Да, перед другом. Все же перед иностранцем. Так я рассчитываю на вашу скромность: вы сохраните про себя мои жалобы, неправда ли? А теперь присоединимся к остальным гостям.
Среда, 29 марта 1916 г.
Был у меня сегодня в посольстве бывший Председатель Совета Министров Коковцев, в котором очень ценю его дальновидный патриотизм и серьезный ум; он, как всегда, очень пессимистически настроен: у меня даже впечатление, что он сдерживался, чтобы не обнаружить передо мной всего своего отчаяния.
Я замечаю, что он в своем общем диагнозе внутреннего состояния России придает большое значение демократизации русского духовенства. С грустью, от которой дрожит его серьезный голос, он в заключение говорит мне:
– Религиозные силы страны недолго выдержат отвратительное испытание, которому их подвергают. Епископат и высшие духовные должности в настоящее время почти совершенно подчинены клике Распутина. Это какая-то гнусная болезнь, какая-то гангрена, которая скоро разрушит все высшие органы Церкви. Когда я думаю о позорной торговле, которая происходит в известные дни в канцелярии Синода, я плачу от стыда. Но для религиозного будущего России, и я говорю о близком будущем, есть другая опасность, которая представляется не менее страшной: это успех революционных идей в низшем духовенстве, в особенности, между молодыми священниками. Вам небезызвестно, как плачевно положение наших попов в материальном и моральном отношении. Священник в сельских приходах живет почти всегда в крайней нужде, которая слишком часто заставляет его забывать всякое достоинство, всякий стыд, всякое уважение к своему одеянию и функции. Крестьяне презирают его за лень и пьянство: кроме того, они беспрерывно ругаются с ним из-за цены треб и таинств; и они не стесняются при случае ругнуть его или даже поколотить. Вы себе не представляете, сколько обиды и злобы накопляется иногда в душе священника. Наши социалисты очень ловко использовали это жалкое положение низшего духовенства. Вот уже лет двадцать как они ведут деятельную пропаганду среди деревенских священников, в особенности среди молодых. Они завербовывают таким образом не только солдат для армии анархии, но и апостолов и вождей, которые, естественно, оказывают влияние на наши невежественные, мистически настроенные массы. Вы припоминаете гибельную роль, которую играл поп Гапон в беспорядках 1905 г.: он распространял вокруг себя своего рода магнетизм… Человек, хорошо осведомленный, на днях уверял меня, что революционная пропаганда проникла теперь в духовные семинарии. Вы знаете, что семинаристы все сыновья священников: большинство их лишены всяких средств; воспоминания, вынесенные из деревни, делают многих из них, по выражению Достоевского, «униженными и оскорбленными»: так что их мозг слишком расположен к восприятиям семян социалистического евангелия. И в довершение совращения их с пути, их еще возбуждают против церковной иерархии, рассказывая о скандалах Распутина.
Вторник, 25 апреля 1916 г.
Сегодня днем я пил чай у княгини Л., очень приятной седой старой дамы, с лицом, сохранившим тонкость черт, и всегда живой речью, обнаруживающей в очаровательной форме широкий кругозор, богатое сердце, снисходительную рассудительность существа, много любившего. Я застаю ее вдвоем с верной подругой, графиней Ф., муж которой занимает одну из высших должностей при Дворе.
Мой приход внезапно прерывает их диалог, должно быть, о предмете неприятном: у обоих вид удрученный. Графиня Ф. почти сейчас же уходит.
Беседа продолжается между княгиней и мной, и, мне кажется, я замечаю в глубине ее глаз присутствие скорбной, неотвязной мысли, которая меня интригует.
Тогда, вспомнив, что граф Ф. стоит в повседневной жизни очень близко к царю и царице и что он не имеет тайн от своей жены, я задаю своей собеседнице коварный вопрос.
– Как поживает государь? Давно уже я не имел о нем известий.
– Государь все еще в Ставке, и я думаю, он никогда не чувствовал себя так хорошо.
– Он, значит, не приезжал в Царское Село на Пасху?
– Нет. Он даже впервые не был у пасхальной службы с царицей и детьми. Но он не мог уехать из Могилева: говорят, наши войска скоро перейдут в наступление.
– А что поделывает императрица?
На этот простой вопрос княгиня отвечает взглядом и жестом, полным отчаяния. Я умоляю ее объясниться. Она, наконец, говорит мне:
– Представьте себе, что в прошлый четверг, когда царица причащалась в Федоровском Соборе, она пожелала, она приказала, чтобы Распутин причастился вместе с нею. Об этом и говорила со мной минуту тому назад мой старый друг, графиня Ф. Не плачевно ли это? Вы видите, я все еще не могу успокоиться.
– Да, это прискорбно. Но, в сущности, императрица вполне последовательна. Ведь она верит в Распутина, видит в нем праведника, святого, преследуемого клеветой фарисеев, как преследовали они страдальца Голгофы; так как он является для нее духовным руководителем и покровителем, ее заступником перед Христом, ее свидетелем и ходатаем перед Богом, не естественно ли, что она хочет чувствовать его рядом с собой при совершении важнейшего акта ее религиозной жизни… Признаюсь, эта бедная заблудшая душа внушает мне глубокую жалость.
– О, да, пожалейте ее, господин посол, и нас тоже. Потому что, в конце концов, какое это готовит нам будущее.
Среда, 26 апреля 1916 г.
«Ничего». Это слово, несомненно, чаще всего можно услышать от русских. Каждую минуту, по всякому поводу, вы слышите, как они произносят его с жестом беспечности и покорности: «Ничего», «Это ничего не значит».
Выражение это так употребительно, так распространено, что его приходится признать чертой национального характера.
Всегда были эпикурейцы и скептики, проповедывавшие тщетность человеческих усилий, утешавшиеся мыслью о всеобщей иллюзии. Идет ли речь о могуществе, о сладострастии, о богатстве, о наслаждении. Лукреций никогда не пропускает случая вставить «тщетно».
Совсем другое значение русского «ничего». Эта общая манера обесценения предмета желания или утверждения наперед суетности предприятия служит обыкновенно лишь предлогом перед самим собой к тому, чтоб не упорствовать в усилии.
Вот несколько дополнительных подробностей из непосредственного и секретного источника о совместном причащении Распутина и царицы.
Обедню служил отец Васильев в таинственном и сиящем золотом Федоровском Соборе – этой небольшой церкви архаической формы, стройный купол которой так своеобразно обрисовывается на фоне деревьев императорского парка, как пережиток или призрак московской старины. Царица присутствовала со своими тремя старшими дочерьми; Григорий стоял за ней вместе с г-жой Вырубовой и г-жой Турович. Когда Александра Федоровна приблизилась к иконостасу, чтобы получить причастие, она мигнула «старцу», который, подойдя вслед за ней, причастился непосредственно после нее. Затем, перед алтарем, они обменялись лобызанием мира, причем Распутин поцеловал царицу в лоб, а она у него – руку.
В предшествовавшие этому дни «старец» проводил долгие часы в молитве в Казанском соборе, где он в среду вечером исповедался у отца Николая. Его горячие поклонницы Г. и г-жа Т., которые почти не покидали его, были поражены его грустным видом.
Распутин уехал в Страстную Пятницу вечером в свое село Покровское, возле Тобольска, куда отправились вслед за ним г-жа Т. и Г.
Пятница, 26 мая 1916 г.
Итог моего дня.
Утром П. принес мне тревожные известия о революционной пропаганде на заводах и в казармах.
В пять часов графиня Н., которая, хотя и не принадлежит к партии императрицы, близко знакома с г-жой Вырубовой, рассказывает мне, как Распутин на этих днях доказывал царице, «что должны беспрекословно повиноваться божьему человеку»; затем он сообщил ей, что после Пасхи, со времени своего последнего причастия, он чувствует в себе новые силы против своих врагов и считает себя более, чем когда либо, защитником, посланным Провидением царской фамилии и святой Руси. Тогда Александра Федоровна припала к его ногам со слезами восхищения, моля его о благословении.
Сегодня вечером в клубе я подслушал следующий разговор: «Если не распустят Думу, мы погибли». Далее следовала длинная тирада, устанавливавшая необходимость вернуть немедленно царизм к чистым традициям московского православия.
В заключение я повторяю себе афоризм, произнесенный г-жой де Тансен о французской монархии в 1740 г.: «Если только Бог сам не приложит руку, физически невозможно, чтобы государство не рухнуло».
Но я думаю, что не пройдет ни сорока лет, ни даже сорока месяцев, как рухнет русское государство.
Вторник, 30 мая 1916 г.
Графиня Н., подруга г-жи Вырубовой, таинственно пригласила меня на чашку чая. Взяв с меня обещание сохранить тайну, она мне сказала:
– Я думаю, что Сазонову будет дана отставка и я хотела сей час же вас предупредить. И. в. относятся к нему весьма неблагосклонно. Штюрмер ведет против него, за кулисами, очень активную кампанию.
– Но что же он ставит ему в вину?
– Он ставит ему в вину его либеральные идеи и его осторожное отношение к Думе. Он ему ставит также в вину – но вы мне обещали сохранить тайну, – что он слишком подчиняется вашему влиянию и влиянию Бьюкенена… Вы знаете, что царица, к несчастью, терпеть не может Сазонова; она не может ему простить его отношения к Распутину, которого он называет Антихристом, между тем как Распутин, напротив, утверждает, что Сазонов отмечен печатью Диавола.
– Но Сазонов – воплощенное благочестие… А царь что говорит?
– В данный момент он в полном подчинении у императрицы.
– Вы узнали об этом от г-жи Вырубовой?
– Да, у Анни… Но, ради Бога, ничего никому не говорите.
Среда, 31 мая 1916 г.
После воцарения Штюрмера авторитет Распутина сильно возрос. Мужик чудотворец все больше превращается в политического авантюриста и мошенника. Шайка банкиров и скомпрометированных спекулянтов, Рубинштейн, Манус и пр., снюхались с ним и щедро заплатили ему. По их указаниям он посылает записки министрам, банкам, всем влиятельным лицам. Я видел несколько таких записок, написанных безобразным почерком и в грубо повелительном стиле. Никто никогда не осмеливается уклониться от его просьб. Назначения, повышения, отсрочки, помилования, освобождения, субсидии – ему не отказывают ни в чем. Когда дело более важное, он подает записку непосредственно царице:
– Вот возьми. Сделай это для меня.
И она тотчас отдает распоряжение, не подозревая, что работает для Мануса и Рубинштейна, которые, со своей стороны, работают явно для Германии.
Вторник, 18 июня 1916 г.
Из интимного и надежного источника.
«Царица переживает дурную полосу. Чрезмерные молитвы, посты, аскетические испытания, беспокойство, бессонница. Она все больше увлекается и проникается идеей, что ей выпала миссия спасти православную Русь, и что ей для успеха в этом необходимы указания и покровительство Распутина. По всякому поводу она посылает к «старцу» просить совета, ободрения, благословения.
Сношения царицы и Гришки остаются тем не менее очень секретными. Ни одна газета никогда на это не намекает. И светские люди говорят об этом только шопотом, между близкими, как об унизительном секрете, о котором лучше не распространяться; не стесняются впрочем, выдумывать тысячи фантастических подробностей.
В принципе Распутин довольно редко переступает ограду царской резиденции. Его встречи с царицей происходят почти всегда у г-жи Вырубовой, в небольшом особняке на Средней; он остается здесь иногда часами, один с обеими женщинами, между тем как полицейские генерала Спиридонова охраняют дом и никого туда не пропускают.
Обычно, беспрерывные сношения Дворца со «старцем» и его кликой происходят через полковников Лемана и Мальцева.
Полковник Леман, помощник коменданта императорских дворцов, Федоровского Собора, состоит личным секретарем Александры Федоровны и пользуется ее полным доверием; он взял себе в помощники для ежедневных сношений с Распутиным артиллерийского полковника Мальцева, которому с другой стороны вверена воздушная защита Царского Села.
Для интимных поручений императрица пользуется молодой черницей, прикомандированной к дворцовому военному госпиталю, сестрой Акилиной».
Четверг, 20 июня 1916 г.
Придя сегодня утром к Нератову я и Бьюкенен поражены его серьезным видом. Он говорит нам:
– Я имею серьезные причины думать, что мы скоро потеряем Сазонова.
– Что случилось?
– Вы знаете, что против Сазонова давно ведется война. Его успех последних дней по вопросу о Польше был использован против него. Лицо, очень близкое к нему и внушающее мне всяческое доверие, уверяет меня, что царь освободит его от его обязанностей.
Со стороны столь сдержанного и осторожного человека, как Нератов, такие слова не оставляют никакого места сомнению.
Бьюкенену и мне не нужно совещаться, чтобы измерить все последствия того, что готовится.
Бьюкенен спрашивает:
– Каково ваше впечатление: Палеолог и я, мы могли бы еще воздействовать, чтобы помешать опале Сазонова?
– Может быть.
– Но что делать?
Чтоб уяснить себе положение, я прошу Нератова точнее сообщить нам те сведения, которые так основательно вызвали его беспокойство.
– Лицо, от которого я получил эти сведения, – сказал он нам, – видело проект письма, которое царь велел приготовить и которое, хотя составлено в дружеских выражениях, просто освобождает Сазонова от исполнения его обязанностей ввиду состояния его здоровья.
Я ухватываюсь за эти последние слова, которые, как мне кажется, дают послам Франции и Англии законный повод к вмешательству. Затем, присев на несколько минут к столу Нератова, я составляю телеграмму, с которой Бьюкенен и я одновременно обращаемся к начальникам наших военных миссий в Могилев, предлагая им показать ее министру Двора. Вот эта телеграмма: «Мне сообщают, что здоровье г. Сазонова заставило его просить у е. в. отставки. Благоволите проверить весьма оффициозно эту новость у министра Двора.
Если это так, соблаговолите спешно представить графу Фредериксу, что ободрительное слово е. в. без сомнения заставит г. Сазонова сделать новое усилие, которое позволило бы ему довести до конца его задание.
В самом деле, мой английский коллега и я, мы не можем не быть взволнованными при мысли о комментариях, которые не преминет вызвать в Германии отставка русского министра иностранных дел, ибо утомления, от которого он страдает в настоящее время, конечно, недостаточно было бы для того, чтобы объяснить его отставку.
В этот решительный момент войны все, что рискует показаться переменой в политике Союзников, могло бы иметь самые печальные последствия».
Нератов вполне одобряет эту телеграмму. Мы, Бьюкенен и я, возвращаемся в свои посольства, чтоб отправить ее в Могилев.
Днем я получил из хорошего источника кое-какие сведения об интриге, которая велась против Сазонова. Моя осведомительница не знает еще, как далеко зашла интрига, и я остерегаюсь сообщить ей об этом; она мне говорит:
– Положение Сазонова очень скомпрометировано. Он потерял доверие их величеств.
– Но что же ему ставят в вину?
– Ему ставят в вину, что он не ладит со Штюрмером и, наоборот, слишком ладит с Думой… И потом Распутин его терпеть не может, а этого достаточно.
– Так царица действует заодно со Штюрмером?
– Да, вполне… Штюрмер человек ловкий, успел убедить ее, что только она одна может спасти Россию. Она как раз в данный момент спасает ее, ибо она вчера вечером неожиданно выехала в Могилев.
Воскресенье, 23 июня 1916 г.
Сегодня утром газеты оффициально сообщают об отставке Сазонова[3]3
См. рескрипт царя Сазонову, подписан 7 июля 1916 г. в Главной Квартире Правительства.
[Закрыть] и назначении на его место Штюрмера. Никаких комментариев. Но первое впечатление, о котором мне сообщают, – изумление и возмущение.
Вечером я обедаю в Царском Селе у в. к. Марии Павловны, с княгиней Палей, г-жой Еленой Нарышкиной и дежурными из свиты.
После обеда в. к. уводит меня в глубь сада, усаживает меня подле себя и мы беседуем.
– Я не могу вам выразить, как я удручена настоящим и беспокоюсь за будущее… По вашему, как произошло все? Я, со своей стороны, сообщу вам то немногое, что я знаю.
Мы делимся друг с другом своими сведениями. Вот наши заключения:
Между царем и Сазоновым было полное единство по вопросам внешней политики. Они согласны были также в вопросе о Польше, потому что царь одобрил все идеи своего министра, даже поручил ему приготовить манифест к польскому народу. По другим вопросам внутренней политики либеральные тенденции Сазонова не имели в данный момент случая проявиться, к тому же он мог их представить лишь, как свое мнение, и они были из самых умеренных. Наконец, он был в наилучших отношениях с генералом Алексеевым. Таким образом, его явная опала не может быть объяснена никаким благовидным мотивом. Объяснение, которое, к несчастью, напрашивается, состоит в том, что камарилья, орудием которой является Штюрмер, вздумала наложить руку на министерство иностранных дел. Вот уж несколько недель, как Распутин повторяет: «Надоел мне Сазонов. Надоел». Побуждаемый царицей, Штюрмер отправился в Главную Квартиру просить отставки Сазонова. На помощь ему приехала потом царица. Царь уступил. В. к. в заключение спрашивает меня:
– Так, не правда ли, ваше впечатление плохое?
– Да, очень плохое… Французская монархия тоже видела, как отставляли превосходных министров под влиянием придворной камарильи; эти министры назывались Шуаэель и Неккер, и вы знаете, что за тем последовало. На Волыни, при слиянии Липы со Стырью армия генерала Сахарова обратила в бегство австро-германцев и захватила 12 000 пленных.
Четверг, 3 августа 1916 г.
Сазонов, вернувшийся из Финляндии, вчера простился со своим персоналом в министерстве иностранных дел и пришел повидаться со мной.
Продолжительная, задушевная беседа. Я нахожу его таким, каким я уверен был найти его: спокойным, полным достоинства, без малейшей горечи, счастливым лично за себя своей вновь обретенной независимостью, огорченным и встревоженным за будущее России.
Он подтверждает мне все, что я узнал об обстоятельствах его опалы:
– Вот уж год, – говорит он мне, – императрица относится ко мне враждебно. Она никак не могла мне простить, что я умолял императора не брать на себя командования войсками. Она так настаивала на моей отставке, что император, наконец, уступил. Так легко было подготовить мою отставку под предлогом состояния моего здоровья… Я так лойяльно пошел бы этому навстречу. Затем, наконец, император оказал мне такой полный доверия, торжественный прием в последний раз, когда я его видел.
Затем, тоном глубокой грусти, он резюмирует, так сказать, то, что с ним произошло, такими словами:
– Император царствует, но управляет императрица… Под указку Распутина.
Вторник, 29 августа, 1916 г.
Так как бывший Председатель Совета Министров Коковцев находится проездом в Петрограде, я пошел сегодня днем с ним повидаться.
Я нашел его более чем когда-либо пессимистом. Отставка Сазонова и генерала Беляева в высокой степени его беспокоит:
– Теперь, – говорит он мне, – царица всемогуща. Штюрмер, человек бездарный и тщеславный, но не лишенный лукавства и даже тонкости, когда дело касается его личных интересов, прекрасно сумел овладеть императрицей. Он регулярно является к ней с докладом, он обо всем информирует ее, обо всем советуется с ней, обращается с ней, как с правительницей; поддерживает в ней идею, что император, получив власть от Бога, ответствен пред одним только Богом, и кто позволяет себе перечить царской воле, совершает святотатство. Вы представляете себе, как действует подобный язык на мозг мистически настроенной женщины… Таким образом Хвостова, Кривошеина, генерала Поливанова, Самарина, Сазонова, генерала Беляева и меня считают теперь революционерами, предателями, нечестивцами.
– И вы не видите никакого выхода из этого положения?
– Никакого… Это положение трагическое.
– Трагическое… Это слишком сильное слово.
– Нет, поверьте мне! Это положение трагическое! Лично я поздравляю себя с тем, что я больше не министр, не несу никакой ответственности за катастрофу, которая готовится. Но, как гражданин, я плачу о своей стране.
Глаза его наполняются слезами. Чтобы овладеть собой, он раза два или три пересекает свой кабинет в длину. Потом он говорит со мной о царе без горечи, без упреков, но с глубокой грустью:
– Царь рассудителен, умерен, трудолюбив. Его идеи чаще всего здравые идеи. У него возвышенное представление о своей роли и полное сознание своего долга. Но ему недостает образования, и величие проблем, которые он призван решать, слишком часто вы ходит за пределы его ума. Он не знает ни людей, ни дел, ни жизни. Его недоверие к себе самому и к другим заставляет его остерегаться всех, кто выше его. Поэтому он терпит возле себя одни ничтожества. Наконец, он очень благочестив, узким и суеверным благочестием, которое заставляет его ревниво охранять верховную власть, потому что она дана ему Богом.
Мы опять возвращаемся к императрице:
– Я протестую, – говорит он, – изо всех моих сил против гнусных слухов, которые распространяют о ней по поводу Распутина. Это очень благородная и очень чистая женщина. Но это больная, страдающая неврозом, галлюцинациями, которая кончит мистическим бредом и меланхолией… Я никогда не забуду странных слов, которые она сказала мне в сентябре 1911 г., когда я заменил на посту председателя Совета Министров Столыпина. Когда я стал говорить о трудности моей задачи и сослался на пример моего предшественника, она резко остановила меня: «Владимир Николаевич, не говорите мне больше об этом человеке! Он умер, потому что Провидение судило так, что он исчезнет в этот день. О нем, значит, кончено; никогда больше не говорите о нем». Она, кстати, отказалась пойти помолиться у его гроба, и император не изволил присутствовать на похоронах, потому что Столыпин, как ни был предан царю и царице, предан до смерти, осмелился им сказать, что социальный строй нуждался в некоторой реформе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































