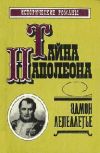Текст книги "Последний полет орла"
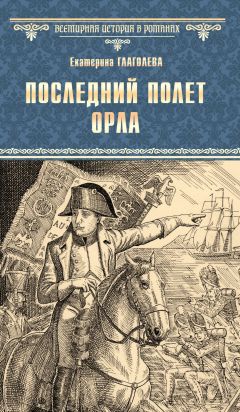
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Глава одиннадцатая. Вера без дел мертва
Во всех церквях звонили колокола – было утро воскресенья. Людская река выплеснулась с улицы Сент-Антуан и потекла по набережным; маршрут был заранее утвержден префектом полиции, поэтому там перекрыли движение и перенесли стоянки фиакров в другие места. Впереди шел оркестр Национальной гвардии, исполняя военные марши, благодаря чему толпа невольно шагала в ногу. Констан подумал, что как минимум два из этих маршей – арии из опер Андре Гретри, весьма популярных при «старом режиме», но вряд ли кто-нибудь из патриотов об этом знает. Шум приближался, ширился, густел, толпа уже заполонила площадь Карусели. Государственный советник Бенжамен Констан смотрел из окна дворца на народ, которому он хотел даровать свободу.
Во время самого первого разговора в Тюильри, месяц тому назад, Наполеон не пытался скрыть от Констана ни положение дел, ни своих намерений. Он ровным тоном перечислил то, что возможно сделать сейчас в его интересах. Народ, двенадцать лет не участвовавший в политике и целый год отдыхавший от войны, жаждет действия. С одной стороны, ему кажется, что он хочет выступать с высокой трибуны, возвышать свой голос, отстаивать свои права и т. д. и т. п., с другой стороны, ему смешна и противна пустая болтовня и грызня разных партий, ему не нужно правительство, тратящее все свои силы на то, чтобы удержаться у власти. Ему нужна твердая рука. Вот почему, несмотря на всё пережитое совсем недавно, народ (то есть людская масса) отвернулся от короля и ринулся навстречу вернувшемуся императору. Еще вчера Наполеону припоминали рекрутские наборы, косвенные налоги, разорение торговцев и подавление беспорядков, а сегодня солдаты и крестьяне кричат: «Да здравствует император!», потому что (в их глазах) он сам вышел из народа. Его деспотия для них – защита от произвола аристократии. Стоит ему только мигнуть, вернее, отвести глаза – и «господ» перебьют во всех провинциях. Но он не хочет стать вождем жакерии[18]18
Жакерия – крестьянское восстание во Франции в 1358 году, на первом этапе Столетней войны (после двух крупных поражений Франции). Жак – самое распространенное имя среди крестьян того времени.
[Закрыть]. Если есть возможность повелевать Францией через Конституцию, да будет так. Публичные дебаты, свободные выборы, подотчетность министров, свобода печати – народ всё это получит. Раньше свобода мешала, а теперь поможет. Пусть сами вводят налоги и объявляют рекрутские наборы. Всё надо начинать сначала, борьба будет трудной, война – долгой, императору нужна народная поддержка. Он стареет, ему уже сорок пять, а сын еще мал. Интересы Бонапартов должны выглядеть как интересы народа.
С этой встречи Констан вышел окрыленным и озадаченным одновременно. Пока твоя мечта парит синей птицей где-то в вышине, ты точно знаешь, что она – там, но стоит ей спуститься на жердочку и прочирикать тебе: «Вот я!», как тебя начинают обуревать сомнения – а точно ли это она? Не ловушка ли это? Допустим, он сейчас раскроет карты, высказав свое кредо, а у Бонапарта окажется припрятан козырь в рукаве – тот же Фуше, и вместо того, чтобы сорвать банк, Бенжамен всё потеряет и отправится в изгнание. А может быть, само его участие в этой игре задумано лишь для того, чтобы его пальцы оказались выпачканы мелом… Что ж, будь что будет – он открывается.
Первый представленный им проект, однако, не был одобрен: императору требовалась видимость свободы, а не сама свобода. Констан почувствовал себя висящим над пропастью, ему было жизненно необходимо на что-нибудь опереться, за что-нибудь ухватиться. Он послал проект своей Конституции Лафайету и госпоже де Сталь, но вышло еще хуже. «Боюсь, что человек, польстивший стольким самолюбиям и интересам, пришедший на смену стольким глупостям, обманет в конце концов, как и пятнадцать лет назад, честные надежды патриотов, – ответил ему генерал. – В стране не может существовать вольности без свободного и широкого представительства, распоряжающегося сбором и распределением государственных средств, издающего все законы, организующего вооруженные силы и способного их распустить, ведущего обсуждение при открытых дверях во время дебатов, публикуемых в газетах, если только существует свобода печати, поддерживаемая гарантиями личной свободы… Прошу принять мое недоверие и тысячу выражений дружбы». Жермена же и вовсе написала какую-то глупость о том, что Бонапарту допустимо служить только на поле боя, но никак иначе. Она могла сейчас думать лишь о двух миллионах, которые так и не успела получить до своего нового изгнания в Коппе; госпожа де Сталь хотела дать эти деньги в приданое Альбертине и требовала от Констана, чтобы он «сделал что-нибудь», ведь это его дочь в конце концов, а из-за нерешенного финансового вопроса ее свадьба с герцогом де Брольи снова откладывается! Если никак невозможно получить сейчас эти два миллиона, пусть Констан хотя бы вернет ей восемьдесят тысяч, одолженные много лет назад! Жермена жаловалась на то, что страдает бессонницей и принимает опиум, «бледна как смерть и грустна как жизнь»… Боже мой, долго ли еще эта женщина будет его мучить! Двадцать лет она его терзает своей любовью, ревностью, изменами и злопамятством! Они давно поняли, что не уживутся вместе; если уж на то пошло, то и у нее новый муж, и он женат, и всё равно она не хочет его отпустить…
Беседы с Бонапартом сделались частыми и продолжительными; император соглашался со многими идеями Констана и обсуждал с ним не только Конституцию. Похоже, что Наполеон наслаждался обществом человека, которого считал достойным себя. Да свершится воля Господня! Жребий брошен. Бенжамен наконец-то ощутил опору под ногами. Ему нравилось «заниматься делами», выступать на Государственном совете.
Постоянно вносимые мелкие изменения преобразили его конституционный проект до неузнаваемости. Как только его напечатали в «Бюллетене законов» двадцать третьего апреля, в него тотчас полетели стрелы критики, но Констан защищал свое изуродованное детище с мужеством отчаяния. О, как люди глупы! Под видом обсуждения «Дополнительного акта» они нападали на самого Констана, изощряясь в каламбурах: «L’inconstant Constant», «la Benjamine»[19]19
«Непостоянный Констан»: слово constant означает «постоянный». Бенжамен означает «младший в семье», «любимчик родителей». Конституцию Бенжамена Констана называли «Бенжаминой» – «Малышкой».
[Закрыть]… Некий «патриот» разразился целой брошюрой, адресованной Наполеону, призывая его не доверять «Протеям, которые два дня назад обожествляли Людовика XVIII», и обратиться к настоящим либералам, боящимся возвращения Бурбонов. Любое слово Констана о Наполеоне тотчас радостно передавали из уст в уста; злосчастную его статью в «Журналь де деба» перепечатали, и она тотчас разошлась по рукам, каждый день Констан получал анонимные письма с оскорблениями. В одном письме был стишок под заголовком «Флюгер»:
Утром я был роялист,
Навеки с королем.
Вечером – бонапартист,
Служил ему пером.
Нос вечно по ветру держу;
Меняя масть тишком,
Кому угодно угожу —
Хоть лилии с орлом.
На вечере у Фуше Бенжамену показалось, что его сторонятся, и он снова пал духом: решительно он приносит несчастье любой партии, к какой ни примкнет! Он отправился ужинать к Рекамье – муж Жюльетты снова разорился, все были печальны…
Глупость заразительна: Констан написал императору длинное письмо с оправданиями, отправил и сразу пожалел об этом. Однако два дня спустя Наполеон беседовал с ним как ни в чём не бывало. Прошлое прошло, надо думать о настоящем. О, это воистину великий человек! В его судьбе нет ничего случайного! Констан поклялся себе искупить свою глупость упорным плодотворным трудом.
Император объявил о выборах в Палату депутатов, хотя «Дополнительный акт» еще не был одобрен плебисцитом. Это не страшно: во Франции не принято отвергать конституции, дарованные монархами. Хорошо бы стать депутатом! Но главное – хорошо бы, чтобы всё это не кончилось так же внезапно, как началось. Война неизбежна, Франция вновь окажется одна против всех, но станет ли нация защищаться? Констан не был в этом уверен.
Восемь дней назад, шестого мая, император отправился в Сент-Антуанское предместье, чтобы осмотреть три мануфактуры на улице Рейи – единственные, которые еще не закрылись. Золотой век Предместья давно миновал, в четыре последние года Империи здесь бедствовали все: от краснодеревщиков до фабрикантов обоев и мыла, от торговца дровами до прядильщицы, работы не было ни для башмачников, ни для столяров, ни для галантерейщиков, даже слесари и строительные рабочие остались без куска хлеба. Добрая половина местных обитателей состояла теперь из стариков, инвалидов, кормилиц и уволенных фабричных, существовавших на подачки властей, получая бесплатный суп и поношенную одежду, одеяла зимой, платьица для первого причастия детей. И вот теперь эти опустившиеся, изношенные нищетой люди, влачившие жалкое существование в убогих домах, на грязных вонючих улицах, вдруг вспомнили свое славное прошлое: взятие Бастилии, штурм Тюильри, погромы в тюрьмах – то время, когда санкюлоты внушали страх и трепет. Помнили они, впрочем, только славу, а не само это прошлое, о котором новое поколение знало лишь по рассказам стариков за бутылкой дурного вина из Фонтараби: «Вот прежде, бывало, мы – ого-го!» Кричали об одном, умалчивая о другом: вспоминали, как расхаживали по улицам, насадив на пики головы аристократов (заказчиков дорогой мебели, тонких тканей и зеркал, дававших работу почти всему Предместью), но забывали, как служили полицейскими осведомителями при Директории, ведь только это занятие и помогало тогда выживать, и как молчали, словно воды в рот набрав, когда Первый консул расправлялся с остатками оппозиции после неудачного покушения на улице Сен-Никез. Император здесь! Люди сбегались со всех сторон, мгновенно образовав огромную тысячеглавую толпу, шумно дышавшую от возбуждения. Пусть он увидит их и поймет, что они – ого-го! Если бы год назад им раздали оружие, когда враг стоял у ворот, они разбили бы русских и пруссаков и снова прохаживались бы по улицам, надев на пики головы Бурбонов!..
Наполеон быстро понял, какую роль ему надо играть. Похоже, никто здесь не догадался, что именно континентальная блокада, которую он насаждал с таким трудом, перекрыла ручеек хлопка, вертевшего колесо трудовой жизни Предместья, – вот и чудно. Что может быть прекраснее судьбы защитника отечества? Сплотимся против общего врага! Вы получите сорок тысяч ружей, отстоим столицу вместе! И пусть предатели трепещут от ужаса, пощады не будет!
– Нация! Свобода! Император! – скандировала толпа под окнами Тюильри.
Шеренги национальных гвардейцев подковой огибали площадь. Что будет, если вдруг начнутся беспорядки? Синим мундирам не поздоровится. При Людовике XVIII Национальная гвардия окончательно превратилась в церемониальные войска. Рабочих и мастеровых в нее не принимали даже рядовыми, зато владельцы вонючих кожевенных мануфактур в предместье Сен-Марсо, вылезшие из грязи в князи и обогатившиеся на военных заказах, командовали батальонами и легионами – красовались в военном мундире с саблей на боку, хотя вряд ли смогли бы пустить ее в ход.
Лафайет предлагал себя в начальники, как двадцать пять лет назад, но и король, и император поостереглись дать ему командование. Генерал продолжал фрондировать в одиночку: с негодованием отказался от титула пэра Франции, не пошел на прием в Елисейский дворец, куда переселился Бонапарт. Зато согласился стать депутатом от департамента Сена и Марна: воля народа – закон. Констану он пояснил, что плебисцит не дает возможности ни обсудить, ни исправить «Дополнительный акт», указать на его несовершенства можно только с трибуны представительного собрания. Глупо умыть руки и сидеть в башне из слоновой кости, когда есть шанс изменить что-то к лучшему. «Тирания превращается в неумолимый бич, когда осуществляется в тени и при помощи законов», – написал в свое время аббат Мабли. Значит, нужны законы, защищающие от тирании!
– Нация! Свобода! Император! Аааа!!!
Наполеон вышел на балкон и махал народу шляпой.
* * *
Увидев на улице Сен-Лазар красные пластроны и черные двууголки с золотым галуном, Якоб струхнул и уже хотел повернуть назад. Он только что вернулся из Руана, куда ездил, чтобы выпустить Глуглу и проверить, доберется ли он до дома за двадцать пять лье. К лапке Глуглу он привязал записку, о которой они условились с Джеймсом Ротшильдом. Вернулся ли голубь? Получил ли Ротшильд записку? В небе трепыхались три птицы – всего три! Хотя Перышко должна сидеть на яйцах…
Полицейские заметили Якоба и пошли ему навстречу; всё, бежать теперь нельзя, так он только навлечет на себя беду. Что могло случиться? Вдруг Глуглу перехватила полиция? Бумажка с непонятными буквами могла показаться им подозрительной. Еще подумают, что они с Ротшильдом шпионы! К тому же в Руане Якоб видел, как полиция срывала с дверей церкви плакаты; люди говорили, что их развесили агенты Бурбонов, каких полно и среди муниципальных советников…
Он попытался придать своему лицу приветливое выражение. Может, заговорить с ними первым? Нет, не нужно. Он идет к себе домой – что тут такого? Он не совершил ничего дурного, его совесть чиста.
Полицейские поздоровались, Якоб ответил. Они спросили, здесь ли он проживает, он подтвердил. Чем он занимается? Конторский служащий. Состоит ли в Национальной гвардии? Нет, он иностранный подданный. Потеряв к нему интерес, пластроны ушли.
Якоба прошиб жаркий пот, сердце стучало. Фух.
На кухне что-то шкворчало – служанка стряпала обед. Завидев молодого хозяина, она обрадовалась и высыпала на него целый ворох местных новостей: где были крестины, где драка, где похороны, – а под конец недовольно буркнула, мотнув головой в сторону окна:
– Вон, ходют, высматривают, выискивают! Кого под ружье поставить, кого отправить землю рыть! У меня тоже выспрашивали: где муж, да кто, да что… Спокою людям нету…
Якоб, наконец, понял, в чём дело. Согласно декрету императора, в каждом округе Парижа создавали патриотические федерации рабочих, клявшихся в верности Наполеону, из которых формировали батальоны стрелков-добровольцев. Во втором округе, где находилась контора Ротшильда, всем взрослым мужчинам полагалось явиться во двор Императорской библиотеки, чтобы их внесли в списки, но Якоб решил, что его это не касается, и никуда не ходил. Вероятно, так подумал не только он, иначе с чего бы полиция пошла по домам? Правда, никакого наказания за уклонение от добровольной службы декрет не предусматривал. Похоже, Наполеон допустил с этим промашку, поверив в силу патриотического порыва. Федераты должны были по воскресеньям являться в свои роты на учения, а многих рабочих и вовсе отправили рыть рвы с брустверами и делать засеки за парижскими заставами. Это совсем не то, что служить в Национальной гвардии. Якоб закрыл глаза и представил себя в синем мундире поверх белого жилета, с портупеей крест-накрест, в шляпе с красным султаном, с обнаженной саблей в поднятой руке. Два его знакомых биржевых маклера – офицеры Национальной гвардии, на учениях они гоняют банкиров и крупных негоциантов… Он потряс головой, отгоняя наваждение, и поднялся на чердак. Перышко сидела на яйцах, Якоб не стал ее трогать; остальные спустились на его свист. Глуглу был без бумажки: значит, Джеймс ее снял… но всё равно лучше зайти в контору и убедиться в этом.
Служанка прокричала снизу, что всё готово, она уходит. Якоб спустился и дал ей новенькую серебряную монету в пять франков, с профилем императора Наполеона в лавровом венке. По ребру монеты шла вдавленная надпись: «Бог хранит Францию».
Глава двенадцатая. Мужское поведение
Альфред с досадой захлопнул книгу и отодвинул ее; впервые ему было жаль потраченных денег. «Антигону» Балланша он купил ради посвящения герцогине Ангулемской. Принцесса недавно побывала в Алосте, устроила смотр войскам герцога Беррийского, посетила фабрики, монастырь, сиротский приют и уехала к дяде в Гент. Альфред видел ее лишь мельком, и всё же его поразило в ней сочетание строгости и изящества, решимости и печали. Гордо посаженная голова на лебединой шее, орлиный нос – и грустные голубые глаза с опухшими веками.
Вся ее жизнь была трагедией. Отрочество, искалеченное Революцией, когда людская жестокость вырывала у нее самых близких людей одного за другим; одиночество, долгие годы изгнания, наконец, триумфальное возвращение на родину – и новое бегство… О принцессе столько говорят, но никто ничего о ней не знает. «Сирота из Тампля», «французская Антигона», «героиня из Бордо», «французская Минерва»… Какими надо обладать достоинством и силой духа, чтобы в семнадцать лет, почти разучившись говорить в одиночном заключении, отказаться от брака с родным братом австрийского императора Франца, давшего ей приют и защиту, потому что он – «враг Франции»! Она уехала в Митаву, где жили тогда Бурбоны, и вышла замуж за двоюродного брата, обрекая себя на бездетность, а после сопровождала дядю Луи Станисласа в его скитаниях, как Антигона своего отца Эдипа. Софокл, несомненно, написал бы прекрасную трагедию, но Балланш!
Он слишком злоупотребляет возвышенным стилем, опошляя при этом характер своих героев. Благородные эпитеты, поражающие своею яркостью и новизной у Гомера, становятся неуклюжими, блёклыми и избитыми в переложении на французский язык – так коротконогая толстушка, думая всех очаровать новым платьем, скопированным с наряда стройной красавицы, вызывает только насмешки. Увы, такова участь всех подражателей, которые стараются перенять оболочку, не заботясь о том, что внутри. Антигона Софокла – дерзкая, страстная, отважная – под пером Балланша превратилась в сладенький идеал, воплощенную добродетель; бунтарка, не пожелавшая держать ответ перед богами, устрашившись гнева человека, – в искупительную жертву. Но даже в этом своем новом подходе Балланш не оригинален: похороны фиванцев при лунном свете скопированы с такой же сцены в «Атале» Шатобриана, в песне жрицы Дафны звучат мысли «Рене»…
«Что бы мы ни делали, по какому бы пути ни пошли, нас вечно ждет разочарование: боль, точно чуткий часовой, охраняет все подступы к счастью». О, как уныло…
Шатобриан, Балланш, лорд Байрон – такие разные, но говорят об одном: о неприкаянности человека, тоскующего по неизведанному счастью, чужому на земле, разочаровавшемуся в людях, не знающему, куда себя деть… Возможно, они и правы, жизнь человека пуста и бессмысленна, но не в этом ли заключается главное испытание, ниспосланное человеку Тем, кто вдохнул в него жизнь, – наполнить ее самому?
Пятого марта, когда Париж всполошила весть о возвращении Наполеона, герцогиня Ангулемская с мужем находились в Бордо, где праздновали годовщину восстановления законной династии. В ту же ночь принц срочно уехал в Ним – принять командование на юге, принцесса же осталась, чтобы оборонять Жиронду и соседние департаменты. Она произносила речи перед солдатами, призывая их исполнить свой долг. К Бордо приближался генерал Клозель, принявший сторону Наполеона; речей уже никто не слушал. Герцогиня покинула город в последний момент, второго апреля, и то не из страха за себя, а чтобы не подвергать опасности своих сторонников. Теперь она уехала в Англию – вести переговоры о закупке оружия для повстанцев в Вандее, в то время как ее муж перебрался в Испанию. Говорят, что Наполеон назвал ее единственным мужчиной в ее семье. Интересно, как об этом узнали в Алосте? Альфред даже с родителями не переписывается: письма могут перехватить. Отправил им только короткую записку о том, что он здоров и доволен собой – они поймут.
Если Бонапарт действительно произнес эти слова, то он – не Креонт. Креонт был беспощаден к Антигоне, потому что своим сопротивлением ему она поставила себя вровень с мужчиной. Наполеон же восхищается храброй женщиной, но не боится утратить свой авторитет. Пока господа литераторы делают своими героями плаксивых мужчин с их душевной скорбью и вселенским разочарованием, жизнь преподносит другие примеры, нужно всего лишь оглядеться вокруг!
Вандейские крестьяне, вооруженные палками и охотничьими ружьями без патронов, храбро вступают в бой с имперскими войсками, вынужденными отступать из-за своей малочисленности. Братья Ларошжаклены сейчас там, штурмуют города, но их успех зависит от того, сумеют ли англичане вовремя доставить им боеприпасы. Крестьяне сражаются за своего короля практически голыми руками, а кадровые военные, клявшиеся за него умереть, бесплодно проводят время за границей, даже не пытаясь ничего предпринять! «Что бы мы ни делали, по какому бы пути ни пошли…» О Боже! Вся надежда на то, что «французская Антигона» станет новою Жанной д’Арк.
* * *
– Вы готовы, господа? – спросил Симонар. – Начинайте!
Констан встал в позицию, ощупывая взглядом своего противника. Куда он хотел бы поразить его? В складку над переносицей? В один из рыбьих глаз? С каким наслаждением он отрезал бы этот громоздкий нос, вечно лезущий не в свои дела, и жирную нижнюю губу, оттопыренную в презрительной усмешке! Горло надежно обмотано галстуком, жилет из плотного сатина на подкладке… Начнем!
Он атаковал первым, они обменялись несколькими зеркальными ударами.
Монлозье ниже ростом, руки у него короче, ноги тоже. Не подпускать его близко, но всегда держать на кончике шпаги… Констан сделал финт, будто бы целясь в правое плечо, потом резко вывернул кисть; Монлозье разгадал его маневр и отбил удар, заслонив левую сторону груди, но не ожидал быстрого движения сверху вниз…
– А!
– Стойте! Бенжамен, остановитесь же!
Монлозье выронил шпагу, из рассеченной правой руки быстрыми алыми ручейками бежала кровь. Подхватив ее здоровой ладонью, он побледнел и зашатался, его лысина покрылась испариной.
– Извольте продолжать! – крикнул Констан.
– Вы с ума сошли? – взвизгнул граф. – Вы же видите, что я опасно ранен!
Констан с досадой отшвырнул шпагу в сторону. Доктор Рекамье перевязывал раненого, Симонар поднял шпагу Бенжамена и вытирал с нее кровь своим платком. Простившись с секундантами и не уделив ни слова своему врагу, Констан один ушел через парк к решетке, выходившей на улицу Шартр, сел в оставленный там наемный экипаж и поехал домой. На улицу Басс-дю-Рампар он наведается вечером… а может быть, и завтра. Странно, но у него нет никакого желания увидеть Жюльетту. Неужели он окончательно исцелился от своей любовной болезни? Хотелось бы верить.
Жюльетта сейчас пребывает в тревоге из-за Каролины Бонапарт, жены Мюрата. Бросив вызов австрийцам, неаполитанский король отступал, терпя одно поражение за другим; за десять дней его армия сократилась вчетверо, разбежавшись в разные стороны. В это время Каролина оставалась в Неаполе, делая вид, что всё не так плохо, в то время как к городу приближались английские военные корабли. Ее мать, дядя-кардинал, брат Жером и дети (старшему, Ахиллу, всего четырнадцать лет), были захвачены, когда пытались бежать из Неаполя в Тулон. Каролине пришлось заключить договор с капитаном Кэмпбеллом, передав англичанам весь флот и арсеналы Неаполя в обмен на позволение своим родным укрыться в Гаэте, а ей самой с детьми выехать в Прованс. Мир рушился, но она оставалась королевой, не превратившись в униженную просительницу: все переговоры велись через графа Каприати, двери дворца оставались закрыты перед захватчиками. Окончательно разгромленный Мюрат пробрался туда ночью, чтобы проститься с женой; на другой день Каролина поднялась на борт английского фрегата «Гигант», а еще два дня спустя в Неаполь явился одноглазый граф Нейпперг с двумя кавалерийскими полками и потребовал выдать ему сестру Бонапарта… Мюрат же как будто пробрался в Канн и предложил свои услуги шурину, но Наполеон не удостоил его ответом.
Вчера вечером все разговоры вертелись вокруг дальнейшей судьбы Мюратов, пока Монлозье не позволил себе отпустить какое-то едкое замечание. Глаза Жюльетты блеснули гневом и тотчас заволоклись слезами обиды; Бенжамен одернул наглого старикашку, призвав его взвешивать свои слова, прежде чем произносить их.
– У меня есть еще десятки таких слов, и я выскажу их все, хотите вы того или нет! – ответил тот надменно.
– Как угодно! – прошипел Констан, стараясь держать себя в руках. – Говорите их хоть сотнями, всё равно им грош цена!
Граф де Монлозье – единственный вулкан в Оверни, который до сих пор извергает зловонную серу. Он умудрился дожить до шестидесяти лет, обличая все режимы, сменявшие друг друга во Франции, и при этом служа им! Став депутатом Национального собрания, он поносил и дворянство, и духовенство, и либеральную партию, а когда депутатов распустили, взял прогонные для возвращения домой, но отправился не в Клермон, а в Кобленц, где тоже наделал себе врагов, уехал в Англию и заслужил там репутацию сумасброда. Он хватался за всё: изучал по верхам право, анатомию, химию, геологию, историю, философию, богословие, оккультизм, магнетизм, физиогномику и думал, что имеет право высказывать свое суждение обо всех этих предметах, не признавая авторитетов. Ему было неважно, на кого нападать и за что бороться, – важна была сама борьба, шум извержения и красота лавовых потоков. Первый консул Бонапарт специально вызвал его во Францию, чтобы начать в газетах кампанию против англичан, и Монлозье не пожалел для них резких слов. Его статьи, к которым всячески привлекали внимание, даже издали отдельной книгой, но граф заявил протест против публикации, на которую он не давал своего согласия. Талейран назначил его атташе при Министерстве иностранных дел. Под видом дипломатических поручений, Монлозье объездил Швейцарию, Италию и Германию, изучая вулканическую деятельность – природную и общественную. Главной его миссией, однако, было написать «Историю французской монархии», четко обозначив роль Революции в крушении общественных институтов и Бонапарта – в их восстановлении. Эта работа затянулась на четыре года, а когда Монлозье, наконец, отослал рукопись на утверждение (Бонапарт к тому времени уже стал императором), то ему не выдали разрешения на публикацию и не вернули сам манускрипт. Главную роль в становлении современной Франции автор приписывал земельной аристократии, нападая на имперских нуворишей, деяния императора хвалил сдержанно; книга была написана броско, ярко, увлекательно, но сумбурно. И всё же Монлозье не постигла участь госпожи де Сталь, наоборот: Наполеон дал ему особое задание – сообщать ему лично о том, что о нём думают в обществе. И граф стал радостно говорить императору правду, пока тот случайно не забыл в карете один из его рапортов, сделав таким образом имя доносчика достоянием гласности. После прихода к власти Бурбонов граф, наконец, издал свою «Французскую монархию», добавив к ней третий том (хотя Людовику XVIII там многое не понравилось), а незадолго до неожиданного возвращения Наполеона с Эльбы присовокупил и четвертый – с предисловием, состоявшим из яростных плевков в императора. Это не помешало ему назвать вернувшегося изгнанника «светилом, в честь которого полагается возводить колонны». И вот теперь этот человек обвиняет Констана в лицемерии!
– Я мог ошибаться в людях и суждениях, но я никогда никого не предавал! – кричал Констан, побагровев от возмущения. – А вы наушничали Бонапарту!
– Я говорил ему то, чего он не желал слышать! – возражал Монлозье. – Я был занозой в его… пальце, а вы – перчатка на его руке!
Ах, перчатка? Отлично! Вот она! Дуэль! Завтра же!
Черт побери, царапина на руке – это слишком мало. Один из них должен был убить другого, иначе какой смысл?
…Шарлотта собиралась в театр. Из какого именно замечания, мельком оброненного им на лестнице, выросла ссора, Констан даже не смог бы сказать. Она устроила истерику со слезами, сказала, что теперь не может никуда пойти в таком состоянии, и это он во всём виноват – он сломал ей жизнь! Бенжамен переоделся и поехал на улицу Басс-дю-Рампар.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.