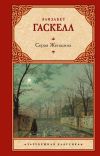Текст книги "Рука и сердце"

Автор книги: Элизабет Гаскелл
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
В один недобрый день джентльмены всей компанией выехали на охоту, однако, сколько я могу судить, удача от них отвернулась; во всяком случае, мистеру Гисборну определенно не везло, и, соответственно, он был не в духе. Возвращаясь верхом с заряженным ружьем (как и полагается бывалому охотнику), он вывернул из лесу аккурат напротив домика Бриджет, и тут дорогу ему перебежал маленький спаниель. То ли из озорства, то ли из потребности выместить на ком попало свое дурное настроение, мистер Гисборн вскинул ружье и пальнул. Уж лучше бы он вовсе разучился стрелять, чем сделал тот роковой выстрел! Пуля достала Миньона, и на его пронзительный визг Бриджет выбежала из дому и увидела, что произошло. Она схватила Миньона в охапку и, плотно сжав губы, осмотрела рану; несчастный пес поднял на нее большие блестящие глаза, слабо вильнул хвостом и лизнул ей руку, уже красную от крови. Мистер Гисборн насупился, ощутив что-то вроде раскаяния:
– Не нужно было выпускать собаку мне под ноги… Разбегался по чужим угодьям, шельмец!
Не успел он договорить, как Миньон вытянул лапы и затих на руках у Бриджет. Любимец ее пропавшей Мэри, единственный верный друг, который все последние годы делил с ней и странствия, и печали! Она встала на пути у мистера Гисборна, и он нехотя обратил на нее свой угрюмый взор и заглянул в ее почерневшие, ужасные глаза.
– Кто меня обидит, тому счастья не видать, – сказала она. – Пусть я одна в целом свете и некому заступиться за меня, но тем вернее услышат мои молитвы святые угодники на небесах. Услышьте же меня, благословенные! Услышьте, как я призываю беду на голову этого дурного, жестокого человека! Он погубил единственное существо, которое любило меня и которое я любила всем сердцем, – бессловесную божью тварь. Накажите его, святые угодники, пошлите на его голову страшное горе! Он мнит, будто я беззащитна, ибо одинока и бедна, но не за таких ли, как я, вступается небесное воинство?
– Ну полно, полно! – оборвал он ее, немного смущенный, но нимало не оробевший. – Вот тебе крона, купишь себе другую шавку. Бери – и хватит проклятий! Я не боюсь твоих угроз.
– Не боишься? – Она еще на шаг приблизилась к нему и перешла с гневного крика на шепот, от которого сын егеря, сопровождавший мистера Гисборна, вжал голову в плечи. – Ну так знай: ты увидишь, как существо, которое ты любишь больше всех на свете и которое одно в целом свете любит тебя, – человеческое существо, но такое же безгрешное и преданное, как мой бедный, загубленный тобой Миньон, – да, ты увидишь, как это существо, напрасно моля о смерти, ибо смерть была бы для него благом, превратится для всех в неописуемый, богопротивный ужас. Да будет так во искупление пролитой тобой крови. Услышьте же меня, святые угодники, и помогите той, у кого нет иных заступников, кроме вас!
Она вскинула вверх правую руку, и несколько капель с ладони, мокрой от крови Миньона, попало на костюм ее обидчика – зловещий знак, подумал про себя его юный провожатый. Но хозяин его только рассмеялся коротким, натужным, презрительным смехом, пришпорил коня и поскакал в усадьбу. Однако, прежде чем проститься с юношей, мистер Гисборн протянул ему золотой и попросил отдать его старухе. Парень не на шутку «испужался», как он сказал мне много лет спустя, и, воротясь к коттеджу, долго топтался снаружи, не решаясь войти. Потом осторожно заглянул в окно и в неверном свете огня в очаге увидел Бриджет: она стояла на коленях перед образом Богоматери Святого Сердца, между ней и Мадонной лежал мертвый Миньон. Судя по ее позе и простертым к Богоматери рукам, она исступленно молилась. Парень еще больше струхнул и просунул золотой в щель под дверью. На следующий день золотая монета была выброшена на помойную кучу; там она и осталась – никто не посмел притронуться к ней.
Меж тем мистер Гисборн, испытывая отчасти любопытство, отчасти неловкость, решил ради собственного спокойствия спросить у сэра Филипа, кто такая эта Бриджет. Разумеется, имени ее он не знал и мог лишь дать ее словесный портрет. Сэр Филип только пожал плечами. Однако старый лакей, снова нацепивший свою ливрею по случаю приезда господ, – мерзавец, которого Бриджет в свои лучшие времена не однажды спасала от увольнения, – поспешил проявить осведомленность:
– Ваша милость изволят говорить о старой ведьме. Бросить ее в воду – ни за что не потонет, помяните мое слово. Давно пора испытать ее водой. Как есть ведьма, эта Бриджет Фицджеральд!
– Фицджеральд! – разом воскликнули оба джентльмена.
Первым нашелся сэр Филип:
– Никаких испытаний водой, Дикон, чтобы я этого больше не слышал! Помилуйте, это, должно быть, та самая женщина, о которой бедняга Старки просил меня позаботиться. Но когда я был здесь в последний раз, она уехала, и никто не мог сказать куда. Завтра же схожу проведать ее. А ты, милейший, заруби себе на носу: ежели кто обидит ее или еще раз назовет ее ведьмой, даром ему это не сойдет… Я привезу сюда своих гончих и пущу их по следу болтливого плута, уж они ему спуску не дадут, затравят, как лисицу. Так что думай наперед, когда говоришь о верной служанке своего покойного лорда!
– Вы не знаете, была у нее дочь? – после долгого молчания спросил Гисборн.
– Не знаю… Хотя… Да! Кажется, была – служила у мадам Старки личной горничной или камеристкой, назовите как хотите.
– Позвольте сказать, ваша милость, – вмешался пристыженный Дикон. – У миссис Бриджет точно была дочь – мисс Мэри, только она уехала за границу и от нее давно уже нет ни слуху ни духу. С тех пор ее мать в уме-то и повредилась, так все говорят.
Мистер Гисборн прикрыл глаза ладонью:
– Нехорошо, что она прокляла меня, – пробормотал он еле слышно. – Ее проклятие может иметь силу… ее, и больше ничье. – Потом, словно опомнившись, он громко произнес слова, оставшиеся для присутствующих загадкой: – Да нет, не может быть! – И велел принести кларета. После чего все джентльмены, включая его самого, устроили веселую попойку.
Глава вторая
Теперь я приступаю к рассказу о той поре, когда моя участь переплелась с судьбами всех тех, о ком я поведал выше. И чтобы вы скорее поняли, каким образом пересеклись наши пути, я должен в нескольких словах объяснить вам, кто я и откуда. Мой отец – младший сын девонширского джентльмена весьма скромного достатка. Старший из братьев отца, моих дядей, унаследовал имение; средний стал преуспевающим адвокатом в Лондоне; ну а мой батюшка подался в священники. Как повелось, у бедного служителя церкви была большая семья, и надо думать, он немало обрадовался, когда мой лондонский дядя, закоренелый холостяк, предложил взять на себя заботу о моем воспитании, с тем чтобы впоследствии я унаследовал его дело.
Я переехал в Лондон и поселился в дядюшкином доме неподалеку от Грейс-Инн; сам дядюшка, его прислуга и все его окружение обращались со мной так, словно я был его сыном. Я искренне привязался к нему и с юных лет начал работать в его адвокатской конторе. Этот почтенный джентльмен заслужил доверие многих сельских сквайров, чьи интересы он успешно защищал. Своего положения он добился не только благодаря знанию закона, хотя учености ему было не занимать, но и благодаря тонкому знанию человеческой природы. Он говаривал, что юриспруденция приносит доход, но удовольствие он получает от геральдики. Когда мой дядя в часы досуга рассказывал историю очередного герба, глубоко проникая в дебри семейной истории со всеми ее трагическими перипетиями, слушателям казалось, будто перед ними разворачивается сюжет какой-то пьесы или романа. Коллеги часто обращались к нему за помощью, если дело касалось спорного имущества и подразумевало охоту копаться в родословной, ибо по этой части он был известный дока. С молодых людей он денег за совет не брал и довольствовался пространным наставлением о пользе генеалогии для практических нужд всякого уважающего себя юриста; но великовозрастных господ с именем и положением он заставлял раскошелиться, а после наедине со мной нещадно честил их за косное невежество в той области, которая представляет собой важную часть нашей профессии. В дядюшкином доме на красивой новой улице – Ормонд-стрит – была чудесная библиотека, хотя все книги в ней говорили только о прошлом, не пытаясь заглянуть в будущее или предложить его разумное устройство. Я трудился не покладая рук – отчасти на благо моей настоящей семьи, по-прежнему сильно нуждавшейся, отчасти потому, что дядя заразил меня своей увлеченностью. Должно быть, я несколько переусердствовал. Так или иначе, в 1718 году я чувствовал себя далеко не лучшим образом, и, глядя на мой нездоровый вид, заботливый дядюшка сокрушенно качал головой.
Однажды в комнате стряпчих в нашей непрезентабельной конторе на Грейс-Инн-лейн дважды прозвенел звонок. Это означало, что я должен явиться пред дядюшкины очи. В дверях его кабинета я столкнулся с джентльменом, которого уже несколько раз видел у нас и о котором мне было известно, что он ирландский адвокат, пользующийся хорошей – незаслуженно хорошей! – репутацией.
Дядюшка задумчиво потирал руки. Две или три минуты я терпеливо ждал, когда он заговорит. Наконец он решительно объявил, что я должен нынче же уложить свой дорожный саквояж и вечером на почтовых отправиться в Западный Честер, куда я прибуду, если все пойдет как надо, к концу пятого дня пути. Там мне следует дождаться пакетбота, который по морю перевезет меня в Дублин. Оттуда я должен проследовать в городок с названием Килдун и разузнать, нет ли в тамошних краях живых потомков младшей ветви некоего рода, поскольку им по женской линии причитается крупное наследство. Встретившийся мне ирландский адвокат, успев наскучить этим делом, хотел было без лишних проволочек признать законным наследником единственного претендента, заявившего свои права на имущество. Но когда он разложил генеалогические таблицы и древа перед моим дядей, тот указал ему на такое множество других обладающих преимущественными правами претендентов, что ирландец схватился за голову и стал умолять избавить его от этой мороки, – и дело о наследстве перешло к нам. В молодые годы дядюшка сам помчался бы в Ирландию и по крупицам собрал бы все, что могло прояснить запутанные обстоятельства, – до последнего клочка бумаги или пергамента, до обрывков изустных семейных преданий. Однако теперь ему приходилось считаться с возрастом и подагрой, и потому он послал меня.
Так я оказался в Килдуне. Вероятно, мне передался дядюшкин охотничий азарт, и, взяв генеалогический след, я не могу остановиться на полпути. Очень скоро я обнаружил, что мистер Руни, ирландский адвокат, натворил бы бед, ежели объявил бы наследником первого подвернувшегося претендента: в Ирландии проживало целых три более близких родственника последнего владельца родового имения. Мало того, в предыдущем поколении имелся еще более близкий родственник, которого раньше никто в расчет не принимал и о самом существовании которого семейные адвокаты, как видно, не подозревали, покуда я не выудил его на свет из памяти какой-то старухи, доживавшей свой век приживалкой у богатой родни. Что же сталось с моим наследником? Я как заведенный метался в поисках новых сведений, раз даже переплыл Ла-Манш и вернулся из Франции с неким туманным предположением, которое, однако, привело меня к поразительному открытию: оказалось, что обнаруженный мной прямой потомок, человек буйного нрава и беспорядочного поведения, оставил после себя сына – тот по своим моральным качествам был еще хуже отца; что упомянутый сын, Хью Фицджеральд, женился на красавице-горничной, прислуге в доме Бирнов, стоявшей много ниже его по статусу, но неизмеримо выше по достоинству; что вскоре после женитьбы он умер, а его жена с ребенком (мальчиком или девочкой, мне установить не удалось) вернулась под крыло прежних хозяев. Во время моего расследования тогдашний глава семейства Бирн служил в полку герцога Бервика, и мне пришлось больше года дожидаться ответа на свой запрос. Наконец я получил короткое, заносчивое по тону письмо. Я полагаю, что Бирн, как солдат, испытывал презрение к штатскому; как ирландец – ненависть к англичанину; как якобит – ревность ко всякому, кто благоденствовал под властью «узурпатора». Бриджет Фицджеральд, сообщил он, была всецело предана его сестре и разделила ее судьбу, последовав за миссис Старки на континент, а после в Англию. Его сестра и муж сестры умерли; о Бриджет Фицджеральд ему ничего не известно – о ней мне лучше справиться у сэра Филипа Темпеста, опекуна его племянника. Я опускаю здесь язвительные полунамеки, посредством которых честный служака желал донести до меня больше, чем содержалось в словах, поскольку все это не имеет значения для моего рассказа. Сэр Филип сообщил, что регулярно выплачивает содержание одной пожилой женщине по фамилии Фицджеральд, проживающей в деревне Колдхолм близ усадьбы Старки, но есть ли у нее потомство, сэр Филип сказать не мог.
И вот серым мартовским утром я увидел перед собой места, описанные в начале этой истории. Я спросил дорогу к коттеджу Бриджет, но далеко не сразу понял ответ, прозвучавший на непривычном мне грубом диалекте.
Кое-как я уразумел, что мне нужно держать путь на далекие огни в окнах господской усадьбы, где жила семья фермера, исполнявшего обязанности стюарда; в ту пору молодой сквайр для расширения своего кругозора совершал вояж по континентальной Европе. В конце концов я разыскал домик Бриджет – вросшую в землю замшелую лачугу. Забор, некогда окружавший небольшой участок, давно истлел, и молодая лесная поросль придвинулась к самым стенам, так что в доме, должно быть, вечно царил полумрак. Хотя по лондонским понятиям время было не позднее, около семи часов вечера, на мой настойчивый стук никто не откликнулся, из чего я заключил, что хозяйка легла спать. Пришлось мне ни с чем идти назад три мили до ближайшей церкви, которую я приметил по дороге сюда; несомненно, где церковь – там неподалеку и ночлег для странника, рассудил я. На рассвете я вновь отправился в Колдхолм по тропинке через поля, поскольку приютивший меня фермер сказал, что так оно выйдет короче, чем в обход по дороге. Утро выдалось холодное, и мои башмаки оставляли темные следы на заиндевелой земле. Проходя мимо густого мелколесья, я увидел старую женщину – и как почувствовал, что она-то мне и нужна. Я остановился и стал наблюдать за ней. Вероятно, в прежние годы она была высока ростом, определенно выше среднего: когда она распрямилась, в ее статной фигуре и горделивой осанке я угадал былую уверенность и силу. Через минуту-другую она снова низко наклонилась к земле, словно что-то искала, и медленно двинулась прочь от меня, вскоре скрывшись в зарослях. А я, по-видимому, сбился с пути и дал крюк, несмотря на все наставления старожила; во всяком случае, когда я подошел к коттеджу, эта женщина уже была там – без каких-либо признаков усталости или одышки после быстрой ходьбы. Но я немного забегаю вперед. Дверь в дом была приоткрыта. Я постучался, и предо мной возникла ее величавая фигура. Она молча ждала моих объяснений. Из-за полного отсутствия зубов ее рот провалился, отчего нос почти уткнулся в подбородок; над глубоко запавшими глазами нависали прямые седые брови, из-под белых волос проглядывал низкий морщинистый лоб. Я слегка растерялся, не зная, как лучше ответить на ее немой вопрос.
– Если я не ошибаюсь, вы Бриджет Фицджеральд?
Она чуть наклонила голову в знак того, что я не ошибся.
– У меня есть дело до вас. Позволите войти? Мне, право, неловко заставлять вас стоять.
– Обо мне не беспокойтесь, – сказала она.
Сперва я подумал, что она не пустит меня под свой кров, но после короткого колебания – проникнув испытующим взором мне прямо в душу – она пригласила меня в дом и откинула с головы капюшон своей широкой серой накидки, до той минуты частично скрывавший ее лицо. Обстановка в доме была простая и скудная. Но перед образом Богоматери, о котором я говорил выше, стоял букетик свежих примул, и я сразу понял, зачем она спозаранку отправилась в ближний лес и что искала у себя под ногами среди первых зеленых побегов. Она перекрестилась, поклонилась Мадонне, потом повернулась ко мне и предложила сесть. Все это время я внимательно изучал ее лицо и пришел к заключению, что на нем не написано ничего порочного, вопреки ожиданиям, подогретым россказнями моего вчерашнего хозяина. Своенравие, вспыльчивость, непреклонность, даже суровость – все это было в ее лице, изборожденном, вернее, исполосованном мукой горьких одиноких слез, но не было в нем ни зловредности, ни коварства.
– Да, я Бриджет Фицджеральд, – молвила она, прервав молчание.
– И ваш покойный муж – Хью Фицджеральд, бывший владелец имения Нок-Махон близ Килдуна в Ирландии?
В темной глубине ее глаз забрезжил слабый огонек.
– Верно.
– В таком случае позвольте задать следующий вопрос: есть ли у вас дети?
Глаза ее полыхнули огнем. Она хотела ответить, но не смогла, – казалось, в горле у нее стоял ком. Прежде чем говорить с незнакомцем, она должна была успокоиться – или не говорить вовсе. После минутной борьбы с собой она сказала:
– У меня была дочь… Мэри Фицджеральд… – И тут ее сильная воля сломалась, верх взяла страстная натура, и Бриджет дрожащим голосом взмолилась: – Ох, не томите!.. Что с ней? Что с ней?..
Она встала с кресла, схватила меня за руку и заглянула мне в глаза. Прочитав в них полнейшее неведение касательно судьбы ее чада, она, как слепая, вернулась на место. Некоторое время Бриджет сидела, раскачиваясь взад-вперед, и тихо стонала, словно позабыв обо мне, а я не решался снова заговорить с этой одинокой, странной женщиной, внушавшей мне невольный ужас. Потом она упала на колени перед образом Богоматери Святого Сердца и вознесла ей молитву, употребляя цветистые, поэтические имена Пречистой Девы из католической литании:
– О Роза Таинственная! О Башня Давида! О Звезда Утренняя! Отчего не пошлешь утешения моей измученной душе? Ужели мне вечно терзаться надеждой? Даруй же мне хотя бы приговор!..
Так она причитала и убивалась, не обращая на меня ни малейшего внимания. Ее мольбы становились все неистовее и вскоре, на мой взгляд, подошли уже к опасной черте безумия и богохульства. Не в силах больше терпеть, я спросил наугад, лишь бы прервать ее монолог:
– У вас имеются основания полагать, что дочь ваша умерла?
Она поднялась с колен и стала передо мной:
– Мэри Фицджеральд умерла. Живой я ее не увижу. Никто не говорил мне этого, но я знаю, что ее нет в живых. Я так мечтала увидеть ее! А чего жаждет мое сердце, то должно исполниться – такова его страшная сила, и эта сила давно уже привела бы ко мне мою дочь, даже если бы ее занесло на другую сторону света. Я только тому удивляюсь, что желание моего сердца не вызвало ее из могилы, чтобы она предстала предо мной и услышала от меня, как я люблю ее… Ибо мы не по-доброму расстались с ней, сэр.
Я располагал лишь сухими фактами, необходимыми для расследования дела о наследстве, однако горе безутешной женщины тронуло меня, и, должно быть, она это заметила.
– Да, сэр, она не знала, что я люблю ее, и расстались мы не по-доброму, и, боюсь, в душе я желала ей неудачи, когда она покинула меня, но это не значит… О Пресвятая Дева! Моя душа открыта для Тебя, Ты ведаешь, я хотела только одного: чтобы дочь возвратилась домой, в материнские объятия, и поняла – вот счастливейшее место на земле! Но мои желания страшны, их великая сила бежит впереди моих дум… И теперь для меня нет надежды – если мои неосторожные слова накликали беду на Мэри!..
– Погодите, – сказал я, – вы не можете знать наверное, что она мертва. Ведь в начале нашей встречи вы ясно выразили надежду на добрую весть. Выслушайте же меня.
И я изложил ей все то, о чем успел рассказать вам, намеренно сухо, взывая не к чувствам ее, но к способности мыслить логически – коей она, по некоторым признакам, должна была обладать, пока горе и годы не сломили ее, – и направляя ее внимание на фактические детали, чтобы не дать ей сорваться в пучину хаоса, в бездонную пропасть неутешной тоски.
Она слушала меня сосредоточенно, время от времени вставляя вопросы, которые только подтверждали мою догадку о ее природном уме, все еще довольно остром, несмотря на муки одиночества и загадочного самобичевания. Затем она в немногих словах поведала мне о том, как скиталась по дальним странам в напрасных поисках своей пропавшей дочери – по городам и весям, по военным лагерям и полям недавних сражений. Знатная дама, взявшая Мэри к себе камеристкой, умерла вскоре после той даты, которая значилась на последнем письме дочери; муж этой дамы, иностранный офицер, служил тогда в Венгрии, куда Бриджет и направилась, но его там уже не застала. Между тем до нее стали доходить неясные слухи, будто бы Мэри сделала блестящую партию, и это возбудило у матери новые сомнения: быть может, ее дочь, скрывшаяся под новым именем, где-то совсем рядом, быть может, она, Бриджет, ежедневно со всех сторон слышит о ней, сама о том не подозревая… Постепенно ею овладела мысль, что Мэри могла давно вернуться в Колдхолм, в Болендскую впадину, в Ланкашир, в Англию. И Бриджет устремилась домой, обнаружив лишь пустой коттедж и заброшенный очаг, лишь свои обманутые надежды. С тех пор она не трогалась с места, рассудив, что если Мэри жива, то где, как не здесь, она станет искать свою мать?
Я записал кое-какие подробности из услышанного, полагая, что они могут мне пригодиться, ибо уже ощутил странную настоятельную потребность продолжить свои разыскания. Словно в душу мне проник таинственный приказ возобновить поиски Мэри Фицджеральд с того места, где их оборвала ее мать, – причем решение это созрело отнюдь не под действием тех причин, какие обычно мною двигали (как то желание в угоду дядюшке расставить все точки над «i» в запутанном деле или забота о моей собственной адвокатской репутации), а под давлением неведомой силы, завладевшей моей волей и побуждавшей меня идти в указанном направлении.
– Я сам поеду туда, – заявил я, – и сделаю все возможное, чтобы найти ее. Положитесь на меня. Я разведаю все, что только можно разведать. И вы узнаете все, что я сумею открыть с помощью денег, усердия, ума и знаний. Да, нельзя исключить вероятность того, что ваша дочь умерла; но у нее мог быть ребенок.
– Ребенок! – вскричала она, словно такая мысль не приходила ей в голову. – Ты слышишь, Пречистая Дева! Он говорит, у моей дочки родилось дитя… Почему же Ты не надоумила меня раньше, когда я днем и ночью молила Тебя послать мне знак!
– Постойте, это только предположение, – поспешно уточнил я, – которое вытекает из вашего рассказа. Вы говорите, что, по слухам, она вышла замуж…
Но ей не было дела до моих оговорок – и до меня самого, если на то пошло: забыв обо всем на свете, она в каком-то экстатическом возбуждении молилась Богородице.
Из Колдхолма я прямиком направился к сэру Филипу Темпесту. Его отец состоял в дальнем родстве с женой вышеупомянутого иностранного офицера, графа де ла Тур д’Овернь, и я рассчитывал, что сэр Филип поможет мне выйти на след графа. По опыту я хорошо знал, как освежают память вопросы, задаваемые при личной беседе, и намеревался использовать этот шанс, дабы после не упрекать себя в нерадивости. Однако сэр Филип отбыл за границу, и, значит, мне так или иначе предстояло набраться терпения. Поэтому я решил последовать совету моего дяди, который он дал мне, узнав, что я изнурил себя физически и душевно, гоняясь за блуждающим огоньком надежды, а именно ехать в Харрогейт и там спокойно дожидаться ответа сэра Филипа. Место было выбрано не случайно – поблизости от деревни Колдхолм и неподалеку от имения сэра Филипа Темпеста, если бы тот неожиданно вернулся в Англию и я пожелал бы расспросить его лично. Впрочем, дядюшка настоятельно рекомендовал мне на время забыть о делах.
Легко сказать! Однажды я видел, как внезапный порыв ветра погнал вперед маленького ребенка, еще недавно беззаботно гулявшего на общинном лугу, и бедный малыш все бежал и бежал, не в силах противиться напору стихии. Вот так и я в моем тогдашнем душевном состоянии: нечто необоримое, чему я не мог противиться, гнало мои мысли, вынуждая их безостановочно бежать то в одном, то в другом направлении, если впереди маячил призрачный шанс разгадки. Когда я шел прогуляться по окрестным холмам, мои глаза не замечали умиротворяющей красоты вересковых пустошей; когда я раскрывал книгу, смысл прочитанных слов не проникал в мое сознание. И даже ночью, во сне, меня настигали все те же неотвязные мысли, как будто ни о чем другом я уже и думать не мог! Такое душевное напряжение рано или поздно должно было сказаться и на моем физическом состоянии. Я заболел, но мой недуг, несмотря на мучительную боль, оказался благом для меня, ибо заставлял жить сегодняшним страданием, а не бесконечными умопостроениями. Мой добрый дядюшка приехал ухаживать за мной, и едва непосредственная угроза для моей жизни миновала, я на целых два или три месяца погрузился в сладостную праздность. За все это время я ни разу не спросил – страшась снова впасть в умственную горячку, – ответил ли сэр Филип на мое письмо. Дядюшка нянчился со мной почти до середины лета, после чего вернулся в Лондон к делам. К тому времени я полностью выздоровел, но еще недостаточно окреп, и он оставил меня набираться сил. Через пару недель встретимся в Лондоне, постановил он, тогда вместе разберем почту и все обсудим. Я понимал, что кроется за этим обещанием, и содрогался при мысли о возможных новостях, прямо связанных с моим расследованием, а значит, и с первыми симптомами моего недуга. Но впереди у меня было полмесяца целительных прогулок по йоркширским верещатникам.
В те дни в Харрогейте была всего одна гостиница – рядом с целебными источниками. Несмотря на то что она постоянно, хотя и беспорядочно, расширялась, желающих посетить курорт год от года становилось все больше, и те, кому не хватило места в гостинице, селились где-нибудь неподалеку в фермерских домах. Но поскольку сезон по-настоящему еще не начался, я был чуть ли не единственным постояльцем и ощущал себя скорее гостем в частном доме: за время моей продолжительной болезни у меня сложились самые близкие отношения с хозяйской четой. Хозяйка по-матерински пеняла мне за то, что я не вернулся с прогулки засветло или не поел вовремя; хозяин учил меня разбираться в винах и урожаях и делился со мной разными секретами верховой езды – как известно, йоркширцы знают толк в лошадях. Бродя по окрестностям, я изредка встречал кого-нибудь из приезжих. Еще до того как дядюшка оставил меня одного, мое любопытство возбудила (хотя это сильно сказано, учитывая вялость моих болезненных реакций) одна молодая леди необыкновенной наружности, которая всегда появлялась в сопровождении пожилой компаньонки – женщины, по-видимому, простой, но приятной. Завидев незнакомца, молодая леди опускала вуаль, и всего лишь раз или два, нечаянно столкнувшись с нею на повороте, мне довелось мельком увидеть ее лицо. Не стану утверждать, что оно сразило меня красотой, хотя впоследствии я находил его прекрасным. На нем лежала тень глубокой, неизбывной печали, и это страдальческое выражение, омрачавшее бледное, кроткое личико, неотразимо подействовало на меня, заронив во мне не то чтобы любовь, но безмерную жалость к ней, такой молодой и уже такой несчастной. На лице ее компаньонки застыло схожее выражение – тихой меланхолии, безысходности и какой-то глухой обиды. Я спросил хозяина, кто эти дамы. Он сказал, что в здешних краях их знают под фамилией Кларк и что они выдают себя за мать и дочь, но лично он ничему не верит – ни тому, что имя настоящее, ни тому, что они близкие родственницы. Некоторое время назад они поселились на ферме в удалении от города. Владельцы фермы держат рот на замке; знай себе твердят, что женщины им хорошо платят и ничего худого не делают, так с какой стати им, фермерам, рассказывать каждому встречному и поперечному про всякие странности – если бы они и случались? Это значит, как проницательно заметил хозяин гостиницы, что дело нечисто; а еще он слыхал, будто старшая из женщин приходится родней тому фермеру, который предоставил им кров, потому-то никто не хочет выносить сор из избы.
– Как вы думаете, – спросил я, – отчего они ведут такой уединенный образ жизни?
– Не знаю, не знаю. Только люди говорят, будто бы молодая леди иногда чудит, даром что с виду тихоня.
Как ни просил я его поделиться со мной подробностями, он наотрез отказался, хотя любил поговорить и поддержать компанию, и я, признаться, усомнился в его осведомленности.
После дядюшкиного отъезда я от нечего делать стал наблюдать за дамами, повсюду увиваясь за ними, словно маньяк, и даже их неприкрытая досада, вызванная моей назойливостью, не могла отрезвить меня. Однажды мне повезло оказаться поблизости, когда на них чуть было не набросился бык (в те времена пастбища не огораживали, и дамам угрожала нешуточная опасность, не зря они испугались). Это далеко не самый важный эпизод в моем рассказе, и я упоминаю о нем не для того, чтобы порисоваться в роли спасителя, а лишь для того, чтобы объяснить, с чего началось наше знакомство; и если я настойчиво искал его, то дамы согласились на него с большой неохотой, единственно под давлением вышеупомянутого обстоятельства. Боюсь, теперь я не скажу вам наверное, когда мое неуемное любопытство перешло в более нежное чувство, знаю только, что недели через полторы после дядюшкиного отъезда я был уже страстно влюблен в «госпожу Люси», как называла ее компаньонка, тщательно избегая любых фамильярных обращений, подразумевающих равенство статуса. От меня также не укрылось, что пожилая дама, миссис Кларк, сперва явно недовольная моим вниманием, скоро сменила гнев на милость и даже воодушевилась, видя мое искреннее расположение к девушке. Судя по всему, тяжкое бремя единоличной заботы угнетало ее, и она не скрывала своей радости, когда я появлялся у них на ферме. Она, но не Люси. А между тем я никогда еще не встречал девушки милее, хотя во всем ее облике сквозило уныние и она робела и чуралась меня. С первого взгляда на нее я понял: что бы ни было причиной ее несчастья, в том нет ее вины! Мне стоило большого труда вовлечь ее в беседу, но если она, забывшись на миг, отвечала мне, на ее лице отражался тонкий ум, а ее ласковые серые глаза, когда они ненадолго встречались с моими, светились такой серьезностью и доверием!.. Я находил любой предлог, лишь бы увидеться с нею. Чтобы доставить удовольствие Люси, я собирал полевые цветы; придумывал все новые и новые прогулки по живописным местам; вечерами неотрывно смотрел на небо, мечтая о том, что какой-нибудь необычайный красочный эффект даст мне повод выманить миссис Кларк и Люси из дому – мы вместе взойдем на холм и будем любоваться бескрайним пурпурным сводом над головой…